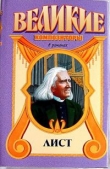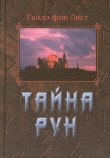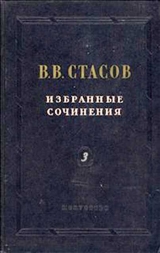
Текст книги "Лист, Шуман и Берлиоз в России"
Автор книги: Владимир Стасов
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Спустя полтора года дела Берлиоза были еще в худшем положении. У него было много долгов и ничего впереди. И тогда, и после Берлиоз много раз повторял, что ничто его так не поразило, как полное равнодушие его соотечественников к его «Фаусту», данному в декабре 1846 года. И toi да он вздумал поправить свои обстоятельства путешествием в Россию. Глинка пишет в своих «Записках», что познакомился с Берлиозом, «который в то время помышлял о путешествии в Россию, надеясь на обильную жатву не одних рукоплесканий, но денег… По возможности я содействовал успешному путешествию его в Россию…»
У Берлиоза денег не было, и он в состоянии был осуществить путешествие это только при помощи разных друзей своих (редакторов, книгопродавцев, инструментальных мастеров), которые сами надавали ему денег взаймы, кто тысячу, кто полторы, кто 500 франков. Французские журналы провожали его, по-всегдашнему, насмешками и карикатурами: так, например, в карикатуре журнала «Charivari» представлен был Берлиоз лежащим в постели; ему на голову ставят огромные куски льда; внизу текст говорил, что «привычка Берлиоза покачивать головой доказывает его гиперборейское происхождение»; что «летом приходится каждую минуту лить ему ведра льду на затылок»; что «в его симфониях всегда был слышен белый медведь».
Накануне первого берлиозовского концерта в Петербурге кн. Одоевский напечатал в «С.-Петербургских ведомостях» 2 марта 1847 года целую статью под заглавием: «Берлиоз в Петербурге», которою старался приготовить нашу публику к симпатическому приему великого французского музыканта. Он указывал даже на ту его заслугу, что он понял Глинку и употреблял все усилия на то, чтобы французы его поняли.
«Прибавим, как вещь довольно замечательную, – говорил кн. Одоевский, – что в Западной Европе Берлиоз был в числе тех немногих, которые проведали о музыке Глинки; Берлиоз поспешил исполнить в своем знаменитом парижском „Фестивале“ несколько нумеров из „Жизни за царя“, и отзывы лучших парижских критиков о музыке Глинки высказали все их уважение к его оригинальным, самобытным мелодиям, высказали все то, о чем вполовину не догадались наши журналы и чему бы им не худо поучиться. Порыв Берлиоза, столь неожиданный, столь странный в Париже, для которого мы еще чуть-чуть что не Китай, – не удивил нас. Великий талант всегда понимается великим талантом…»
В этой статье своей кн. Одоевский, до некоторой степени, руководствовался письмом, которое написано было ему, около этого времени, Берлиозом и оригинал которого находится ныне в императорской Публичной библиотеке.
«Вот несколько сведений из числа тех, что вы так любезно у меня спрашивали, – сказано в этом письме.
Г-н Берлиоз, только что приехавший в С.-Петербург, предполагает дать несколько концертов, где будут исполнены крупные отрывки из его важнейших сочинений, если не будет возможности исполнить их целиком. В числе прочих музыкальных произведений, с которыми он намерен нас познакомить, будут исполнены: „последнее его произведение“, вызвавшее нынешней зимой в Париже такой энтузиазм, что автору его, несмотря на то, что он француз, были сделаны овации необычайные. Артисты и литераторы, под председательством барона Тайлора, [9]9
Барон Тайлор, один из замечательнейших любителей, покровителей и распространителей искусства во Франции, занимал в то время должность генерал-инспектора изящных искусств во Франции и имел громадный вес среди художников и публики. – В. С.
[Закрыть] устроили ему банкет, на котором было решено устроить подписку (тотчас же сполна и собранную), с целью выбить медаль в память первого исполнения этого произведения. Кроме того, мы услышим большую симфонию с хором „Ромео и Джульетта“ и знаменитую „Фантастическую симфонию“, посвященную императору Николаю I. Симфония же „Ромео и Джульетта“ посвящена, как известно, автором знаменитому Паганини, после того, как этот великий виртуоз однажды написал ему письмо, при котором прислал ему 25 000 франков, как свою долю подписки на концерт, где Паганини услышал в первый раз „Фантастическую симфонию“.
Любопытная особенность этого письма та, что здесь Берлиоз говорит о том энтузиазме, с которым была будто бы принята парижской публикой, зимой с 1846 на 1847 год, его „описательная симфония“ (или, как он также называл: „драматическая легенда“) – „Проклятие Фауста“ („Damnation de Faust“). Такое утверждение его письма к кн. Одоевскому идет совершенно в разрез с известными до сих пор фактами, сколько мы их знаем и из „автобиографии“ Берлиоза, и из всех его писем. Из всех этих подлинных документов известно, напротив, что „Фауст“ Берлиоза был принят парижскою публикою очень худо, и бедный Берлиоз так набедствовался от этого, что, можно сказать, совсем погибал, особенно от долгов на огромные расходы по концерту. Он просто не знал, что начать, за что взяться. Жюльен подробно рассказывает это в своей известной биографии Берлиоза и в заключение прибавляет: „Берлиоз говорил и повторял сто раз, что в продолжение всей его художественной карьеры никогда ничто его так глубоко не уязвляло, как неожиданное равнодушие публики к его „Фаусту“. И его разочарование было особенно сильно потому, что упало на него тотчас после громадных оваций, только что полученных им в Германии. Сверх того, он был разорен, задавлен долгами на значительную сумму, у него не было в виду никакого спасения. И тут вдруг ему представился совершенно неожиданный случай выйти из затруднения: ему стоило только предпринять путешествие в Россию… Он так и сделал, поехал и привез из Петербурга и Москвы новую громадную славу и несколько тысяч рублей, давших ему возможность разом покрыть все свои неудачи и все свои долги от „Фауста“. Итак, письмо Берлиоза к кн. Одоевскому говорило неполную правду, пробуя уверить русскую публику, что „Фауст“, из которого лучшие страницы он готовился выполнить тогда в Петербурге, будто бы имел громадный успех в Париже. Этого не было. Но нельзя сказать, чтобы Берлиоз прямо писал небывальщину, высказывал полную ложь. В то время, как тоже и раньше и позже его, около Берлиоза всегда стоял кружок людей, истинно ему преданных, искренно любящих его музыку, да сверх того способных понимать истинную талантливую натуру. Таких знатоков было, конечно, не слишком много, но количество восполнялось качеством и значением тех людей: в их числе находился весь сонм настоящих, значительнейших музыкантов тогдашнего Парижа, с Листом и Мейербером во главе, вся компания лучших, крупнейших и талантливейших художников, поэтов и любителей, в числе их такие люди, как Гейне, Ж. Санд, Тайлор и многие другие. Вот эти-то, конечно, люди успокаивали и радовали Берлиоза своим горячим сочувствием; они-то, конечно, сложились и выбили в честь его свою почетную медаль. Берлиозу было чем гордиться перед Россией. Впрочем, поклонение и восторги серой, мало понимающей толпы тоже явились однажды на свет, в свое время, только попозже, лет 40 спустя, когда Берлиоз давно уже успел належаться в могиле.
Через день после концерта он напечатал в „С.-Петербургских ведомостях“ (5 апреля) пространную статью, в виде письма к Глинке, где говорил:
„Где ты, любезный друг? Зачем тебя нет с нами? Зачем ты не делишь наслаждений со всеми нашими, в ком только есть хоть одна музыкальная струнка? Берлиоза поняли в Петербурге! Поняли, несмотря на всю художественную хитрость его контрапунктов, поняли, несмотря на наводнение итальянских кабалетт, которое разжидило наше строгое славянское чувство, – поняли, несмотря на скудость нашей музыкальной критики, которая не подвинула ни на шаг музыкального образования, а разве сбила его с толку… С девственным, неподдельным восторгом публика поддалась влиянию Берлиоза… Берлиоз сделал в музыке с десяток шагов вперед, – казалось бы беда! – но, к счастью, публика уже разуверилась в разглагольствиях рыцарей гитары и балалайки! Она начинает больше верить своему музыкальному инстинкту, и хорошо делает, а между тем кое-где пробиваются и лучи сознательного убеждения. Нигде это не было так заметно, как в концерте Берлиоза… Огромная зала дворянского собрания была полна донельзя; разумеется, «Венгерский марш» и «Балет сильфов» были повторены по требованию публики. Это меня не удивило. Но веришь ли? Чудный хор в первой части «Фауста», «Christus resurrexit», был выслушан и вполне оценен публикою, несмотря на его строгие, из меди вычеканенные формы. Я весьма боялся за хор солдат, который соединен столь счастливым контрапунктом с хором студентов… Этот хор, довольно трудный для уразумения, был принят с единодушным рукоплесканием. Сцена из «Ромео и Юлии», где меланхолический напев Ромео сливается с блестящими, игривыми фразами бальной музыки в доме Капулетти, – эта сцена была также осыпана рукоплесканиями… Берлиоз был вызван по крайней мере раз 12 в продолжение концерта… С каким наслаждением слушаешь такую гениальную музыку во второй раз, как и внутреннее бессознательное чувство и сознательное убеждение сливаются в единство! Признаюсь, многие места в «Фаусте» и «Ромео» явились мне во всей своей прелести лишь тогда, когда я услышал их во второй раз. Тем более радовал меня общий восторг нашей публики, для большинства которой берлиозова музыка была совершенною новостью. Должна быть какая-то особая симпатия между берлиозовой музыкой и нашим врожденным музыкальным чувством: иначе нельзя объяснить этого явления… Давно ли говорили, что нет уже ничего нового в музыке, что все исчерпано, избито и разбито! У Берлиоза все ново, и нет струны в его гениальной фантазии, которой бы не вторила струна в душе слушателя, струна новая, которой существование мы и не подозревали! Сколько еще непочатых сокровищ таится в глубине человеческих ощущений!..
В противоположность этому отзыву истинного знатока и достойного всякого уважения музыканта-любителя, те же «С.-Петербургские ведомости» напечатали, спустя несколько дней, отзыв своего фельетониста-любителя, который говорил (№ 55, 9 марта):
«Нам кажется, и мы это выговариваем с трепетом и смирением, что музыка Берлиоза своебытна, оригинальна с намерением и даже несколько изысканна в своих эффектах… Вообще нам кажется, что музыка Берлиоза говорит более уму, нежели сердцу, внушает более смущенного удивления, чем светлого восторга. Это музыка XIX столетия, это энергическое, мощное олицетворение, в звуках, нашего взволнованного времени, с его страданиями без верований, с его стремлениями без цели, с его печалями без покорности, с его радостями без веселья. В этом смысле в музыке Берлиоза есть что-то глубоко значительное, что-то титановское, что-то невольно поражающее страхом и недоумением. Тут вечно непрерывная борьба, но нет ни грустного стона заточения, ни восторженного крика освобожденной души. Тут нет ни победителя, ни побежденного, нет, в особенности, той трогательной стихии примирения, которая светит и успокаивает в творениях великих музыкальных поэтов… Как ни грустно это выговорить, но нельзя не сознаться, что современное искусство, хотя и достигло самой усовершенствованной пластической отделки, однако в то же время отуманено от недостатка той живительной искры, которой источник не на земле…» (Впрочем, автор, какой-то С, хвалил два дня многие из отдельных частей берлиозовских сочинений: «Венгерский марш», «Пляску сильфов», отрывки из «Ромео».)
Сам Берлиоз остался очень доволен и публикой, и концертами, и значительными сборами.
«Когда кончился первый концерт, – рассказывал он в своих „Мемуарах“, – когда кончились объятия и я выпил бутылку пива, – я решился спросить о финансовом результате опыта: „18 000 франков“. Концерт стоил 6 000, мне осталось 12 000 чистой прибыли. Я был спасен. Тогда я машинально обратился на юго-запад и, глядя по направлению к Франции, не мог удержаться, чтобы не пробормотать: „А, любезные парижане!“ Спустя полторы недели я дал второй концерт с таким же результатом. Я был богат. Потом я поехал в Москву, где меня ожидали материальные затруднения, довольно странные. [10]10
Берлиоз разумеет здесь тот странный анекдот, где предводитель дворянства отказался дать ему залу дворянского собрания, потому что Берлиоз не мог и не брался сам играть на каком-нибудь инструменте в концерте в пользу самого дворянского собрания. – В. С.
[Закрыть] Третьеклассные музыканты, невероятные хористы, но публика такая горячая и впечатлительная, что по малой мере равнялась петербургской публике, а в результате – 8000 франков чистой прибыли. Я опять повернулся на юго-запад после этого концерта, подумал о своих соотечественниках, приевшихся и равнодушных, и сказал вторым разом: „А, любезные парижане!..“
„Московские ведомости“ писали тогда (№ 40), что Берлиоз – это Виктор Гюго новейшей французской музыки:
„…ум самобытный, талант гордый, умевший соединить в себе строгость теории с необузданной революционной страстью к нововведениям, а потому он и был всегда недоволен педантическим академизмом консерватории и фривольной наклонностью публики, со слепым пристрастием посещающей итальянскую и комическую оперу“. „Сочетание высокого с странным, – говорит автор (некто Л.), – разгул фантазии самой своевольной, но сдерживаемой в границах принятой системы, причудливость форм и строгость основной мысли, преувеличение эффектов, любовь к музыкальным массам, глубокое отвращение от всего не только пошлого, но и бывалого, дух терроризма против старого – все это встречаем мы в чудных созданиях французского маэстро и невольно увлекаемся их неслыханной смелостью, их разрушительным и вместе как бы пророческим характером. Слушая музыку Берлиоза, кажется, будто в ней все поставлено вверх дном, все обращено в вопрос… Но нет сомнения, что переворот, произведенный Берлиозом в музыке, особенно инструментальной, найдет в будущем сильный отголосок и принесет в искусстве богатые плоды. Как инструментатор, Берлиоз не имеет, может быть, себе равного: еще, кажется, никто не доходил до такого глубокого знания оркестра и его эффектов, до такого уменья сочетать инструменты, извлекать из оркестра никогда не бывалые звуки и обращать их в таинственный язык для выражения всех оттенков человеческого чувства…“
„Библиотека для чтения“ всех больше не благоволила к Берлиозу и сообщала сведения и размышления, очень отличные и от известий самого Берлиоза, и от того, что высказывала остальная пресса. Она говорила, что Берлиоз дал два концерта в зале благородного собрания. В первом публика была чрезвычайно многочисленна, во втором уже было гораздо менее народа; что у Берлиоза „мелодия скудна, его сочинения рождаются не из глубокого чувства, а из размышления, из обширного ума и необыкновенно живого и подвижного воображения“; что „стремление ко всему новому, небывалому завлекает иногда Берлиоза за границы истинно прекрасного“; что он беспрестанно пишет „музыкальные картины“ и часто „изображает такие предметы, которые вовсе выходят из сферы музыки, напр. воздушная поездка в „Фаусте“, бал у Капулеттов в „Ромео и Юлии“, сцена в лесу и казнь в „Episode de la vie d'un artiste“; музыка, дескать, должна быть понимаема чувством, а не требовать пояснения, а эти пьесы производят требуемое впечатление только тогда, когда слушателю известна программа; следовательно, их „направление нельзя назвать истинно музыкальным…“
При этом всем „Библиотека“ хвалила Берлиоза за иные части его сочинений, но вообще замечала, что „в особенности хорошо удаются Берлиозу марши…“
Впрочем, когда Берлиоз воротился из Москвы и дал два больших концерта в театре, где исполнялись многие отрывки из „Гарольда“, из „Ромео и Джульетты“ и из „Фауста“, рецензент того же журнала был уже более на стороне Берлиоза и говорил:
„Хотя мы во многом не согласны с направлением Берлиоза, однакоже должны сознаться, что чем более слушаем его произведения, тем более он нас привлекает. У Берлиоза мы находим много нового: новые идеи, новые формы, новые ритмы, новые оркестровые эффекты. Если он посвящает свои усилия на достижение невозможной цели (произвести все впечатления поэзии и живописи одною инструментального музыкою), то этим он заслуживает не насмешек, а уважения за свою непоколебимую твердость. Да и кто знает, до каких еще высоких результатов он может дойти?..“
Далее, отдавая подробный отчет о „Гарольде“ и „Ромео“, автор кончил так:
„Если мы и не согласны с направлением, которое Берлиоз осуществил в «Ромео», то все-таки не можем не обратить внимания на встречающиеся здесь истинно музыкальные красоты… Когда Берлиоз не стесняется добровольно наложенными на себя оковами, он достигает до высоты, доступной только величайшим гениям…
Я, на свою долю, отдавая в «Отечественных записках» отчет о концертах Берлиоза, невольно проявил в своей статье всю беспорядочность и тревожность противоречивых впечатлений, произведенных на меня творениями Берлиоза. С одной стороны, я находил, что «у Берлиоза нет решительно никакой музыки, никакой способности к музыкальному сочинению», что «и Берлиоз, и Лист представляют самые разительные сходства во всем: во вкусах, в направлении, во всем характере исполнения, во всех мельчайших подробностях» и что «оба они сами ничего не сочинили, что могло бы считаться за музыку». Но в то же время я заявлял глубокое свое убеждение, что «и Лист и Берлиоз являются самыми гениальными провозвестниками будущей музыки».
Тут же я говорил:
«Хотя мы и не видим в Берлиозе Байрона, как его называли некоторые доброжелатели, но после каждого концерта его чувствуешь себя настроенным самым необыкновенным образом, совсем иначе, нежели после всегдашних концертов: чувствуешь, что потрясли, двинули в тебе самые высокие силы духа, будто ты присутствовал при чем-то великом – и, однакоже, не можешь дать себе в этом великом никакого отчета. Припоминаешь, что на минуту во всем блеске сверкала какая-то красота, что-то в самом деле прекрасное, и потом опять все пропадало в неясном, хотя и высоком стремлении… Кто может отказать Берлиозу в поэтическом чувстве, в поэтическом направлении? Но у него из рук скользят все музыкальные формы, он всегда остается сам и оставляет других с неутоленной жаждой, с обманувшимся желанием. Но все равно, чувство будущих гигантских, нескончаемых средств музыки пробуждено в каждом, и оно-то действует опьяняющим образом на изумленного слушателя…»
Отдавая затем отчет о нескольких отрывках берлиозовых композиций, произведших на меня (как и на всю публику) великое поэтическое впечатление («Reine Mab», «Danse des Sylphes», «Marche des pèlerins»), я говорил в заключение:
«Кажется, будто развитие этого человека будет простираться бесконечно; не знаешь, каких еще новых чудес можно ожидать от него…» («Отечественные записки», 1847, т. 51, «Смесь», стр. 222–227).
Отношения петербургской аристократии все это время были к Берлиозу точно такие же, как к Листу за пять лет перед тем: дружеские, симпатические, почтительные. Может быть, она в сущности мало разбирала в музыке Берлиоза, мало находила для себя в ней подходящего, особливо среди тогдашней итальянской белой горячки, однакоже слушалась своих аристократических музыкальных корнаков: двух графов (Виельгорских), одного князя (Одоевского) и одного генерала (Львова). Они задавали тон, аристократия тянула хором ноту. Поэтому-то Берлиоза в высшем свете носили на руках. Конечно, при этом Львов дал ему послушать пение знаменитой нашей придворной капеллы: Берлиоз пришел от него в великое восхищение. Спустя четыре года он писал Львову из Парижа 1 февраля 1851 года: «Кланяйтесь, пожалуйста, артистам капеллы и скажите им, что я сохраняю о них самое симпатичное и искренно восхищенное воспоминание. Наконец удалось дать их узнать в Париже: их оценяют, веря мне, почти столько, сколько они того стоят. Теперь уже больше не верят, чтоб несчастные кастраты сикстинской капеллы в Риме были бы первыми и единственными церковными певчими, достойными этого имени…» Ему же он писал 21 января 1852 года: «Пожалуйста, напомните обо мне вашей чудной капелле и скажите артистам, составляющим ее, что мне очень надо было бы послушать их, чтоб наплакаться». Петербургским театральным оркестром и хором Берлиоз также остался, в 1847 году, чрезвычайно доволен.
Но иное впечатление произвело на Берлиоза исполнение «Жизни за царя» на московской сцене. «Громадный театр был почти пуст, и сцена почти все время представляла сосновые леса, занесенные снегом, стены, покрытые снегом, людей, белых от снега. Я трясусь от холода, как только вспомню все это. В этой опере есть очень изящные и очень оригинальные мелодии, но мне почти пришлось их отгадывать, – так плохо было исполнение».
Берлиоз уехал из Петербурга, полный самых приятных впечатлений и воспоминаний. Заметим, что императрица Александра Федоровна была с ним, во время его пребывания в Петербурге, столько же любезна и ласкова, как с Листом в 1842 и 1843 годах, и точно так же присутствовала на его концертах. На возвратном пути из России Берлиозу удалось дать концерт в Риге, и даже и тут, в провинциальном городе, он встретил одушевленных поклонников. В письме к графу Виельгорскому от 22 мая 1847 года, из Риги, он говорит: «Публика была столько же горячая, как и малочисленная. Теперь у Риги стоит 1100 кораблей, и все мужчины заняты продажей или покупкой хлеба с 8 часов утра до 11 вечера, так что в зале были все только дамы и очень немного кавалеров. Но как бы то ни было, я не сожалею ни об усталости от концерта, ни о потраченном на него времени, после горячих демонстраций оркестра, совершенно неизвестного мне, но который я теперь считаю своим другом…» Рассказывая далее свои восторги от Шекспира (вечного предмета своего обожания), и именно от «Гамлета», которого ему привелось видеть тут же в Риге, по-немецки, он говорил графу Виельгорскому: «О, если бы я был очень богат, какие бы представления я задавал себе самому и своим приятелям! И как бы я и в дверь не пустил всех прочих, посторонних, которых бог посадил на землю для того, чтобы воротить художников к смирению и поурезать у них амбиционные крылья! По счастью, он поселил также на земле несколько крупных умов, поддерживаемых и согреваемых чудесным сердцем, для того, чтобы поднять бодрость этих самых художников, когда они падают, задавленные толпой кретинов…» Далее следовали комплименты недоконченной опере Виельгорского «Цыганы»: Берлиоз уговаривал автора скорее кончать ее.
Какая разница между великим музыкантом и маленьким аматером: тот хвалит оставшуюся навеки неведомою оперу этого, а этот прямо и беззастенчиво говорит тому в глаза (по словам Берлиоза, в его «Мемуарах»), что «не понимает» того или другого его создания (напр., увертюру «Римский карнавал»), и тем заставлял снять его с афиши. Граф Виельгорский оставался верен СЕоей прежней роли: не он ли, за пять лет перед тем, с ума сходил от итальянского певуна Рубини и объявлял Глинке, что его «Руслан» – негодная опера? Но Берлиоз на русских, даже на графских аматерах, отдыхал от пренебрежения и равнодушия своих соотечественников и с благодарностью смотрел на Россию. Ему так нужно было отдохнуть, отогреться, дать зажить ранам! Он писал Львову 29 января 1848 года: «О Россия! А ее сердечное гостеприимство, а ее литературные и художественные нравы, а организация ее театров и капеллы, организация точная, ясная, непреклонная, без которой в музыке, как и во многих других вещах, не сделаешь ничего хорошего и изящного – кто мне их снова отдаст? Зачем вы так далеко?.. Тысячу раз благодарю вас за то, что вы говорили про меня императору и даете мне надежду, что авось я когда-нибудь поселюсь около вас. Я не очень-то верую в это: все зависит от императора. Если бы он захотел, мы в 6 лет сделали бы из Петербурга центр музыкального мира…» В письме к графу Виельгорскому от 28 ноября 1848 года Берлиоз говорил: «Я все еще не написал мои „Письма о России.“, все еще не могу устроиться насчет их с „Journal des Débats“. Мне столько надо рассказать про Петербург, что я хочу иметь приличную кафедру. Г-н Бертен (редактор газеты) находит, конечно, что я слишком влюблен в русских. Я его обращу на путь истины». При этом, отказываясь даже от самых коренных и национальных французских воззрений нового времени, Берлиоз совершенным консерватором горько жаловался на тогдашний французский государственный порядок и перемену орлеанской династии. Он говорил в этом письме: «Новое нашествие холеры на Россию заставляет меня сильно желать ваших писем. Сколько переворотов случилось в нашей несчастной Европе с тех пор, как я вас покинул! Какие крики, какие преступления, какие безумия, какие нелепости, какие страшные мистификации! Благодарите господа бога, что у вас есть только холера физическая; моральная холера во сто раз страшнее. Париж все еще в горячке, у него частые припадки delirium tremens. Думать, при подобном положении дел, о мирных трудах интеллигенции, об искании красоты в литературе и искусстве – это все равно, что начать играть на биллиарде, находясь на корабле во время бури среди антарктического океана, да еще в ту минуту, когда в трюме оказалась течь, а под палубой – бунт матросов…» Спустя месяц Берлиоз писал, 22 декабря 1848 года, Ленцу: «И вы все еще думаете о музыке! Экие варвары! Вас надо жалеть. Вместо того, чтобы трудиться над „великим делом“, над коренным уничтожением семейства, собственности, интеллигенции, цивилизации, жизни, человечества, вы занимаетесь сочинениями Бетховена! Вы мечтаете о сонатах! Вы пишете книгу о музыке! Иронию в сторону, я очень благодарю вас. Так вот, между живыми еще есть несколько обожателей красоты…» И опять, 21 января 1852 года, Берлиоз писал Львову: «Суждения нашей прессы и публики так глупы и так фривольны, что подобного примера не сыщешь у других народов. У нас – изящное не то, что безобразно (le beau, ce n'est pas le laid), a плоско; у нас не любят ни дурного, ни хорошего, а только посредственное; ощущение справедливого в искусстве столько же погасло, как чувство справедливого в нравственности. Для меня всегда будет истинное счастье говорить с немногими серьезными из числа французских читателей про те великие и серьезные дела, которые делаются в России. Впрочем, это долг, который бы мне очень хотелось уплатить. Я никогда не забуду, верьте мне, того приема, который мне сделало русское общество вообще, а вы в особенности, и ту благосклонность, которую оказали мне императрица и все семейство вашего великого императора. Какое несчастье, что он не любит музыку!..»
Произвел ли этот приезд Берлиоза какое-нибудь влияние на русскую музыку, на русских музыкантов, на русскую музыкальную публику? По моему мнению – никакого. Ни направление русского творчества, ни содержание и форма музыкальных наших сочинений, ни наша оркестровка, ни, наконец, самая дирижировка – не испытали у нас ни малейшего изменения после визита Берлиоза. Все осталось попрежнему, точь-в-точь Берлиоз к нам и не приезжал. Наши музыканты сходили в концерты, послушали и ушли, а назавтра продолжали точь-в-точь то самое, что прежде было. Также и публика: она с удовольствием читала, слушала и говорила про «новизну» Берлиоза и в том-то, и в этом-то, и еще вон в том-то, охотно называла Берлиоза гением, колоссом и прочее, внесшим «новые элементы», но во мнениях своих о музыке и всем музыкальном – не изменялась ни на единый волосок и преспокойно оставалась при «старых элементах». Она только на словах давала какое-то призрачное преимущество «новым элементам», а на самом деле «старые» ей годились гораздо больше, и она продолжала в них купаться. Эту публику навряд ли бы скоро пронял и воспитал Берлиоз, если бы даже он поселился и в Петербурге, как о том речь шла в 1848 году. Устроить «центр музыкального мира» было здесь не так-то легко.
На одного только человека во всей Российской империи Берлиоз подействовал глубоко и мощно, это – на Глинку. Но это случилось с Глинкой раньше берлиозова путешествия в Россию. Еще в 1845 году Глинка писал из Парижа своему приятелю Кукольнику: «Изучение музыки Берлиоза и парижской публики привело меня к чрезвычайно важным результатам. Я решился обогатить свой репертуар несколькими, и если силы позволят, многими концертными пьесами для оркестра, под именем „Fantaisies pittoresques“. Мне кажется, что можно соединить требование искусства с требованиями века и, воспользовавшись усовершенствованием инструментов и исполнения, писать пьесы, равно докладные знатокам и простой публике…» Результатами такой мысли явились: «Хота», «Ночь в Мадриде», «Камаринская», создания гениальные и совершенно оригинальные. В них нет ничего берлиозовского, ни в творчестве, ни в исполнении, ни в мысли, ни в формах, наконец, ни в оркестре. Кто произвел на свет «Руслана», тому нечего было учиться ни у Берлиоза, да и ни у кого. Если говорить даже про один только оркестр второй глинкинской оперы, то и тут Глинка создал такие новизны, такие красоты, такие самобытные оригинальности, которые не уступят ни Берлиозу, ни какому бы то ни было другому гениальнейшему композитору того времени. Берлиоз и Глинка создавали свои громадные оркестровые новизны, в 30-х и 40-х годах, одновременно и совершенно независимо один от другого, вовсе не зная друг друга. В 1841 году давали в Петербурге «Requiem» Берлиоза; но Глинка, кажется, вовсе не слыхал его. Он жил тогда совершенным отшельником, все только дома и никуда почти не выезжал, «всеми позабытый»; по крайней мере, в своих «Записках» Глинка говорит про этот «Requiem», слышанный им в 1845 году в Париже, как про совершенно новую для себя вещь. Раньше «Руслана» Глинка мог слышать из новой европейской инструментовки разве только «Роберта» и «Гугенотов», да еще некоторые увертюры Мендельсона. Но в «Руслане» нет никаких следов этих авторов, и все здесь вышло, до последней ниточки, свое, оригинальное. Но такими же оригинальными, вполне самостоятельными явились, после Парижа, и «Хота», и «Ночь в Мадриде», и «Камаринская», а эта последняя, вдобавок ко всему, вышла первым образцом совершенно самобытного русского национального скерцо. Но Глинка сам говорит нам, что первым и главным толчком к этим чисто инструментальным и притом «программным» созданиям послужило знакомство с Берлиозом и пристальное изучение его творений. Значит, мы должны этому верить, быть благодарны этому знакомству и радоваться, что оно совершилось. Встреча двух великих музыкантов в Париже не осталась напрасною и бесплодною, как это случилось при встрече Глинки с Листом в Петербурге. Россия на этот раз выиграла огромный куш.
Спустя лет двадцать после приезда Листа, Шумана и Берлиоза в Россию началось их громадное влияние на русскую музыкальную школу. Эта школа являлась наследницей и продолжательницей Глинки и высоко держала этого гениального музыканта в своем энтузиазме и уважении, наравне с Бетховеном и некоторыми другими композиторами прежних эпох; но вместе с тем она высоко ценила и трех великих западноевропейских композиторов последнего времени: Шумана, Берлиоза и Листа, потому что живо чувствовала не только громадность их таланта, но и независимость их мысли и смелость «дерзания» на новые пути. В своей превосходной статье о Шумане Лист говорит, что главных заслуг у его творчества было две: первая та, что он дальше повел путь, открытый Бетховеном, а вторая та, что он дал твердое направление тому пути, по которому слишком редко ходили до него музыканты. Он ясно понял необходимость большего сближения музыки (в том числе и инструментальной) – с поэзией и литературой, и вместе сблизил литературу с музыкой. Это Лист говорил в 1855 году, – нынче такое направление прямо называют «программной музыкой», – «Бетховен, – говорил Лист, – уже чувствовал это стремление, но у него оно еще не вполне выяснилось, оставалось еще отчасти темным (в „Эгмонте“ и некоторых инструментальных сочинениях со специальными заглавиями это стремление высказано уже довольно явственно)». К этому Лист прибавлял: «Программа есть то средство, которое будет делать музыку более доступною и понятною той части публики, которая состоит из мыслящих и действующих людей, между тем как они нынче далеки от нее и отзываются о ней с некоторым презрением. И нам на это последнее нечего дивиться, когда мы вспомним, как мало заботилась до сих пор музыка об интересах этих людей. В продолжение долгих столетий она доставляла только некоторого рода чувственное удовольствие, которое представляло мало интереса тем, у кого мало времени было на то, чтоб с нею сживаться: с другой же стороны, она все утопала в чувствах, которых те люди не могли понимать, потому что у них не было наклонности воспринимать их в себя…»