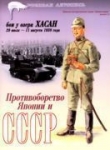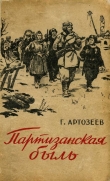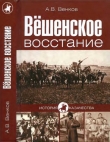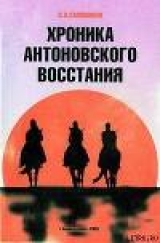
Текст книги "Хроника Антоновского восстания"
Автор книги: Владимир Самошкин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Так вот, если красные, не вникая ни в какие нюансы и действуя по принципу "кто не с нами – тот против нас", пытались лишь силой "раздавить архангельско-ростошинскую контру", то антоновцы, также имевшие поблизости от Архангельского достаточные военные силы, чтобы лишить "нейтралов" их "независимости", вели себя совершенно иначе.
В Архангельское и Ростоши зачастили видные антоновские командиры и политработники /будущие повстанческие комбриги Константин Андреевич Корешков и Павел Николаевич Чумичев, начальник политотдела 5-й бригады 1-й антоновской армии Абрам Абрамович Фролов и другие/. Своей неустанной пропагандой и агитацией они добились-таки того, что "нейтралы" вскоре перешли на их сторону, став 14-м Архангельским полком 5-й бригады антоновцев.
Если по отношению к "нейтральным" селам, в которые его иногда до обидного демонстративно не пускали деревенские бабы, то к повстанческим командирам, выражавшим порою недовольство тем, что он забирает в свои руки якобы слишком много власти, Антонов был достаточно суров.
Так, 26 ноября в селе Туголуково произошла ссора Антонова с командиром 1-го Каменского повстанческого полка Ефимом Ивановичем Казанковым, который пытался отстоять свое право на полную самостоятельность в управлении полком и в выборе для него боевых целей и задач. Антонов не признал за командиром полка такого права и обвинил Казанкова в партизанщине и анархизме. В ответ на такое оскорбление правоверный правый эсер Казанков, искренне считавший себя идейным борцом против коммунистов, заявил начальнику Главоперштаба, что не подчиняется больше его приказам и отныне будет бороться с большевиками самостоятельно. Хлопнув дверью, Казанков покинул Туголуково, уведя за собой два эскадрона каменцев. В тот же день Антонов, знавший Казанкова чуть ли не с 1905 года, издал приказ об объявлении его вне закона и о разоружении ушедших с ним эскадронов. На свое счастье, быстро поняв, что "Шурка" /партийная кличка Антонова по дореволюционному эсеровскому подполью/ шутить не намерен, Ефим Казанков уже через несколько дней явился к Антонову с повинной, получил, по старо дружбе, прощение и даже был оставлен в должности командир 1-го Каменского повстанческого полка.
В середине марта 1921 года, когда политика советской власти в отношении крестьянства резко изменилась /замена продразверстки продовольственным налогом, свобода торговли излишками и т.д./, а вместе с ней изменилась и тактика борьбы с антоновщиной, 14-й Архангельский повстанческий полк целиком, во главе с командиром, перешел на сторону советской власти.
Несмотря на массу встречавшихся трудностей, дела с созданием армии у Антонова успешно продвигались вперед, и мятеж разрастался с каждым днем. К 1 декабря 1920 года охваченная восстанием территория увеличилась, по сравнению с 10 сентября, ровно в 15 раз и составила почти 20 тысяч квадратных километров.
В декабре активность повстанцев резко возросла, хотя случались у них и отдельные неудачи: например, в Борисоглебском уезде кавполк неистового Переведенцева дважды /4 декабря под Козловкой и 6 декабря в селе Криуша/ настигал и изрядно трепал отряд самого Антонова, захватив в этих боях свыше 150 пленных и отбив один пулемет.
Однако, заметим, что других таких непобедимых частей, как кавполк Переведенцева, в распоряжении командующего войсками Тамбовской губернии практически не имелось. По боевым качествам с полком Переведенцева нельзя было сравнить даже остальную часть кавгруппы Бриммера . А боеспособность и политическая надежность других советских отрядов /за исключением курсантских/ была еще ниже.
13 декабря антоновцы захватили и за три часа совершенно разграбили железнодорожную станцию Инжавино, гарнизон которой /433 бойца при двух пулеметах/ "не оказал никакого сопротивления, но постыдно бежал, оставив пулеметы, бросив по дороге патроны и винтовки". Эта фраза из приказа К. В. Редзько по войскам губернии завершалась так: "Подобного проявления трусости и низости в рядах войск, сражающихся против бандитов, еще не было." В целях предотвращения таких случаев в будущем, Редзько пошел на крайность, приказав расстрелять 10 пулеметчиков Инжавинского гарнизона и еще 25 красноармейцев из числа "наибольших трусов". А к каждому пулемету командующий приказал прикрепить по одному надежному и обстрелянному коммунисту.(114)
К середине декабря 1920 года на охваченной мятежом территории оставалось уже не более двух десятков небольших островков советской власти. Как правило, это были укрепленные имевшие постоянные гарнизоны железнодорожные станции, сахарные заводы, а также несколько уцелевших до сих пор совхозов. Со второй половины декабря антоновцы все свои усилия направили именно на ликвидацию этих островков.
11 декабря 1920 года вместо Бриммера командующим кавгруппой стал бывший комбриг Кубанской кавалерийской дивизии Варфоломей Иванович Дмитриенко.
17 и 18 декабря мятежники дважды захватывали узловую станцию Иноковка /между Тамбовом и Кирсановом/, где в их руки попал, кроме прочего, вагон с патронами. 17 декабря в селе Алешки Борисоглебского уезда отряд в 500 повстанцев под командованием бывшего прапорщика военного времени Ивана Макаровича Кузнецова обманом, под видом красноармейской кавалерийской части, захватил весь состав местного райревкома; 22 схваченных ревкомовца были выведены на огороды и зарублены. 18 декабря в деревне Чикаревка Борисоглебского уезда повстанцами был застигнут врасплох и полностью уничтожен отряд из двадцати милиционеров. В этот же день мятежники произвели налет на сахарный завод в Большой Грибановке, но были отбиты рабочей дружиной завода и вовремя подоспевшим ей на помощь отрядом 7-х Борисоглебских кавалерийских курсов.
18 декабря отряд мятежников под командованием бывшего конокрада Василия Федоровича Селянского захватил село Анастасьевское /Бондари/ и разграбил находившийся здесь филиал фабрики по изготовлению шинельного сукна и валенок для Красной армии.(116) О случившемся каким-то образом стало известно В. И. Ленину, который немедленно отреагировал гневной запиской в адрес наркома внутренних дел и председателя ВЧК Ф.Э. Дзержинского:
"…Верх безобразия.
Предлагаю прозевавших это чекистов /и губисполкомщиков/Тамбовской губернии 1/ отдать под военный суд, 2/ строгий выговор объявить Корневу, 3/ послать архиэнергичных людей тотчас, 4/дать по телеграфу нагоняй и инструкции". Этой записке Ленина было суждено сыграть исключительно важную роль в деле перестройки всей борьбы с антоновщиной. Ибо только теперь в Москве по-настоящему обратили серьезное внимание на мятеж в Тамбовской губернии.
Нам неизвестно, объявил ли Дзержинский строгий выговор командующему внутренними войсками Василию Степановичу Корневу, как того требовал Ленин, но зато известно другое: 26 декабря Корнев с большой группой "архиэнергичных людей" находился уже в Тамбове и здесь, на месте, давал всем и вся "нагоняй и инструкции". А еще днем раньше тут же начала свою работу специальная "Комиссия по выяснению причин затяжного характера ликвидации повстанческого движения в Тамбовской губернии". Эту прибывшую из Москвы комиссию возглавлял заместитель председателя военного трибунала внутренних войск Петр Алексеевич Камерон.
В. С. Корнев, находившийся в Тамбове до 29 декабря, срочно вызвал сюда командующего войсками Орловского военного округа О. А. Скудре и приказал ему временно возглавить руководство операциями по подавлению крестьянских восстаний в Тамбовской и Воронежской* губерниях.
Утром 27 декабря Корнев провел совещание с партийно-советскими и военно-чекистскими руководителями подавления антоновщины. Собравшиеся пришли к выводу, что надо опять просить Москву о военной помощи. Но если раньше в просьбах Тамбова речь шла о не более чем батальоне пехоты и двух эскадронах кавалерии, то теперь запросили сразу 15 тысяч штыков, 3 тысячи сабель, две артиллерийские батареи и даже два аэроплана.
На совещании с кратким докладом о деятельности чекистов по борьбе с мятежом выступил председатель Тамбовской губчека П. П. Громов /сменивший на этом посту в октябре явно не справлявшегося со своими обязанностями Ф. К. Трасковичал Громов сообщил, что с начала мятежа губчека потеряла /по разным причинам/ половину личного состава. Поэтому он попросил Корнева и других участников совещания поддержать его просьбу к ВЧК о присылке в Тамбов тридцати пяти опытных чекистов. А для того, чтобы губчека могла проводить свои собственные военно-чекистские операции, Громов попросил также о предоставлении в его распоряжение до тысячи надежных штыков.
Спустя несколько часов после окончания этого заседания в Тамбове, Антонов лично повел четыре своих полка на штурм железнодорожной станции Инжавино. И, несмотря на то, что после захвата этой станции 13 декабря ее гарнизон был значительно усилен, он опять не оказал достойного сопротивления и частью позорно бежал, а частью сдался в плен. В руки повстанцев попали орудие и несколько пулеметов. В эту же ночь здесь погибла вся /за исключением одного человека/ выездная сессия губчека во главе с Артуром Вольдемаровичем Зегелем.
Днем 28 декабря кавалерийский полк Н. А. Переведенцева, с которым мятежники до этого старались всячески избегать встреч, впервые подвергся открытой атаке повстанцев из отряда А В Богуславского у села Верхоценье Тамбовского уезда. И хотя така антоновцев была отбита, кавполк Переведенцева впервые не вышел из боя явным победителем.(121)
Имеется ввиду, что антоновцы постоянно проникали в соседнюю Воронежскую губернию, а также то, что еще не был окончательно ликвидирован повстанческий отряд И. С. Колесникова – военного руководителя антикоммунистического крестьянского восстания на юге Воронежской губернии.
Вечером 28 декабря командующий войсками Тамбовской губернии К. В. Редзько, уже знавший о позоре и трагедии в Инжавино, а также о нападении повстанцев на кавполк Переведенцева и, кроме того, вконец издерганный разными комиссиями и проверяющими, собрался с духом и написал рапорт с просьбой освободить его от занимаемой должности, ссылаясь на уже традиционное "переутомление". Однако главной причиной "добровольной" отставки Редзько было то, что он ясно видел, как "отцы губернии", давая показания приехавшим из Москвы комиссиям, пытаются всю вину за неликвидацию восстания свалить на него и его предшественников, то есть исключительно на военных. Поэтому в своем рапорте, обосновывая невозможность дальнейшего пребывания на занимаемом посту, бывший гвардейский полковник Редзько с солдатской прямотой написал: "Не хочу быть козлом отпущения".
В полночь на 30 декабря К. В. Редзько сдал командование войсками Тамбовской губернии прибывшему из Орла О. А. Скудре. К этому времени командующий внутренними войсками В. С. Корнев и комиссия под председательством П. А. Камерона уже завершили свою работу в Тамбове и отбыли в Москву.
Надо сказать, что Корнев, Камерон, а затем и Скудре весьма неплохо разобрались в причинах возникновения антоновщины, а также в том, почему ее до сих пор не удалось подавить. Так, например, комиссия Камерона, вскрыв серьезнейшие недостатки и ошибки в деле борьбы с мятежом, допущенные партийно-советским руководством Тамбовщины, Военным советом, губчека, штабами войск губернии и внутренних войск, пришла к следующему заключению:
"Комиссия констатирует, что размеры повстанческого движения в Тамбовской губернии принимают катастрофический характер, для ликвидации которого необходимо принять следующие меры:
§1. Оккупировать территорию Тамбовского, Кирсановского и Борисоглебского уездов путем наводнения и планового распределения вооруженной силы, предписав местным органам, по мере оккупации, удесятерить усилия по восстановлению Советской власти на местах и советских хозяйств, разрушенных бандитами.
§2. Предоставить командованию необходимые кадры командного состава и дать вновь свежие части на повстанческий
фронт, а также заменить износившиеся, небоеспособные части свежими.
§3. Повести широкую политическую работу по выработанному плану, как в действующих частях, так и среди населения. Ввиду недостатка коммунистов /убито бандитами до 800 человек/, просить ЦК партии командировать потребное для этой цели количество партийных работников.
§4. Усилить аппарат губчека /выбыло убитыми до 40%/ путем переброски работников Центра.
…§8. Принимая во внимание тяжелые объективные условия Республики, мешавшие своевременно ликвидировать повстанчество в Тамбовской губернии, ограничиться немедленным проведением в жизнь практических мероприятий по ликвидации, предав ошибки лиц, виновных в затяжном характере ликвидации повстанчества, забвению.
§9. Начать судебное следствие на предмет предания суду РВТ лиц, виновных: 1/ в недостаточном снабжении оперирующих частей патронами, 2/ в сдаче противнику целых частей, иногда без выстрела и 3/ в хаотическом состоянии снабжения действующих частей обмундированием."
Командующий войсками Орловского военного округа О.А. Скудре, временно возглавивший действующие против Антонова войска, сообщил в докладе Главнокомандующему всеми вооруженными силами Республики С. С. Каменеву, что к 30 декабря 1920 года в Тамбовской губернии имелось 13 крупных отрядов мятежников обшей численностью 4750 человек /из них 2000 конных/ плюс 5-8 тысяч человек, являющихся непостоянным составом этих отрядов. Вооружены повстанцы главным образом оружием, захваченным у советских отрядов и частей. "Наши потери в винтовках, – писал в своем докладе Главкому Скудре, – не подсчитывались, и количество определить точно нельзя. но приблизительно за 4 месяца действий фактически передано Антонову не менее 3 тысяч винтовок. Наши силы, действующие против Антонова, к 24 часам 29 декабря равнялись: штыков -8030, сабель – 1672, орудий – 16, пулеметов – 114, что состоит всего из 34 отдельных войсковых частей и 5 боевых технических единиц. К 30 декабря упомянутые части занимали всего 17 отдельных пунктов в черте, охваченной восстанием".
Характеризуя деятельность командующего войсками Тамбовской губернии К. В. Редзько, О. А. Скудре писал, что Редзько все брал на себя, вплоть до командования ротами, сидя при этом в Тамбове. Военной разведки "нет совершенно", а "агентурной работы губчека мало чувствуется, связи между губчека и командованием нет". Морально-политическое состояние и боеспособность войск Тамбовской губернии Скудре охарактеризовал так: "Политическая работа в действующих частях незаметна. Работа хозяйственных аппаратов частей до отказа слаба. Санитарная помощь в частях совершенно не налажена… Большинство из частей деморализованы и разложились до отказа. Мародерство, грабежи – обычное явление. Отмечаются даже случаи изнасилования женщин. Боеспособность частей очень слаба". РВТ – Революционный военный трибунал.
Стоит особо отметить, что Скудре, возглавивший с 30 декабря 1920 года войска Орловского военного округа, действующие против антоновцев в Тамбовской и против колесниковцев в Воронежской губерниях, в первых же своих приказах строго предупредил командиров и комиссаров красноармейских частей об особой осторожности в применении репрессивных мер и о недопущении при этом таких крайностей, как сожжение целых населенных пунктов. К местному населению, да и к самим повстанцам, Скудре требовал исключительно строго индивидуального подхода. В этом смысле Скудре даже призывал красноармейских политработников брать пример с повстанческих руководителей. Так, 31 декабря в приказе по войскам Скудре писал: "Мы имеем много примеров, когда в наших частях вместо политруков ведет злостную пропаганду агент повстанцев. Нельзя не отметить, что Антоновы и Колесниковы не ограничиваются лишь пропагандой, но также, действуя особыми примерами, морально разлагают наши части. Вместо повального террора и ужаса, которые нередко применяются нашими политически несознательными частями не только к захваченным повстанцам, но и порой к мирному населению, наш противник со всей строгостью проводит грань между красноармейцами, коммунистами и командирами, между стреляющим и бросающим оружие. Расстреливая и разрубая на куски одних, великодушно распуская на все четыре стороны других, противник вносит больше вреда в наши ряды, чем десятки пулеметов в его руках."
31 декабря 1920 года в Москве состоялось совещание по вопросу о ликвидации антоновщины. На этом совещании, проходившем под председательством Ф. Э. Дзержинского, присутствовали: Главком С. С. Каменев, командующий внутренними войсками В. С. Корнев, председатель Тамбовского губисполкома А.Г.Шлихтер и его заместитель В. Н. Мещеряков. Было решено немедленно начать стягивание к охваченному антоновщиной району значительных дополнительных сил внутренних войск, а также регулярной Красной армии. Для начала – не менее одной кавалерийской и одной стрелковой дивизий. Всех коммунистов мятежной части Тамбовщины постановили вооружить, для чего специально выделялась тысяча винтовок. Кроме того, совещание признало необходимым направить в Тамбовскую губернию группу опытных партийных работников, подбор которых взял на себя Ф. Э. Дзержинский. И, наконец, разрешился вопрос о назначении нового командующего войсками Тамбовской губернии. Выбор участников совещания остановился на Александре Васильевиче Павлове – начальнике Дивизии особого назначения, бывшем командующем 10-й армией.
3 января 1921 года Антонов добился очередного успеха. В селе Керша, что в 35 километрах северо-восточнее Тамбова, его отряд захватил в плен около 500 обедавших красноармейцев, вместе с полевой кухней, одним орудием и тремя пулеметами.
Страшный маховик антоновщины работал уже на высших, но еще далеко не на предельных оборотах.
6 января А. В. Павлов, наделенный в Москве правами командарма, вступил в командование войсками Тамбовской губернии.
Как выяснят потом историки, в ходе ожесточенной борьбы на Тамбовщине начался второй, переломный период.
Глава 3. ПЕРЕЛОМ
Новый командующий войсками губернии Павлов и назначенный к нему 15 января начальником штаба Константин Петрович Невежин (бывший начальник штаба 3-й армии), используя время, необходимое для переброски на Тамбовщину выделенных Москвой дополнительных частей внутренних войск и регулярной Красной армии, стали тщательно изучать сложившуюся здесь обстановку. Естественно, что Павлова и Невежина в первую очередь интересовали вооруженные силы тамбовских мятежников: их структура, численность, командный состав, вооружение и т. п.
Из перехваченных приказов антоновского Главоперштаба было установлено, что 18 января 1921 года произошло разделение единой прежде Партизанской армии Тамбовского края на две самостоятельные в оперативном отношении армии, 1-ю и 2-ю.
В состав 1-й армии вошли 10 регулярных (номерных) полков: 1-й Каменский /командир полка Тимофей Степанович Гавриков/*, 2-й Борисоглебский /Александр Борисович Кулдошин/, 5-й Пановский /Константин Иванович Баранов/, 6-й Савальский /Андрей Миронович Каверин/, 7-й Тамбовский /Яков Федорович Вислобоков/, 10-й Волчье-Карачанский /Иван Макарович Кузнецов/, 11-й Павлодарский /Петр Дмитриевич Боярский/, 12-й Токайский /Константин Андреевич Корешков/, 13-й Битюгский /Дмитрий Гаврилович Иванников/ и 14-й Архангельский /Александр Козьмич Пастушков/.
Первый командир Каменского полка Ефим Иванович Казанков 11 января 1921 года в бою с кавполком Переведенцева под селом Моисеево-Алабушка Борисоглебского уезда попал в безвыходную ситуацию и. не желая сдаваться в плен, застрелился.(131)
Каждые два полка, происходившие из соседних местностей, сводились в бригаду. Один из командиров объединенных в бригаду полков выполнял одновременно и функции комбрига. Начальником штаба 1-й антоновской армии стал бывший поручик Иван Архипович Губарев, а временно исполняющим должность командарма был назначен Дмитрий Михайлович Егорчев.(133)
2-я партизанская армия Тамбовского края первоначально состояла всего из четырех полков: 3-го Кирсановского /командир И. Баурин/, 4-го Низовского /Иван Алексеевич Востриков/, 8-го Пахотно-Угловского /Василий Федорович Селянский/ и 9-го Семеновского /Григорий Васильевич Крутских/.(134). До марта 1921 года 2-й повстанческой армией командовал Петр Михайлович Токмаков.
Особо отметим, что в обеих армиях имелось также по одному кавалерийскому полку особого назначения. В 1-й армии Особым полком командовал Михаил Антонович Канищев, а при штабе 2-й армии (фактически это был Главоперштаб во главе с самим Антоновым) неотлучно находился Особый полк под командованием бывшего штабс-капитана Павла Тимофеевича Эктова.
В начале 1921 года во всех антоновских полках были введены знаки различия. Для рядовых они состояли лишь в красных бантиках на головных уборах. А весь командный состав – от командиров отделений до командармов – кроме бантиков носил на левом рукаве, повыше локтя, красные нашивки в виде полосок, треугольников и ромбов. Все регулярные полки имели свои боевые знамена красного цвета, на которых было начертано полное наименование полка, а сверху – знаменитый эсеровский лозунг: "В борьбе обретешь ты право свое".
Кроме регулярных и особых полков в обеих антоновских армиях имелись многочисленные вспомогательные отряды и подразделения: комендантские команды, "летучие отряды", отряды связистов, разведчиков и т. д. Например, отряд знаменитой Маруси занимался в основном реквизицией у местного населения военного обмундирования и лекарственных средств.
* Во время Антоновского восстания на Тамбовщине ходило много различных слухов и легенд о Марусе и ее отряде. Одни говорили, что это сама Мария Спиридонова – лидер партии левых эсеров и, кстати, уроженка города Тамбова, а другие – что это известная анархистка Мария Никифорова, которая в 1918 году со своим отрядом, якобы "сражавшимся" тогда против белых, была в здешних местах и проявила особую склонность к проведению реквизиций и наложению контрибуций. Некоторую ясность в крайне запутанный "вопрос о Марусе" внес в 1923 году участник борьбы с антоновщиной И. Е. Панкратов. В своих воспоминаниях, опубликованных в Тамбове, он подробно рассказал, как 22 апреля 1921 года им была арестована Маруся– Мария Михайловна Косова, эсерка и антоновская разведчица, происходившая родом из деревни Камбарщина Тамбовского уезда. Однако, на наш взгляд, в истории антоновщины была не одна Маруся, а как минимум три. И основное "бремя славы" принадлежит не Косовой. а другой Марусе, которая возглавляла у Антонова отдельный отряд, занимавшийся реквизициями, а затем и участвовавший в боях.
Общая численность обеих антоновских армий /вместе со вспомогательными подразделениями/ в конце января 1921 года составляла примерно 10 тысяч человек. Но ими силы мятежников в Тамбовской губернии далеко не исчерпывались. Сюда нужно присовокупить и повстанцев, находившихся в распоряжении комитетов Союза трудового крестьянства, которых в середине января насчитывалось до 300. На охваченной восстанием территории комитеты СТК выполняли функции местных органов гражданской власти. Местности, в которых существовали комитеты СТК, назывались «организованными местностями». В своей работе местные комитеты СТК руководствовались инструкцией «Об организации районных, волостных и сельских комитетов и их обязанностях», утвержденной губернским съездом СТК 24 декабря 1920 года, По нашим подсчетам, для полного /согласно инструкции/ укомплектования 300 комитетов СТК штатами требовалось не менее полутора тысяч человек.
Глава инструкции, определявшая перечень обязанностей местных комитетов СТК. содержала 12 пунктов. Вот наиболее важные из них:
"2. Следить за передвижением красных войск…
3. Самовольно отлучившихся из отряда партизан задерживать и направлять в ближайшие отряды; в случае их сопротивления – обезоруживать и сообщать тем отрядам, из которого отлучился партизан.
4. Строго следить за грабежами, убийствами и пожарами. Замеченных при этом лиц задерживать и препровождать в суд как бандитов.
…7. Строго преследовать лиц. занимающихся варкой самогона. Уличенных в этом предавать суду.
8. Ставить в известность красноармейцев, приехавших в отпуск, чтобы они не возвращались в свои части…
12. Не пропускать для продажи из восставшего района в Другие местности лошадей и хлеб."
Бесспорно, что комитеты СТК сыграли большую роль в Антоновском восстании, довольно крепко держа в своих руках власть над "организованными местностями" и тем самым обеспечивая надежный тыл повстанческим армиям. Комитеты СТК не только вели среди населения агитацию в пользу Антонова, были "глазами и ушами" его армий, но и имели свои собственные вооруженные отряды. Правда, эти отряды, называвшиеся где "вохрой", где – "милицией", а где – "сельской самообороной", значительно уступали в численном и боевом отношениях регулярным /номерным/ антоновским полкам, не говоря уже о полках особого назначения, хотя, честно говоря, таким полком, оправдывавшим свое название, был лишь Особый полк (своего рода антоновская гвардия) при Главоперштабе. Но вот беда: оба его командира (с момента описываемых событий) оказались предателями.
Обзор лагеря повстанцев в момент наивысшего развития восстания /начало 1921 года/ нельзя считать более или менее полным, если умолчать о порядках, установленных антоновцами в "организованных местностях", об их отношении к местному населению, к пленным бойцам и командирам Красной армии, к сельсоветчикам и деревенским коммунистам.
Наша историческая литература об антоновщине до последнего времени твердо придерживалась давно сложившегося стереотипа, что на занятой мятежниками территории царил только дикий, совершенно бессмысленный, никем и ничем неограниченный террор. Однако, думается, что многолетнее изучение автором этих строк сотен всевозможных архивных документов, проливающих свет на эту сторону Антоновского восстания, позволяет высказать здесь и свое мнение. Причем сразу надо оговориться, что это мнение существенно отличается от совсем еще недавно, так сказать, "общепринятого".
Например, автор не нашел в архивных документах подтверждения тому, что "целые села и деревни сжигались и разрушались" повстанцами, как это утверждает в своей книге "Антоновщина: замыслы и действительность" столичный историк И. П. Донков, правда, не называя при этом ни одного населенного пункта, сожженного или разрушенного/?!/антоновцами.
Также не подтверждаются архивными материалами повальные и безразборные убийства повстанцами деревенских коммунистов и сельсоветчиков. Напротив, руководители восстания поступали в отношении этих лиц как раз очень разборчиво. Да, "твердокаменных" коммунистов повстанцы уничтожали безжалостно, выбирая, вдобавок, при этом для своих жертв смерть мучительную и ужасную. А вот неустойчивых, колеблющихся деревенских коммунистов и особенно сельсоветчиков, пользовавшихся авторитетом у крестьян, антоновцы, как правило, не убивали, а. наоборот, всячески зазывали /и принимали/ в свои ряды, хотя ответственных должностей почти не доверяли.(138) Напомним здесь еще раз. что к февралю 1921 года половина сельских коммунистов Кирсановского уезда оказалась на стороне Антонова.
На наш взгляд, этот поразительный в общем-то факт является весомым доказательством того, что руководители и идеологи восстания проводили свою карательную политику довольно обдуманно и очень разборчиво. В этом отношении весьма красноречив так называемый "Временный устав наказаний, подсудных армейским судам" – своего рода антоновский уголовный кодекс, который состоял из тридцати семи параграфов-статей, содержавших перечень проступков и преступлений, за которые полагались наказания трех видов: выговор, плети /от 8 до 50/ и расстрел. Наиболее суров "Временный устав наказаний" был к повстанцам и местным жителям, уличенным в шпионаже, пропаганде коммунизма и укрывательстве коммунистов. Из тридцати семи статей шестнадцать содержали в себе такой вид наказания, как расстрел. Он полагался не только за перечисленные выше "военно-политические преступления", но и за некоторые чисто уголовные – грабеж с убийством, бандитизм и т. п.
Общеизвестно, что бичом антоновской, как, впрочем, и Красной армии был самогон. Поэтому неудивительно, что два параграфа "Временного устава наказаний" целиком посвящались борьбе с этим злом. Однако любопытно, что если за распитие самогона повстанцами предусматривался лишь выговор /"убеждение"/ или разжалование в рядовые, то за изготовление самогона с целью дальнейшей его продажи повстанцам наказание было значительно суровее – от 15 плетей и до расстрела.
Беспощадно и только расстрелом каралась "выдача бойцов партизанского движения частными лицами красным". И, наконец, 37-й параграф предусматривал полный "рацион" плетей за грубое обращение с пленными в организованных местностях со стороны жителей и самовольную расправу с ними".
За все время антоновщины, а особенно в начале 1921 года, повстанцы нередко захватывали в плен большие группы /до 700 человек/ красноармейцев. Каково же было обращение с ними в плену?
Как можно понять из сохранившихся архивных документов, то и здесь руководители восстания действовали по известному своей безотказностью принципу "разделяй и властвуй".
Всех пленных повстанцы разделяли на три основные категории: комиссары-коммунисты, командиры и рядовые бойцы.
Особую группу пленных составляли так называемые "интернационалисты" – латыши, мадьяры, китайцы и др., служившие, как правило, в карательных отрядах и принимавшие непосредственное участие в сожжении деревень и расстреле заложников
С пленными, относящимися к первой категории, разговор у повстанцев был коротким, а смерть этих людей – мучительной и долгой. С командирами Красной армии все происходило наоборот: разговор /допрос/ – долгий, смерть – быстрая. Отношение же антоновцев к рядовым красноармейцам, как правило, нельзя назвать жестоким или бесчеловечным, хотя, конечно, случались совершенно дикие расправы и над ними. Но здесь мы говорим лишь о наиболее типичных случаях, имевших место во время наивысшего развития восстания в начале 1921 года. Так вот, обычно в антоновском плену красноармейцы находились не более двух – трех дней. Если вкратце, то "программа" их плена была следующей.
Сначала пленные бойцы попадали на допрос, а затем – на цикл лекций "о внутреннем положении", где опытные антоновские агитаторы-политработники рассказывали им о целях и причинах "всенародного восстания против насильников-коммунистов". После окончания лекций красноармейцам предлагалось добровольно вступать в ряды антоновских армий. Те же из пленных, кто не захотел стать антоновцем, направлялись в штаб повстанческого полка, где им выдавался так называемый "отпуск". Этот "отпуск" представлял из себя маленькую справку, в которой указывалось, что красноармеец такой-то, взятый в плен тогда-то, отпущен из плена такого-то числа, во столько-то часов. Обычно на справке ставился угловой штамп соответствующего повстанческого полка и имелись подписи командира полка, его заместителя и комиссара /"политкома"/. С "отпуском" на руках, красноармеец беспрепятственно возвращался в свою часть, где сдавал справку в штаб полка и после небольшого допроса, как правило, вновь получал оружие и становился в строй.