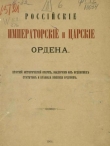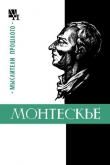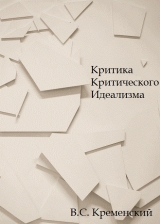
Текст книги "Критика критического идеализма (СИ)"
Автор книги: Владимир Кременский
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
в богов, стоит отметить, что коли бы от этой веры была действительная польза для человечества о предметах к которым она обращена спорили бы лишь интеллектуалы от чисто полемической скуки; нам не обязательно подвергать действию наркотического препарата человека, чтобы вызвав у него зависимость от наркотика постановить его разрушающее действие. История не однократна говорила нам– «С вас достаточно этого наркотика!»– что точно можно сказать о религии, так это то, что объективный вред причиненный ею живущим, гораздо превышает ту пользу что она приносит после жизни: смерть, война, ложь, все это, приправленное долей «необходимого каждому человеку» мистицизма, есть суть ваша вера.
Если религиозные фанатики ссылаются на то, что атеисты не могут защищать свою точку зрения, и тем более делится ею, «проповедовать безбожие», по той простой причине, что они никогда не общались с богом, никогда не чувствовали его, не познали его, тогда почему мы не можем сославшись на прямое невежество религии, отрицающей естественное происхождение всего живого, запретить им наконец защищать и распространять себя?
Фейербах уже поднимал подобную тему в своих сочинениях, давая тонкую и в основе верную ратификацию: «Возникновение жизни необъяснимо и непонятно»; пусть будет так; но эта непонятность не дает тебе права для тех суеверных выводов, которые теология извлекает из пробелов человеческого знания; она не оправдывает твоих попыток выйти за пределы естественных причин, ибо ты можешь только сказать: я не могу объяснить жизнь из этих мне известных естественных явлений и причин или из них, каковыми я их знал доныне; но ты не имеешь права сказать: жизнь принципиально вообще необъяснима из природы – ведь ты не имеешь основания считать, что ты исчерпал океан природы до последней капли; ты не имеешь права допущением воображаемых существ объяснять необъяснимое; ты не имеешь права объяснением, не дающим никакого объяснения, обманывать и вводить в заблуждение себя и других; ты не имеешь права свое незнание естественных материальных причин превращать в небытие таких причин; ты не имеешь права обожествлять, персонифицировать, объективировать свое невежество в такое существо, которое должно преодолеть это невежество, но которое на самом деле только выражает сущность твоего невежества, отсутствие положительных, материальных основ для объяснения.»– действительно, мало того что церковь творила ложные «концепты нашего телесного и внетелесного бытия», убедив в верности этой лжи большую часть общества, страждущую часть, ибо таковых всегда преобладающее число, оно позволило распространить и породить ворох никчемных, пустых, порою даже смешных идей и теорий, которые, существуй они в другой обстановке, могли быть разве что, речами сумасшедшего.
Как следует из основного диалектического закона: жизнь, есть совокупность единства и борьбы противоположностей. Наряду с научным прогрессом, развитием мыслительных и чувственных функций человека, его эволюции, неизбежным стоит признать факт вечно идущего с ним в ногу «тормозом» этого прогресса, того, что карало его за этот прогресс, того, что проповедовало регресс и декадентство человечества– религию(и). Некоторым людям выгодно веровать в чудеса творения, божков и жизнь после жизни, причиной всему этому есть лишь страх, некомпетентность, нищета, одним словом– собственная никчемность. Подкрепляется это также слабостью человеческого духа, его нерешительностью, человек идет тем путем, который подразумевает меньше всего препятствий– в церковь.
3.
На что же дальше Фейербах обращает наше внимание?
«Взгляд, будто сама природа, мир вообще, вселенная имеет действительное начало, что, следовательно, некогда не было ни природы, ни мира, ни вселенной, есть убогий взгляд, который только тогда убеждает человека, когда его представление мира убого, ограниченно; это представление есть фантазия, бессмысленная и беспочвенная фантазия, будто некогда не было ничего действительного, ибо совокупность всей реальности, действительности и есть мир или природа. Все свойства или определения бога, превращающие его в предметное, действительное существо, представляют собой лишь отвлеченные от природы, природу предполагающие, природу выражающие свойства – такие свойства, которые исчезают, как только кончается природа. Правда, у тебя остается сущность, совокупность таких свойств, как бесконечность, сила, единство, необходимость, вечность, даже тогда, когда ты отвлекаешься от природы, когда ты отвергаешь ее существование в мыслях или воображении, то есть когда ты закрываешь свои глаза, изгоняешь из себя все определенные чувственные образы естественных предметов, следовательно, представляешь себе природу не чувственной (не конкретной, по выражению философов). Но эта сущность, остающаяся за вычетом всех чувственных свойств и явлений, есть не что иное, как отвлеченная сущность природы, или природа в абстракции, природа в мыслях. И в этом отношении твое выведение природы или мира из бога…»– все это понятно, воображаемые боги в угоду невежеству и неприязни церкви к естествознанию. Все это понятно, для материалиста: для него это действительный факт, факт существования планеты до появления на ней всего живого, факт существования вселенной до существования этой планеты и так далее; выступает такой же истиной, как для верующего фактическое существование его бога. Как известно, не так давно «нерушимой» истиной служило суждение о том, что Земля есть неподвижная планета, стоящая в центре вселенной и что вокруг нее двигаются все остальные космические тела. Таким образом, теологи «доказали» вмешательство бога в сотворение мира, по всем библейским канонам. В конце концов, под давлением научного прогресса от этого средневекового геоцентризма отказались, уж слишком губительно было для церкви такая необразованность. Тогда, почему же все упорно продолжают настаивать на участии бога в процесс генерации жизни на Земле? Не достаточно ли фактов, для доказательства того, что материя существовала всегда– она никогда не отсутствовала, а значит и не была сотворена.
Принятие этого положения для религии, значило бы окончательно похоронить своего бога, и уж тогда, всякому служителю церкви не избежать суда общества, обманываемого уже более двух тысяч лет.
Для Фейербаха как материалиста не просто материя, но бытие играет главенствующую роль в формировании сознания и становления человека, просто исходя из логического умозаключения того, что природа (бытие) существовала задолго до появления человека, соразмерно с изменением природы происходила и перемена сознания. Отсюда проистекает еще один вывод: весь гносеологический спор между материалистами и идеалистами заключен лишь в том, что понимают они под природой самого человека. Природой сознания его, есть сознание божье– так говорят идеалисты, или проще говоря– сознание порождено сознанием, не материей. Отбросив от себя антинаучную, религиозную и прочую теософскую чушь, разумному человеку нельзя забывать о том, что сознание, есть суть та же материя. Ежели создателем всякой материи является нечто, нематериальное, трансцендентное, божественное, то каким образом стоит воспринимать объективный, материальный мир, ведь если сознание есть та же материя, не приходим ли мы к выводу, что породив сознанием сознание мы лишний раз доказываем то, что материя рождается из материи, но не из трансцендентности, антиматерии? От этого постулата удобно открещивается идеализм, утверждая: «Дескать, человеческий разум, есть мозг, он то может и материя, но душа– она нематериальна»; Мах с Авенариусом, как я выше уже обращал внимание, вообще не признавали мысль, сознание продуктом мозга, тем самым отрицая прямую функцию этого органа.
Фейербах последователен в своих выводах, и каждое его слово, дополняет предыдущее, его материализм возведен в логическую систему, опираясь на естественные факты, он доказывает свою правоту, правоту своих предшественников– материалистов, или, как раньше считали– наивных реалистов; против отменной логики пойти может либо дурак, либо чокнутый, поэтому, мы сталкиваемся с еще одним «типом» верующих, так называемых ученых-апологетов.
Они не отрицают теории эволюции видов, происхождения космических тел и вселенной путем природных явлений, имеющих место быть в постоянно меняющейся вселенной– все что они делают, так это пытаются примирить христианство с наукой, утверждая, что бог стоит за всеми научными законами, ссылаясь на библейские «предтечи» всех открытий (которые всегда, как ни странно, весьма туманны и неоднозначны) записанные в виде изречений того или иного персонажа святого писания. «Любовь к науке – это любовь к правде, поэтому честность является основной добродетелью ученого.»– какова же тогда добродетель ученого-апологета?
4.
Если воспринимать человека так, как нам предлагает библия, а именно как модус божественной силы («Бог внутри тебя, и повсюду вокруг тебя…»), то что же касается всего живого вообще? Не кажется ли нам, что в этом и заключено непомерное себятничество теолога? Считать, что со всех живых существ бог одарил своим духовным присутствием человека, более того, предполагать под этим абсолютную его исключительность, ощущения себя, как единственно разумного существа в необъятной вселенной, той, которая пока неподвластна изучению человеком– все это слишком человеческий эгоизм, чтобы быть чем-то божественным. Разумеется, все это умело отрицается представителями церкви, ссылаясь на то, что гипотетически, человек в силу ограниченности своих возможностей может предполагать все что угодно (семя кантианства всюду произрастило этот идеалистический сорняк непознаваемого опыта, «вещи в себе»). Если отойди от всех канонов как идеализма так и материализма, можно посмотреть на все иным взором: «…все что непознаваемо, то не существует». Это положение звучало бы куда вернее, если несколько переработать его содержание, например так: «Все, что пока не познано, того не существует в понятии человека».
В случае с божествами (в данном случае, возьмем лишь христианство), нам стараются объяснить, что не существующий в материальном мире божок, живущий лишь в нашем сознании как образ установленного религией персонажа, реален как эти строки, изучаемые читателем.
В чем же логичность такого восприятия вещей, отчего же мы по-прежнему доказываем ложность всякой христианской мысли? Стоило бы удушить гидру ещё до её появления на свет, тогда когда вред от нее был бы ничтожен в сравнении с современностью.
Слова «мудрого» представителя православной церкви, сподвижника христианской морали, Паисия Святогорца: «Логика, прекословие, упрямство, своеволие, непослушание, бесстыдство– все это отличительные черты диавола»– гласят о том что все, чем мы обязаны современной цивилизации, есть продукт влияния дьявольских сил. Ежели, мир, который предстает перед нами создан посредством «диавола», о какой безграничной силе бога мы говорим? Впрочем, это уже придирки, которые не стоит воспринимать всерьез, ровно как и выражение «мудрого» Старца Паисия. Ведь слова его, просто-на-просто, пустословие умалишенного. А ежели нет, так кто еще, как не представители христианской церкви за всю историю своего существования более проявляли упрямство, своеволие и бесстыдство?
И Фейербах понимал плачевное состояние всего церковного аппарата, зависящего от политической власти в стране, прикрывшееся дуалистичной идеей небесного царства: церковь, продолжала блестяще исполнять свою роль– усмиряла «своевольных», спасала «страждущих»; ни один высокопоставленный христианин не проявил должного своей вере смирения, никто из них ни разу не стоял за идею о человеческом счастье на земле, все, что могла предложить церковь, это «рай» на небе для тех, кто создает себе ад на Земле.
«…Божество есть представление, истина и реальность которого сводятся к блаженству. Насколько простирается желание блаженства, настолько, не дальше, простирается представление о божестве. У кого больше нет сверхъестественных желаний, для того больше нет сверхъестественных существ.» Творить себя, формировать себя в рамках бытия– вот истинная цель атеизма, лишь в том, чтобы наконец дать в руки человеку ключ от земного Эдема, от элизиума человеческого бытия. Тот, кто не понимает Ницше, не понимает пылкость его духа и отстраняется от пугающего его атеизма, должен обратится к Фейербаху, как к последнему, из представителей классической немецкой философии. Логика, оружие которые утилитарно для любой религии, то орудие, которым Фейербах овладел в совершенстве.
Глава 3. Идеализм как общечеловеческий феномен
1.
Существуя в рамках человеческого сознания, всякая сравнительная характеристика вещи, будь она доставлена эмпирически или мыслительно, не может ссылаться на абсолютную объективность суждения о ней. Безусловно, лишь потому, что каждое отдельно взятое сознание, есть совокупность огромного количества ложных, субъективных суждений о вещах.
Постановление точной характеристики вещи, путем консенсуса между некоторым количеством людей с различным видением сути этой вещи (диалектически), приводит к уничтожению понятия об её идеальной стороне. Более не существует неоднозначности в сознании каждого из присутствующих людей, теперь вещь обрела грани, она стала объективным суждением о самой себе. Все скептики, или критические идеалисты (начиная с Канта), ставили под сомнение абсолютность человеческого познания, подразумевая, что каким бы верным не казалось суждение, всегда может существовать та его сторона, что контроверсальна уже принятому постулату. Таким образом, если есть стул, существующий в рамках одной комнаты, мы можем убедиться в том, что он действительно существует, просто зайдя в эту комнату. Отсутствуя в комнате, человек не может быть уверен в наличии стула, так как есть вероятность что его вовсе там не было; все это, согласно релятивизму Канта, вернее сказать, его агностицизму.
Сложность опытного познания и заключена в том, что его всегда можно поставить под сомнение, без всякого основания, просто ссылаясь на человеческую неспособность к объективному восприятию вещей. Этим всегда поддерживалась идеальная сторона всякого предмета.
На борьбу с идеалом выступил материализм, не отрицающий существования непознанных вещей, или непознанного «реверса» вещи, однако отметающий всякую «вещь в себе», априорно непознаваемую вещь. Материализм наглядно продемонстрировал, что с упразднением границ между непознанными вещами и постигнутыми, упраздняется так же и возможность существования идеальной вещи: стул, может быть только стулом, но никак не табуретом или креслом. Никто не опровергает возможность распиливания стула на пять частей с последующей реконструкцией их в табурет. Но одновременно существование стула и табурета в одной вещи невозможно, каким бы идеализмом не пользовался мыслитель, вещь будет иметь ровно столько граней, сколько она может иметь. Идеал шагает с нами по жизни не просто как абстрактное понятие о чем-либо, всегда, когда мы надеемся, создаем мечты, ставим цели, мы руководствуемся лучшими факторами для достижения поставленной интенции, лучшими, вопреки реальному основанию для свершения своих стремлений, а значит идеальными.
Продуктом идеального восприятия становятся всевозможные ошибки, неудачи на пути к цели, а то и вовсе отказ от нее. В то же время, отнюдь не значит, что человек должен лишать себя определенной доли оптимизма, оптимизма, исключающего идеальное обстоятельство.
Человек должен опосредоваться в реалиях бытия, по возможности трезво оценить свои способности, взвесить усилия, которые стоит приложить для установления своей цели.
Религиозный человек, терпящий неудачу во многих начинаниях, со временем продолжает попытки добиться успеха в своем предприятии; по достижении цели он с облегчением воскликнет «Слава Богу!»– в данном случае, независимо от реальной обстановки, в сознании верующего создается априорная постановка божественного участия в его бытии, влияние извне на его сознание. Такая установка ошибочна, так как под фатализмом воспринимает абсолютный идеал бога: всевышнего, всеслышащего, всесознающего. Для эдакого адоранта, невозможным принять во внимание факт самостоятельного движения материи (общества, как высшей формы организации материи), без вмешательства бога. Не смотря на это, богомолец соглашается с тем, что его бытие, определило его сознание, приведя его к успеху, но подразумевая, что божество определило это бытие. Так или иначе, он самостоятельно добился, или не добился желаемого, независимо от «идеала», а лишь благодаря собственному стремлению и влиянию на него бытия.
Опираясь на идеал бога, верующий находит свою дорогу к желаемому по-прежнему неопределенной, подвергаемой всяческим трудностям и не исключающую трагической возможности, так же, как её обнаруживает и атеист. За исключением того, что атеист, в основном, четко сознает свою собственную свободу, ставя себя в зависимость лишь от глобального обстоятельства, общностного бытия, в независимость от духовных сущностей.
2.
Относительно любого действия, всегда начинаемого с приятия решения, нужно избрать один из способов организации действия, таким образом, я выделяю три возможных степени организации: негативную (пессимистическую), позитивную (оптимистическую), и атараксию (безразличие к развитию действия). К двум из трех организаций применяется процесс идеализации возможности совершения действия. Избрав негативный способ организации, человек всегда стоит на грани провала, зачастую, еще до начала какого-либо действия, в то же время, внезапно добившись результата, он воспринимает его как данность, ему просто повезло. Он соотносит реальность к негативному идеалу, воспринимает ту сторону вещи, которая относится к пессимизму, приятия заранее маловероятности успеха в случае преобладания в вещи негативного, трудоемкого, труднодоступного материала для действия. Таким образом, негативный идеал, есть тот, который подразумевает у вещи в действительности несуществующую сложность, невозможную для преодоления. Как, например, глядя на количество смертей при крушении самолета, человек боится летать на них, он настроен на то, что в любой момент может произойти крушение, которое повлечет за собой большое количество жертв. Однако, такой человек не стережется ездить в общественном транспорте, на частном автомобиле, не сознавая факт того, что дорожные происшествия имеют гораздо большую свою частоту, нежели воздушные. Тут вступает в силу негативный идеал, идеал принятия возможности катастрофы больше, нежели идеала успешного перелета. Вероятность такого идеализма относится к большой сфере факторов бытия индивидуума, однако сводится к пресловутой философии критического идеализма, присутствующей, в определенной доле, в каждом из нас. Всегда существует гипотетическая возможность крушения, независящая от нас; это есть релятивизм. Я, выступая с осуждением подобной точки зрения, могу сказать, что по принятии всех мер безопасности, с исключением возможности крушения априорно, то есть заведомо до полета, тем самым, создавая идеальные условия полета, мы исключим крушение– это есть формулировка позитивного идеала, или абсолютной идеализации обстоятельств полета. Но, все знают, что таких идеальных условий не существует, как и не существует идеала за пределами нашего сознания. Мы загнаны в тупик. Люди знают о невозможности существования идеала, но все равно пытаются создать его.
Оптимист полагает: «Возможность падения нельзя исключать вообще, в то время как конкретно я, совершу перелет успешно»– никто не может исключить падения самолета, так, но каждый оптимист предполагает себя выжившим в катастрофе, или же житейским счастливчиком, родившимся в рубашке человечком, неспособным на подобную кончину.
Среди этих двух, пессимиста и оптимиста, я бы выразил более верным, с точки зрения эффективности, поведение пессимиста. Таковой, не томит себя ложными надеждами, он не может быть разочарован судьбой лишь потому, что он не надеялся на её благосклонность. Без надежды, невозможна её утрата. Негативный идеализм, это критическая оценка преобладающего к возможному исходу отрицательного эффекта действия, он организовывает невозможные трудности, там, где их нет. Но он усматривает их возможность, предает им значительность.
Позитивная идеализация, делает практически невозможным способность действия к отрицательному исходу, подразумевая большую вероятность удачной развязки ситуации– оптимизм являет собой неприятие неудачи как токовой, он подсознательно ставит человека вне шансов на неудачу; в то время как в реальности одинаково возможна и гипотетическая удача, и таковая же неудача. Пессимист не томит себя пустыми ожиданиями чуда, он не требует от бытия того, чего оно не может дать; но также, он спокойно реагирует на успех своего предприятия, на положительный исход действия.
Далее рассмотрим «нейтральную» переменную, которой присуща атараксия.
Такой индивидуум не находит объективного смысла как в удаче, так и в неудаче, следовательно, не находит смысла и в целом действии. Он не соотносит свое действие принадлежащим заведомом как какому-либо идеалу, он не идеализирует, не создает возможной модели организации. Даже самого себя, он не может назвать безразличным к действию, так как и к этому он равнодушен. Он может счесть объективную причину к действию недостаточно убедительной, для того чтобы с подвигнуть его к нему. Он вступает в независимость от субъекта и объекта, самостоятельно выступая как инертный субъект. Таковой способ организации лишен всякого идеала, так как лишен всякого смысла, он существует в себе и для себя, нет нужды говорить, что индивидуум избравший таковое отношение к действию, не может объективно оценить реальность предполагаемого действия, а значит, априорно не может повлиять на него.
Существует два типа людей, люди капиталисты, и люди работающие на них. Среди обоих типов всегда, почти в равной пропорции есть те, кто желают стать/оставаться капиталистами. Есть те, кто желают, чтобы капиталисты стали работать на тех, кто ранее работал на них. Также имеются и люди, неспособные, нежелающие что-либо менять, по той простой причине, что их все устраивает, или же просто не хватает сил произвести метаморфозу бытия. Но независимо от их мнения, две противоположности, сохраняя форменное единство между собой, не прекратят тянуть канат в свою сторону. Рано или поздно, в зависимости от исторических функций одного из двух типов, канат будет на одной из двух сторон. Или же он разорвется, явив собой новый тип людей, общества. И все это, в независимости от желания или нежелания инертных индивидуумов.
Если они участвуют в борьбе, значит, они более не инертны; в зависимости от их отношения к борьбе они избирают для себя определенный способ её организации, становясь негативными идеалистами, позитивными или вновь инертными к борьбе.
3.
Что кроется в глубинах человеческого идеализма? Отчего же он не изжил себя, когда стала ясна абсурдность стремления идеализации предмета? Этот вопрос можно оставить психологам; в виду изменения общественного сознания, в самом обществе происходят метаморфозы, несовместимые с жизнью идеала, но, тем не менее, даже если предположить научно-технический прогресс уровня достаточного для преодоления чисто человеческих слабостей– болезней, смертности, недомоганий, место ему все же останется.
На протяжении двух тысяч лет человек отправил в небытие огромнейшее количество стоящих идей, руководствуясь, скорее, собственным страхом, нежели сознанием невозможности построения «эрфикса». Ссылаясь на утопичность, глупость, возможно на невежество тех или иных идеологов, человек в целом продолжал вести пропаганду собственной глупости и невежества: отрицая материальные утопичные идеи, но принимая трансцендентный утопизм, невежество «рупора эпохи» замещали своим своим собственным– все это обращено именно к христианству.
Когда человек говорит: «Изменение невозможно, в силу определенных причин– исторических, социальных, гуманных…»– это значит, что человек отрицает свое собственное участие в формировании этих самых причин! Когда изменение общества не стояло за человеком? Проблематика человеческой неспособности к изменению реальности лежит в его подсознательной лености, в его эскапизме и страхе. Христианство оказало нам великую услугу, объяснив что человек сам по себе ничего не может сотворить, если на то не будет воля божья, что человек не должен ничего творить, потому что для него уже все сотворил бог, а главное, человеку дали понятие об утопии, в сравнении с которой, всякая земная утопия, всякое земное счастье– ничтожно. Та же лень и тот же страх породивший христианство, испокон веков порождает в нас все те же качества. Нас учат не верить новому, не признавать за человеком силы, способной к подвижке общества по новому курсу. Первопричина современного идеализма кроется в том же, в чем кроется древний идеализм христианства– в человеке.
Что такое страх перед вещью? Это страх, предполагающий априорную неспособность произвести действие с/над этой вещью– заведомое до действия сознание своей пустопорожности. Такой страх производит негативный способ организации, создает несуществующие трудности такой глубины, что действие теряет всякий смысл, позиция переходит в атараксию.
Что такой эскапизм вещи? Эскапизм, есть человеческое стремление сбежать из реального мира в мир иллюзий; эскапизм в отношении вещи порождает идеал недосягаемости для человека вещи, как следствие, невозможность изменить её или повлиять на её сущность. Когда человек эскапичен, он отрицает реальность в замен трансцендентности, он губит реальность в угоду трансцендентности. Мы обязаны самим себе в невозможности сотворения сознания, только потому, что однажды позволили ввести себя в заблуждение.
Декаданс неизбежен, как и неизбежна его кончина. Диалектический материализм доказал невозможность существования в мире будущего такого феномена как религия, объяснив это тем, что то, во что человек верил две тысячи лет назад, то во что он верит сейчас не есть константа– современное христианство более не удовлетворяет потребностей человеческого духа– «Дело за наукой, она победит, потому что она работает». Но и в будущем, среди несовершенной свободы человеческого разума, и до тех пор, пока кардинально не сменится мировой порядок, будут иметь место стремления к идеальному. Homo indiget ad intelligendum: всякий идеал рассыпается под собственной невозможностью.
Глава 4. В чем тут дело?
1.
Философия дает нам исчерпывающую трактовку понятия смысла– «Смысл, есть сущность феномена в более широком контексте реальности»; другими словами, смысл феномена оправдывает существование феномена. Можно было вполне согласиться с данным определением, если бы не определенный ряд противоречий, возникший с пониманием «смысла»:
Если утверждается, что феномен только тогда имеет смысл, когда оправдано существование этого феномена, то как быть с тем, что не имеет своего оправдания к своему житью– например, с человеком?
Экзистенциалисты уже разрешили для себя вопрос о смысле человеческого существования– такового нет, собственно как и объективного смысла вообще. Для каждого отдельного «Я», факт, оправдывающий его существование, индивидуален. Но, так ли это?
Теологический идеализм, уже дал человечеству абсолютный (пускай и субъективный) смысл: единственное оправдание человеческому существованию есть то, что он является объектом творческой мысли божества. Пускай будет так, но не дает ли это понимание бессмысленности существования самого божества? Ведь мы, как его творения, являемся единственным феноменом, оправдывающим факт его существования, следовательно, до нашего
появления, бытие божества не имело смысла. В подобный тупик попадает каждый обреченный на существование объект, ноуменальный или феноменальный. Божество, как ноуменальный, имеет смысл существовать только при наличии его творений и собственного сознания в разуме сознающих творений, также, будучи абсолютом, он неминуемо из ноуменального объекта реальности, становится субъектом, т.к. воспринимается субъективно каждым отдельно взятым сознанием. Стало бы всемогущее божество загонять себя самого в подобную ловушку, заставить свои творения сомневаться в себе, а затем беспощадно уничтожить их за это сомнение, нарочно лишить себя смысла существования. Разумеется, «творец» волен развлекать себя сколь угодно долго, ведь он– бессмертен.
Бессмертие, есть еще один смысловой парадокс. Человеческая жизнь, считается осмысленной и верно прожитой в том случае если человек, свершил некоторое количество благих поступков, как утверждает нам религия, если он жил по императиву, был верен богу; в том случае, если он выполнил свою биологическую функцию, если он оставил потомство; в том случае, если он обнаружил себя мастером в каком-нибудь деле– все это, не имеет никакого значения, если человек бессмертен. Ему уже ни к чему следовать законам библии, законам бога, ибо теперь, он практически сам бог, ему более не следует продолжать свой род– отныне, всякая мораль бессмысленна, а дела, тщетны, так как в отличии от человека– временны. Фактом, определяющим теодицею существования объекта, можно было считать саму жизнь, с присущей ей кончиной. Но, когда существо бессмертно, оно, не имея своего естественного конца, лишается своего естественного смысла. Все сотворенное бессмертным– смертно, а значит, не может служить оправданием существования бессмертного, однако, как известно, боженька не только бессмертен, он также и всемогущ. Он, гипотетически, волен наделить атанасией все живое и неживое. Заставить слиться с вечностью всякий объект, однако, в таком случае, не топчется ли божество в кругу собственной бессмысленности? Религия запрещает думать об этом, она запрещает человеческий разум. «Всякого рода рационализм в мышлении, противен Богу»– именно потому, что религия не может ответить на вопросы, которые табуирует.
2.
Глядя на поросенка, легко сказать для чего он рожден: его растят для того чтобы однажды он стал пищей для своих хозяев. Он отдал все что имел и сполна возместил ту заботу, что была оказана ему людьми. Можно сказать, его жизнь была преисполнена большим смыслом, нежели жизни многих представителей человеческого общества. Все дело в том, что нужна некая внешняя, независимая от субъекта сила, что будет даровать субъекту его назначение. Образно выражаясь, человек самостоятельно дал оправдание существованию поросенка, при этом нельзя исключать того, что в дикой природе поросенок стал бы жертвой естественного отбора и скорее всего послужил бы пищей для хищного зверя.