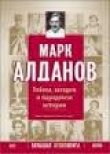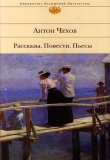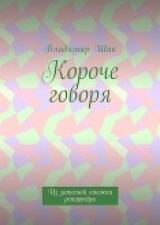
Текст книги "Короче говоря. Из записной книжки репортёра (СИ)"
Автор книги: Владимир Шак
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Идея раскрасить, оживить, развеселить, наконец, унылые остановки пришла в голову супруге главы тамошней райгосадминистрации. И за ее воплощение в жизнь взялась сотня [без преувеличения] энтузиастов. Работали – абсолютно на добровольных началах, как профессиональные мастера кисти, так и все желающие: волонтеры, как принято нынче называть неравнодушных людей, старающихся разнообразить нашу жизнь, привнести в нее частичку своей души – яркой, как улыбка ребенка, впервые увидевшего Божию Матерь, скажем.
А в Великой Белозерке Ее, Божию Матерь, можно теперь повстретить… прямо на остановке: волонтеры местные постарались, изобразив Царицу Небесную внутри одного из остановочных комплексов. Присовокупив пожелание Ей и каждому из нас: Бережи Україну.
Еще в уличной великобелозервской галерее можно веселых козаков обнаружить, возвращающихся из Крыма с солью чумаков…
А какие пейзажи углядели в окрестностях своей Белозерки Великой мастера, взявшиеся за раскраску остановок – заглядишься [ну, если не возле села они их обнаружили, то в снах своих, наверное].
***
В БЕРДЯНСКОМ музее Петра Шмидта задержался возле картины с изображением господина лейтенанта, отец которого был бердянским градоначальником на переломе позапрошлого и прошлого столетий. «А почему, спрашиваю у подошедшей ближе работницы музея, – в судебных документах Шмидт проходит, как капитан 2-го ранга?» Музейщица, внимательно взглянув на меня, словно оценив мою психическую полноценность, пожала плечами и удалилась из зала. Сам, мол, разбирайся.
Я и стал разбираться. И выяснил, что лейтенант Шмидт вышел в отставку буквально за неделю до памятных событий осени 1905-го года, связанных с крейсером «Очаков».
По существовавшему тогда положению, флотский офицер увольнялся со службы с присвоением следующего чина. Какой же чин следовал после лейтенанта? Капитана 2-го ранга! Между лейтенантом, относившимся, вместе с мичманом, к обер-офицерскому составу, иных чинов в то время не существовало. Чин старшего лейтенанта, приравнивавшийся к армейскому капитану, появился только в 1907 году, а чин капитан-лейтенанта был упразднен на флоте в 1855-м.
Поэтому матросы, знавшие по службе лейтенанта Петра Шмидта, нисколько не удивились, когда он прибыл на «Очаков» в погонах капитана 2-го ранга в отставке [они несколько отличались от погон действительного офицера. Это были так называемые продольные погоны].
По некоторым сведениям, Николай Второй в последствии таки лишил Шмидта штаб-офицерского чина. Видимо, в связи с этим в приговоре, вынесенном в феврале 1906 года, значилось: «Отставного лейтенанта Петра Шмидта лишить прав состояния и подвергнуть смертной казни».
Понижение Шмидта на руку, на мой взгляд, было на руку и пришедшим в 1917 году к власти большевикам. Создавая из образа мятежника-неудачника легенду на многие годы, они искренне полагали, что лейтенант – это почти человек из народа, чуть ли не пролетарий. В отличие, скажем, от капитана 2-го ранга.
Хотя у Петра Шмидта, повторюсь, папаша был градоначальником, а дядя – адмиралом. До пролетариата тут, между нами говоря, весьма далеко.
***
НА ДЕМОНТАЖ самого большого в Украине памятника «вождю мирового пролетариата», установленному в… городе козацкой славы, однако, – в Запорожье славном, рабочие местной инженерно-строительной компании «Форт» потратили… 28 часов 15 минут.
Как выяснилось в процессе работы, в бетоне, на который был установлен вождь, оказалось большое количество кронштейнов – аж16 штук. Это в четыре раза больше, чем ожидалось.
Похоже, Ленина возле Днепрогэса устанавливали навсегда. Ну, или до того момента, как с той стороны, куда он указывал рукой, в город за днепровскими порогами нагрянет долгожданный «коммунизьм», если выражаться языком полуграмотных партбоссов прошлого.
Мало того, когда рабочие начали пилить постамент алмазной пилой по заранее выбранному направлению, конструкция пьедестала нарушилась и Ленин поплыл -попытался было… шагнуть вперед. Может, уклониться от декоммунизации надумал. И решил в Разлив сбежать. Или в плавни днепровские. Но вождя быстро приструнили – подъемным краном зафиксировали. Чтоб не проявлял свой нрав.
Пилили постамент с вождем с помощью дорогущего алмазного троса-пилы, привезенного из Германии. Ну, а в самый ответственный момент [в 13.20 17 марта 2016 года], когда подъемный кран-силач, неспешно сорвав Ильича с насиженного, вернее, с настоянного места, стал его аккуратно опускать на землю – приземлять, значит, собравшиеся на площади запорожцы стали дружно скандировать: «Слава Україні!»
На что Ленин… никак не отреагировал. Безучастным к происходящему решил прикинуться. Впрочем, что он мог сказать?
Его время в Запорожье закончилось. Теперь уже навсегда.
В связи со свержением Ильича в Запорожье, вычитал тогда же в соцсетях:
«Ленин пал, прошла эпоха
Революций, Крупских, лохов».
Точнее не скажешь.
***
ОБНАРУЖИВ как-то в одном из сел странный памятник «вождю мирового пролетариата», у которого правая – указующая – рука была выполнена из дерева [возможно, из липы], мы полюбопытствовали у местного люда: с чем связано сие? На что получили неофициальный, шутливый ответ: так его ж, вождя, в смысле, частично папа Карло мастерил. Как и Буратино.
Реально же с липоворуким Ильичом произошло вот что. В годы Великой Отечественной войны памятник низвергли с пьедестала нагрянувшие в село немцы. Однако сельчанам удалось под покровом ночи уволочь вождя и надежно упрятать до конца военного лихолетья. После изгнания иноземных захватчиков Ильича вернули на пьедестал. А отбитую при падении руку заменил деревянным протезом местный плотник – сельский папа Карло.
И стоял Ильич долгие годы на пьедестале, указывая направление движения к липовому светлому будущему липовой же рукой.
А потом – во время декоммунизации, я липоворукого Ильича во дворе районного краеведческого музея встретил. Вполне подходящее место для вождя.
***
С УДОВОЛЬСТВИЕМ объясню, что я услышал в гимне крымских татар.
В переводе он звучит так:
«Я поклялся пред народом его горе остудить,
Сколько можно гнить живыми и под вечным тленом жить?
Если ж я смогу спокойно эту боль перенести,
Пусть застынет черной кровью сердце у меня в груди.
Я поклялся светом ясным тьму прогнать с моей земли,
Сколько можно, чтоб друг друга братья видеть не могли?
Если ж я, поклявшись светом – и не вспыхну, не сгорю,
Реки слёз пусть станут морем, превратившись в кровь мою.
Я поклялся, я дал слово за народ свой умереть!
Что мне смерть, коль не сумею его слёзы утереть.
Что мне жизнь… ведь будь я ханом, проживи хоть тыщу лет,
День придет и пред могилой всё равно держать ответ».
Вчитавшись в эти строки, я ощутил, что мы, украинцы и крымские татары, очень близки. Душевно близки, если хотите. Наш, украинский, гимн с гимном крымских татар потрясающе перекликается. По внутреннему заряду, в первую очередь. И даже некоторыми словами они похожи. Не похожи даже: почти один в один совпадают. Маленькое отличие: украинский гимн исполняется от имени всех украинцев – «душу й тіло ми положим за нашу свободу», а наши гордые братья из Крыма готовы в бой за свободу своего народа индивидуально вступить – «я поклялся, я дал слово за народ свой умереть!»
…В качестве гимна крымскотатарского народа 30 июня 1991 Курултаем была утверждена песня Ant Etkenmen [«Я поклялся»]. Автор слов Номан Челебиджихан. Музыка народная. Перевод на русский язык Лили Буджуровой. Изначально стихотворение было написано Челебиджиханом на его родном степном диалекте с отдельными элементами старого литературного крымскотатарского языка, сейчас же используется вариант, немного подкорректированный с целью приближения языка к современному литературному стандарту.
***
УСЛЫШАВ историю о переписке козаков-запорожцев с турецким султаном, художник Илья Репин тут же сделал карандашный рисунок будущей картины. А весной 1880 года уехал в Украину [сам он, кстати, был уроженцем Харьковской губернии], где и начал серьезную работу над «Запорожцами, пишущими султану».
Узнав о замысле художника, профессор Дмитрий Яворницкий предоставил ему в пользование собственную коллекцию оружия казацкой эпохи, курительные люльки, сафьяновые казацкие сапоги и даже кварту настоящей казацкой горилки [на картине она в центре стола находится].
«Наше Запорожье, – писал Илья Ефимович, – меня восхищает свободой, подъемом рыцарского духа. Удалые силы народа отреклись от житейских благ и основали равноправное братство на защиту лучших принципов веры православной и личности человеческой. И вот эта горсть удальцов, конечно, даровитейших людей своего времени, благодаря этому духу разума усиливается до того, что не только защищает Европу от восточных хищников, но грозит даже их сильной тогда цивилизации и от души хохочет над их восточным высокомерием».
Ни убавить, ни прибавить.
Ну а теперь обратимся зададимся вопросом: в под какими флагами запорожцы писали свое письмо султану?
Прошу не удивляться: флаги на картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» таки присутствуют. Они обнаружатся, как только мы обратим внимание на двух козаков, стоящих чуть левее от стола. Между этими козаками [у одного из них на голове окровавленная повязка, а у другого – шапка в форме горшка] втулился запорожец, очень похожий на… фокусника Амаяка Акопяна.
За спинами этой колоритной троицы отчетливо просматриваются… сине-желтый флаг и пика, обернутая красно-черными лентами, тоже очень похожая на флаг. Получается, красно-черные цвета [говорю пока только о них] в качестве символа борьбы за свободу козаки-запорожцы использовали задолго до славных сечевых стрельцов и не менее славных воинов УПА.
Известно, что перед покупкой картины [за 35 тысяч рублей], император Александр Третий попросил сделать по ней экспертное заключение: все ли верно изображено художником – в духе времени ли? И вот какой получил ответ от филолога и историка Федора Корша:
«Знамена казацкие, изображенные художником Репиным на его картине, не содержат по своему цветовому набору никаких иностранных веяний, а отображают в себе извечную преемственность цветов золотых и небесных, постоянно присущих для всех знаков отличий в Южной Руси [Малороссии] еще со времен Великих князей Киевских, вплоть до роспуска запорожской вольницы. Сказанному имеется предостаточно письменных подтверждений в отечественных и иностранных сугубо исторических источниках, а равно – в ряде предметов материального искусства тех давних времен».
Услышали главное: «не содержат никаких иностранных веяний»? Золотые и небесные цвета украинского флага – исключительно украинские.
***
22 АВГУСТА 2015 года в Харькове, в сквере на Красношкольной набережной, открыли памятник козацкому гетману и атаману Петру Конашевич-Сагайдачному. После оккупации полуострова в 2014 году российско-террористическими войсками, памятник был вывезен из Севастополя: 8-метровая бронзовая скульптура гетману, исполненная Владимиром Луцаком в 2008 году, была снесена с постамента в Севастополе 25 апреля 2014 года. Приказ о сносе памятника отдал Сергей Меняйло, назначенный в те дни губернатором Севастополя.
С возвращением, гетман, домой, в Украину!
А еще у меня по случаю установки памятника в Харькове история отыскалась подходящая. Называется она так:
«Как Сагайдачный врага перехитрил
Дальние военные походы по морю, как известно, Сагайдачный организовывал не однажды. Один из них был направлен на крымскую Кафу [Феодосию сегодняшнюю], в которой имелся крупнейший по тем временам невольничий рынок. В основном наших людей, христиан правоверных, захваченных в плен турками и татарами, продавали на нем в рабство. Осадив город, казаки Сагайдачного частично разрушили его, потопив находившийся в Кафе турецкий флот. Главное же, что удалось им сделать, – так это освободить из рабства тысячи невольников.
А затем гетман с войском запорожцев уже на берега турецкой Анатолии высадился. Он также совершил поход в Молдавию, брал штурмом турецкий город Трабзон. И, наконец, турки решили жестоко наказать гетмана, снарядив против него мощную эскадру. Но напрасно турецкие корабли ждали быстроходные «чайки» казаков под Очаковом: разгадав замысел противника, Сагайдачный увел свою флотилию из Черного моря в Азовское. Поднявшись далее по реке Берде – до водораздела, запорожцы перетащили по суше свои легкие «чайки» до Конской реки, как в те времена называлась бегущая по Запорожской области река Конка, и спустились по ней до Днепра. А потом ввязались в бой серьезнейший, в ходе которого в пух и прах разгромили турецкую эскадру.
Кстати, вполне возможно, что где-то в степи просторной, скажем, поблизости от запорожского села с необычным названием Конские Раздоры [там Конская река раздваивается – «раздирается», выражаясь языком козаков], гетман Сагайдачный, ведя запорожцев на янычар турецкоподданных, устраивал привал. И, бродя по берегу реки, вдыхал полной грудью ароматы степные, всматриваясь в бескрайние просторы приазовские, где в одном месте… даже водопад отыскать можно, между прочим.
Место это не только видно издалека: его слышно издалека. Там, примерно с высоты пятиэтажного дома, в глубокую, густо заросшую балку, с шипением низвергается с красноватых гранитных скал водопад. Стоя однажды на его вершине и, как и гетман Сагайдачный, вдыхая аромат чабреца, который у меня почему-то ассоциируется со свободой, я попытался представить себя… самим гетманом, который где-то тут неподалеку стоял на коротком отдыхе со своим отрядом запорожцев перед решительным боем с врагом.
Когда на глаза от избытка чувств навернулись слезы, я понял: мне это удалось».
***
МОЯ мама, Мария Украинченко, войну закончила под Кенигсбергом – на берегу залива Фриш Гаф, и домой, в Черниговскую область, вернулась с погонами старшего лейтенанта медицинской службы и орденом Красной Звезды. О военных буднях мама вспоминала очень неохотно. Но об одном бое, который пришлось принять ее медсанбату на территории Польши, иногда рассказывала.
А произошло вот что. По какому-то странному стечению обстоятельств полевой медсанбат мамы оторвался от основных войск и выехал к небольшой деревушке. Выяснив у местного народа, куда направилась основная колонна [с бронетехникой и артиллерией], машины с красными крестами покатили дальше – туда, куда их направили сельчане. И угодили… прямо к немцам. Вероятно, каким-то образом опередив даже передовые части.
Начался расстрел медсанбата. Как вспоминала мама, фашисты с какой-то дикой яростью накидывались на раненых, которые не могли оказать серьезного сопротивления, и добивали их буквально в упор. И уничтожили бы, наверное, всех, если бы, наконец, не подоспели наши. Увидев на трассе растерзанный советский медсанбат, наши бойцы не просто разгромили фашистов, они их – вместе с техникой, разумеется, стерли с лица земли.
По воспоминаниям мамы, ожидая помощи, оставшиеся в живых медики медсанбата и раненые бойцы вынуждены были ночь пролежать в снегу.
Кстати, когда начальник медсанбата заполнял наградной лист на мою маму, он в этот достаточно сухой документ вписал от души: «Проявляла исключительную заботу и любовь к раненым. Достойна правительственной награды – ордена Красная Звезда».
Приблизительно в это же время на Балтике участвовал в высадке морского десанта на занятый немцами берег мой отец, красноармеец Григорий Шак, который на фронт ушел тоже из Черниговской области [мама и отец были родом даже из одного района, но до войны не встретились]. К сожалению, наше командование недооценило тогда силы врага: фашисты яростным огнем не позволили десантникам зацепиться за берег. Десант был разгромлен. Тяжелое ранение в живот получил единственный из оставшихся на воде десантников – мой отец. И он единственно правильное решение – поплыл в открытое море. Надеялся, что его заметят с катеров, которые должны были доставить десантникам боеприпасы.
Отцу повезло: с одного из катеров, подошедших к вечеру к месту высадки десанта, глазастый морячок заметил в море раненого десантника. Отца спасли и отправили в госпиталь.
…Мои родители, царство им небесное, в счастливом браке прожили более сорока лет. А если бы кто-то из них не дожил до Победы, не вышел бы победителем из своего самого решающего боя, о котором я рассказал, для меня это было бы самое страшное, что могло произойти на той страшной войне: ведь я бы тогда не появился на свет!
2010, 2013, 2015
***
ПОЧЕМУ школу я не люблю… со школы.
Это действительно так: школу я не люблю с той самой школьной поры, о которой сложено столько замечательных песен.
Во-первых, мне не нравился ни один школьный предмет: их преподавали нудно и не интересно, заставляя запоминать массу не нужной для жизни информации. Во-вторых, в десятом классе я угодил в нелепую историю, которая едва не стоила мне аттестата о среднем образовании.
Произошло вот что. Через два месяца после начала нового учебного года, на свой день рождения я по глупости принес в школу… бутылку красного шампанского [как припоминаю, оно называлось «Кармен»], сняв предварительно с пробки проволочку-фиксатор. На первом уроке, когда мы писали контрольную по биологии, пробка оглушительно выстрелила, шампанское обильно излилось в портфель, просочившись и на пол. Контрольная была сорвана.
Впрочем, не только она.
Узнав о случившемся, наша классная руководительница испросила у директора разрешения на отмену остальных уроков и затеяла вместо них разбирательство с пристрастием: зачем принес шампанское, кого и где собирался им угощать. Разбирательство, надо заметить, происходило в рамках комсомольского собрания, на которое пригласили и директора школы, и завуча, и еще кого-то из учителей-предметников… народу, помню, на собрание изрядно прибыло.
Дело дошло до абсурда: классная поднимала моих одноклассников и выпытывала: ты бы, мол, пил с ним [на время собрания я превратился в безликое местоимение]? Кто-то молчал, потупив голову, кто-то выдавливал из себя хриплое «нет». А кто-то, глядя в глаза классной, отвечал дерзко: да, пил бы.
Сначала меня решили выпереть из комсомола, но две наших девчонки-активистки заявили, что согласны взять меня на поруки и о моем пребывании в комсомоле вопрос больше не поднимался, но классная не унималась! И, о чем-то пошептавшись с директрисой, бросила мне в лицо: «Аттестат о среднем образовании ты не получишь, можешь не надеяться».
Угрозу свою ей осуществить, однако, не удалось. В школе, видимо, решили: негоже одного из лучших выпускников [а я и был одним из лучших] лишать «корочки» о получении среднего образования, и аттестат мне вручили как и всем – на выпускном вечере. Присовокупив к нему Похвальную грамоту размером с наволочку.
***
МНОГО лет назад, еще не живя в Запорожье, а заглянув в него лишь в отпуск, я купил кассету с украинскими песнями. Песни разные на ней были: задорные, лирические – всякие. Но была там одна, которая не оставляла равнодушным никого, кто бы это ни был. Неоднократно убеждался.
Даже не понимая слов, слушающий ее обязательно задумывался глубоко, уходил в себя, не замечая уже вокруг никого. Оставаясь наедине с песней.
Пересказывать, о чем она – глупое дело, но попробую передать суть. И настроение исполнителя. Песня эта – рассказ о Матери, ожидающей сына. Каждое утро, на рассвете… нет, не рассвете даже – перед рассветом, когда горизонт только-только светлеть начинает, Мать выходит к калитке и вслушивается в предутреннюю тишину. Не шаги она жаждет услышать. Она слушает, не зашумят ли крылья в небесах, которые принесут ее сына.
А его все нет и нет. И когда он появится – никому не известно. И повисает в прозрачной тишине надвигающегося утра просьба Матери: «Не блукай, дытыно, через Украину, через нашу хату вжэ качки лэтят»… утки, значит – как символ наступившей весны, обновления мира.
Песня эта мне, может быть, особенно дорога потому, что я много лет живу без матери. Примерно с той поры, как у меня появилась эта кассета с украинскими песнями.
Мать-украинка сына не случайно птицей воспринимает. Я даже знаю, какой – Соколом. Потому что именно Сокол издревле олицетворял Мужчину моей Родины. И герб Украины-то тоже птицу напоминает: сокола, сложившего крылья и вертикально падающего вниз.
Не было в Украине, на Руси Киевской, никакого Рюрика, придуманного, видимо, сказочником Карамзиным – автором «Истории государства Российского». Были рорики – западные славяне, поклонявшиеся Рорику [Соколу, т.е.]. Считавшие его символом своего рода. Из них, из рориков, и сел кто-то на княжеский киевский престол однажды. Свой человек, брат по крови. А не варяг хмурый, выходец из северных скандинавских стран.
Норманны действительно служили в дружине киевского князя – в качестве наемников, как мы бы сейчас сказали. И не более того. Влияния на государственную политику они не оказывали. И не могли оказать. Так как здесь, на Киевской Руси, испокон веков существовала культура великая, и народ великий проживал.
К слову заметить, в Норвегии, насколько я знаю, по сию пору сохраняются могилы норманнов-наемников. На них стоят серые надгробные камни с надписями: погиб в Гардариках. Так викинги некогда уважительно Русь мою называли – Страной Городов, Гардарикой.
***
В НАЧАЛЕ сентября 2009 года, мне довелось побывать на Бердянском международном кинофестивале «Бригантина».
За неделю жюри [и зрители, естественно] посмотрели и оценили 21 художественный фильм, а также 22 документальных и девять телевизионных.
Вечером 3 сентября в городском Дворце культуры были оглашены итоги кинофестиваля. А днем состоялась самая короткая пресс-конференция фестиваля, главными задавальщиком вопросов на которой был я, пусть не покажется это кому-то не скромным.
Как все происходило, я потом изложил в своей газете – в коротком отчете под названием «Главный вопрос киношной пресс-конференции». Вот этот отчет:
«До закрытия кинофестиваля оставались буквально считанные часы, когда журналистскую братию оповестили о возможной пресс-конференции. И кое-кто, несмотря на близкое соблазнительное море, потянулся к месту, определенному организаторами. Включая и нас с фотокорреспондентом Сергеем Томко. А вот из участников кинофестиваля даже через полчаса после объявленного времени начала конференции замечен был только член российской делегации, режиссер, сценарист и актер Гарник Аразян. Неспешно войдя в холл, где и должна была случиться пресс-конференция, он, обращаясь ко мне – я ближе всех ко входу стоял, в полушутку предложил: задавайте вопросы. Уловив настроение режиссера, я спросил у него:
– Скажите, пожалуйста, где здесь можно приобрести недорогое, но качественное пиво?
– Вы знаете, – тут же среагировал Гарник Аршавирович, – в условиях кризиса это очень большая проблема. Так что до следующего фестиваля ничего утешительного вам не обещаю.
И, выдержав паузу, интересуется:
– Еще вопросы есть?
– Спасибо, нет, – честно признаюсь я.
Мы улыбаемся и, как старые друзья, крепко жмем друг другу руки. Пресс-конференция на этом заканчивается».
***
ПОЛТОРЫ сотни муравьев, ретиво взбирающихся на дерево, член Союза мастеров кузнечного мастерства Украины, владелец студии эксклюзивной художественной ковки «Статус» Александр Ракшевский, живущий и работающий в городе Токмаке, выковал для спецзаказа, поступившего из Киева. Муравьев пожелал заиметь в своей коллекции один из столичных депутатов, великий любитель насекомых.
«Сможете выполнить такой заказ?» – полюбопытствовали киевляне. «Конечно!» – ответили кузнецы из Токмака. И недели через три вся композиция была готова: и дерево токмачане выковали – с птичкой, свившей в его металлических ветвях гнездышко, и муравьиную рать.
При этом каждый воинственного вида рыжий муравей был исполнен в точном соответствии с оригиналом, безо всяких отклонений. Заказчику работа понравилась и он с удовольствием забрал ее. Как напоминание о ней, у Александра остался всего лишь один муравьюга. Плюс к нему – улитка, выкованная из гвоздя, и кузнец, тоже изготовленный из гвоздя, который Александр завязал хитрым узлом.
Меня же в коллекции миниатюр, выкованных токмакским «левшой» -умельцем, поразил больше всего не муравей [меньше него по размеру Александр в свое время выковывал божью коровку]. Удивила миниатюрная роза, которую в деталях разглядеть можно, только взяв ее в руки – настолько она миниатюрна. Причем бутон розы – цельный [из тонехонькой проволочки выкован], что особо впечатляет.
– А блоху вы подковать сумеете? – задал я вертевшийся на языке вопрос. – Вообще, эта задача выполнима?
– Подковать блоху вполне возможно, – рассудительно ответил Александр. – Потому что для кузнеца нет ничего невозможного.
***
ОСЕНЬ – самое лучше время для оценки пережитого в уходящем году, истаивающим сизым облаком на близком горизонте.
А еще осень – самое лучшее время для раздумий: о себе, о жизни, об осени, наконец! Об осени, которая рано или поздно придет в жизнь каждого человека. А как он ее встретит – зависит от каждого из нас.
Но, думается, если внимательнее присмотреться к осени, даже к ее поздним краскам, легко заметить, что осени… нет!
Не верите? А себе под ноги взгляд обратите для начала. Окиньте взглядом округу, и вы увидите, что я прав: нет осени! Есть… жизнь. Всегда.
***
В ФЕВРАЛЕ 2010 года Президент Украины наградил орденом «За мужество» [посмертно] запорожца Виктора Духовченко, поднявшего – во время Афганской войны, мятеж в пакистанском концлагере Бадабер, где вместе с афганскими военнопленными находились плененные душманами советские военнослужащие.
По прошествии времени, восстание в лагере Бадабер воспринимается нередко как эпизод той никому не нужной войны в горах Афгана. С уточнением, правда: 26 апреля 1985 года произошел неравный бой между регулярными частями пакистанской армии и отрядами афганских душманов, с одной стороны, и группой советских и афганских военнопленных, с другой. Попытка военнопленных освободиться не удалась. В результате штурма концлагеря с применением артиллерии большинство военнопленных погибли на следующий день, 27 апреля.
На мой же пристрастный взгляд, вышеозначенный «эпизод» [умышленно беру это слово в кавычки] мог стать началом полномасштабной войны между Советским Союзом и Пакистаном. Лагерь Бадабер ведь находился непосредственно на пакистанской территории – в 24-х километрах от границы с Афганистаном. При нем был организован центр подготовки боевиков, где проходили обучение будущие моджахеды, которые, после окончания обучения, перебрасывались в Афганистан и воевали с советскими солдатами. Еще на территории лагеря имелось шесть складских помещений с оружием и боеприпасами.
Склады с боеприпасами и рванули 27 апреля 1985 года. Да так рванули, что на их месте образовалась 80-метровая воронка, заснятая со спутника связи, а территория лагеря площадью в квадратную милю покрылась слоем осколков снарядов, ракет и мин. Человеческие же останки местные жители, говорят, находили на удалении в четыре мили от места взрыва.
Почему Советский Союз не пришел на помощь своим – а в Бадабере находилось, по некоторым оценкам, до двух десятков шурави, включая служащего Советской Армии 31-летнего запорожца Виктора Духовченко, я не знаю. Хотя, будь моя воля, бомбовому удару территория Пакистана подверглась бы тогда немедленно. Но я весной 1985 года в силу разных объективных причин не мог влиять на внешнюю политику советского государства [и, слава Богу, наверное]. Поэтому ограничусь лишь кратким описанием происшедшего в лагере. Опираясь на обнародованные в разных источниках факты.
В 21.00 26 апреля личный состав лагеря выстроился на плацу на вечерний намаз. Охрану в этот момент осуществляли только часовые у складов артвооружения и на вышке. По сигналу Виктора Духовченко, который, предположительно, и был инициатором восстания [в Афганистане служил дизелистом Баграмской КЭЧ, попал в плен в новогоднюю ночь 1985 года], часовые были сняты, пленные освобождены. Захватили мятежники и оружие, включая [если верить некоторым источникам] спаренную зенитную установку, крупнокалиберный пулемет, миномет и ручные гранатометы. Но вырваться на свободу им не удалось: то ли их предали, то ли охрану каким-то другим образом уведомили о мятеже. Сейчас уже никто точно не скажет, что случилось на самом деле, но известно: в лагере была объявлена тревога. И после того, как восставшие заняли оборону в арсенале с боеприпасами [!], отказавшись сдаться, начался штурм лагеря, длившийся двенадцать часов.
Во второй половине дня 27 апреля на горстку еще остававшихся в живых шурави обрушились авиабомбы. Это кроме того, что с утра Бадабер начала обстреливать пакистанская тяжелая артиллерия. И, наконец, прогремел тот страшный взрыв, который оставил после себя 80-метровую воронку… Тут только два варианта могут быть для объяснения причин случившегося: либо шальная бомба угодила таки в арсенал, либо мятежники сами взорвали его, чтобы показать всей атаковавшей их нечести, как могут умирать Воины.
***
ОКАЗЫВАЕТСЯ, вовсе не море вспоминает морская ракушка, найденная пусть даже на самом-пресамом экзотическом берегу и не шум ночного прибоя в ней звучит, а… обыкновенное эхо.
Ракушка улавливает звуки окружающего ее мира – в данный конкретный момент и повторяет их. Работает, как резонатор, говорят в таких случаях знакомые с физикой люди.
Чтобы отыскать подобный резонатор, не нужно ехать на экзотический берег – достаточно взять обыкновенную кофейную чашку и приложить ее к уху.
Эффект тот же будет. Единственное, от чего будет зависеть качество эха, – это материал, из которого изготовлена чашка. Китайский фарфор, конечно же, резонировать будет лучше.
Как лучше резонирует, якобы передавая шум моря, ракушка с тонкими боками и завитушками.
***
ПО ЛЕГЕНДЕ [которую я сам придумал], художник Архип Куинджи, заглянувший однажды в гости к Казимиру Малевичу и, не застав его в мастерской, стал внимательно рассматривать его работы.
На одну из них обратил особое внимание. Куинджи показалось, что Малевич задумал написать… ночь: настолько черна картина была. И тогда гость, чтобы хоть чуть придать картине света, взял кисть и… получилась «Лунная ночь на Днепре».
Малевич картину оставил, хотя поначалу очень разозлился на гостя. Но и свою картину таки дописал. Она известна под названием «Черный квадрат».
…Еще до презентации, как сейчас говорят, «Лунной ночи», по Петербургу гуляли слухи о небывалой по красоте картине, которую пишет Куинджи. Под окнами художника собирались те, кто страсть как хотели увидеть полотно. Каждое воскресенье он на два часа пускал в мастерскую всех желающих.
Специально для «Лунной ночи на Днепре» Куинджи организовал выставку одной картины. Для большего эффекта окна в зале были занавешены, луч света падал только на полотно. Когда посетители входили в полутёмный зал, они не могли поверить своим глазам – зеленоватый лунный свет заливал всю комнату.