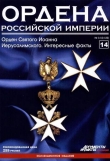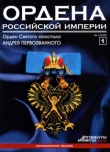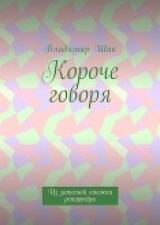
Текст книги "Короче говоря. Из записной книжки репортёра (СИ)"
Автор книги: Владимир Шак
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Non comment, как и обещал.
Отмечу лишь, что «высокий бронзовый крест, исполненный в эмали по рисункам художника Васнецова» был установлен на месте гибели [от бомбы террориста] московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Установили его, как отмечали очевидцы, «на пьедестале благородного зеленого камня». По предложению вдовы великого князя Елизаветы Федоровны, на памятном кресте сделали надпись: «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят».
***
СИДИМ небольшой компанией с легким вином – для дам и пивом – для мужчин. Под неспешный, добрый разговор и то, и другое потребляется без нареканий [со стороны потребляющих]. Одно только немного раздражает: шустрая, похожая на одуванчик дочурка одного из гостей, снующая вокруг стола и влезающая во все разговоры взрослых.
И хозяйка придумывает, как избавиться от юлы белокурой: позвав сына из соседней комнаты, просит его забрать непоседу и найти для нее компьютерную игру позапутанней.
– Папа, а я смогу? – интересуется та у отца.
– Ну, конечно же! У них такой же компьютер, как и у нас.
Юла исчезает… но тут же спешно возвращается с радостным сообщением:
– А вот и не такой! У нас – серебристый!
***
БУДУЧИ в Стамбуле, во дворце турецкого султана услышал любопытную историю, которую с удовольствием воспроизвожу.
Оказывается, в большие праздники султан разрешал заходить на территорию дворца всем желающим. Они любовались красотами и угощались всевозможными яствами, наготовлено которых было, специально для такого случая, видимо-невидимо.
По дворцу и примыкающему к нему парку можно было бродить весь день – до захода солнца. А кто не успевал покинуть дворец к этому времени, тот лишался головы. И однажды к уже закрытым воротам подбежал рыдающий мужчина, который стал умолять стражу отыскать его жену, не успевшую вовремя уйти из дворца. Он был так настойчив, что его просьбу передали султану. И султан предложил просившему: к тебе выйдут десять женщин, у которых будет обнажены только правая рука. Если по прикосновению к ней ты определишь свою жену, отпущу ее с миром, а если нет… оба будете казнены.
Подошел мужчина к выстроенным в ряд женщинам, коснулся каждой из них и показывает: вот моя жена. И точно – это была она!
– Как же ты угадал, – удивился султан. – Объясни.
– Очень просто, – ответил мужчина. – Когда я касался чужих женщин, мое сердце приходило в волнение, а когда прикоснулся к своей жене – оно успокоилось.
***
В БЕРЛИНЕ, на площади перед величественным зданием Гумбольдского университета, случайно набрел на поразивший меня памятник. Кстати, «набрел» – очень точное слово для данного случая.
Площадь перед университетом просторная, выложена бетонными плитами. Идешь неспешно по ним [а куда в Берлине можно спешить, если не на обед?] и вдруг замечаешь под ногами плиту со свежими цветами и надписью: здесь, мол, 1 мая 1934 года нацисты сжигали книги прогрессивных писателей.
А дальше взгляд цепляется за прямоугольное окно – прямо в площади. Метр на метр оно размером, наверное. За ним, внизу, – просторная, матовым светом освещенная комната… с белыми пустыми стеллажами для книг.
До боли в сердце зрелище-предупреждение.
***
ПО КРИВОМУ РОГУ поезд тянется изнурительно долго – город очень растянутый: более 120 километров, как никак. И унылая картина за окном: красные дома, красные, словно ржавым пеплом посыпанные, дороги.
И вдруг – три буренки. Красные! Как будто бы и их припудрило изрядно криворожской специфической пылью.
Лежат себе среди зеленой [слава Богу] травы и ленивым взглядом провожают поезд.
***
КАК-ТО мы с приятелем, гуляя поздно вечером по Брюсселю, задержались возле огромного, обнесенного кованым забором здания, ярко освещенного, несмотря на поздний вечер, огнями.
Заметив вышедшего из ворот мужчину, поспешившего к ожидавшей его машине – водитель предупредительно и дверцу открыл уже, приятель мой, изрядно владеющий французским, окликнул его и поинтересовался, как пройти к Дворцу правосудия [это одно из самых величественных современных сооружений Брюсселя].
Тот охотно объяснил, а потом полюбопытствовал, кто мы такие.
Узнав, что из Украины, обрадовался почему-то, пожелал добра и уехал.
Мужчина этот, как объяснил мне приятель, был… сенатором – членом высшего органа власти Бельгии. Членом, точнее говоря, его франкоговорящей половины.
Я слушал объяснение моего спутника и думал: а у нас поздно вечером на улице состоялся бы разговор с парламентарием, скажем, губернатором или мэром? Можно их остановить так же запросто, как бельгийского сенатора, чтобы узнать дорогу и услышать в ответ пожелание добра?
Ответ, по-моему, очевиден.
И еще одна аналогичная история из бельгийской столицы. Уже даже не поздно вечером, а глубокой ночью – часа в два, видимо, останавливаем на улице все с тем же приятелем двоих прохожих и спрашиваем, как добраться до Чайна-тауна.
Там находился наш отель, откуда утром мы должны были уезжать. Частично время до отъезда мы решили скоротать в прогулке по Брюсселю. Поэтому и оказались в столь поздний час на улице.
Остановленные нами ответили, мы поблагодарили их и отправились восвояси.
А потом, неожиданно для себя, не сговариваясь, оглянулись. Те, у кого мы спрашивали, тоже смотрели в нашу сторону, о чем-то оживленно рассуждая.
И тут до нас доходит: мы же спрашивали по-русски. И нам по-русски ответили. В Брюсселе. В два часа ночи.
Такая она, Европа. Далекая и близкая.
Парни, кстати, были из Средней Азии. В Брюссель приехали на заработки. На какие конкретно, мы выяснять не стали.
***
В БЕРЛИНЕ, почти в самом центре города, есть удивительно неряшливая улица. Неряшливость ее, однако, – специально устроенная. А тусуются там, как правило, свободные, скажем так, художники, которых вполне устраивает средневековый беспорядок улицы. Много и молодежи здесь. В первую очередь, студентов.
Кафе и пивбары уличные – соответствующие: грязноватые [что не типично для немцев], с налетом, я бы сказал, старины. Словно в 18-й век попадаешь, заходя в них.
На улице поразило меня одно пятиэтажное здание, подготовленное к реставрации. В нем находилась почта, а для того, чтобы выселенный дом не мозолил глаза прохожим, власть кинула клич: напиши признание в любви и наклей его на почту бывшую.
И здание все, до самой макушки, оказалось заклеенным такими призывами. Некоторые – с четвертушку тетрадного листа. Другие – с афишу.
А у меня под рукой в тот момент только записная книжка оказалась. Пришлось довольствоваться ей.
***
ПОД ПРИГОТОВЛЕННОЕ на открытом огне мясо, мы, небольшая компании украинских журналистов, приехавших в Берлин по приглашению Гете-института [Немецкого культурного центра им. Гете], заказали и сидим, негромко переговариваемся. Ждем. Потому что пиво в берлинских барах нужно подождать – пока пена на нем усядется [или уляжется?] Наливают его, кстати, осторожно, неспешно. Почти ритуально.
И вдруг кто-то из наших обращает внимание на мужчину за соседним столиком. Очень уж он показался на кого-то похожим… Первым узнавший его негромко говорит нашему спутнику из Гете-института: «Смотри, министр иностранных дел Германии с какой-то студенткой завтракает».
Это была, конечно же, шутка, но наш провожатый, окинув взглядом сидящего, осторожно замечает: «Это и правда он».
Как? – поражаемся мы. Министр иностранных дел Ёшка Фишер [дело было в начале двухтысячных годов] без охраны в самом что ни на есть рядовом кафе, где не очень чисто, пахнет жареным мясом, пивом и табаком? Одетый едва ли не в брезентовую куртку?
«Как министр проводит свое личное время – это его личное дело. И никто не может вторгаться в его личную жизнь», – был дан нам ответ.
Министр, однако, догадался, что мы говорим о нем, что мы узнали его. Он вдруг засобирался и увел девушку прочь.
А на краешке стола остались его очки – в дорогой, наверное, позолоченной оправе. Наш спутник хватает их, выбегает на улицу и… не успевает. Министр исчез. Видимо, уехал.
Очки мы передали хозяину бара, выпили свое пиво, съели мясо и тоже удалились.
«Имейте в виду, – объяснил нам сотрудник Гете-института, – на каком-то официальном мероприятии подойти к Ёшке Фишеру невозможно. А вот тут он – запросто».
Вечером у себя в номере я включил телевизор – смотрел, чтобы хоть что-то понимать, польский канал, к слову. Шли новости. Один сюжет, другой. И тут на экране вдруг вижу… Ёшку Фишера. Министр уже не в скромной ветровочке, а в элегантном костюме.
А когда для крупного плана на него стала наезжать камера, он сделал осторожное движение рукой в правый карман пиджака. Я понял, за чем он полез туда.
Произошла, как мне показалось, недолгая заминка и министр вынул руку – пустую.
Я едва не рассмеялся. Потому что знал, где он оставил свои очки в дорогой, видимо, позолоченной оправе.
***
В ДЕНЬ Независимости Украины с удивлением узнал, что по решению самого главного чиновника Украины главный банкет страны утроили… на территории Софии Киевской.
Мать честная, у вас, господа-чиновники, а проще говоря, сволочи конченные, иных мест для застолий не осталось, что ли? София Киевская [или Премудрость Божия] – это же общечеловеческая святыня. Духовная святыня украинского народа. Банкеты на ее территории устраивать – аморально.
Так я, по крайней мере, считаю.
А еще мне пришла на ум нескольких лет давности поездка в Потсдам – городок, расположенный неподалеку от Берлина.
Главная его достопримечательность – дворец прусского императора Фридриха Великого. На его могиле, кстати, – она возле дворца находится, лаконично значится: Friedrich der Grosse, Фридрих Великий, то есть. И все. Безо всяких королевских титулов.
Наш гид рассказал, что побывавший здесь однажды президент США Билл Клинтон попросил накрыть ему стол в апартаментах Фридриха. Немцы долго думали, как достойно выйти из щекотливой ситуации – президент ведь великой страны просит, и надумали, наконец.
Музей тут, заявили они Клинтону, а не забегаловка. Уж извините, многоуважаемый Билл.
***
ПРЕЗИДЕНТ Украины Петр Порошенко в своем выступлении на торжественном заседании Верховной Рады Украины 8 мая 2015 года поздравил солдат Красной армии, а также – Украинской Повстанческой Армии.
«Слава всем воинам-победителям во Второй мировой войне! Слава офицерам и солдатам, которые воевали в Красной армии!
Слава ветеранам Украинской повстанческой армии, участникам украинского национально-освободительного движения, – которые едва ли не впервые присутствуют на подобной церемонии на таком высоком государственном уровне», – сказал он.
А в это время…
В Москве 9 мая 2015 года на марше памяти участников Великой отечественной войны «Бессмертный полк» несли портрет… Лаврентия Берии. Можно было бы сказать, что это подделка – фотошоп, НО… читаем:
«Департамент культуры города Москвы удалил со своего аккаунта в Facebook фото, на котором глава ведомства Александр Кибовский на акции „Бессмертный полк“ 9 мая запечатлен на фоне портрета Лаврентия Берии».
***
В ПЕЩЕРАХ Киево-Печерской лавры…
Называются они Ближними и Дальними. Входы и в те, и в другие начинаются в храмах. В храмах же приобретаешь свечку и с ней в руках спускаешься вниз, под землю.
Ближние пещеры несколько меньше по площади, чем Дальние. А, в общем-то, все в них примерно одинаково: узкий вход – только для одного человека [высокорослый, плотно сложенный мужчина проходит, не сгибаясь и не цепляя плечами стены], немногочисленные кельи бывших обитателей пещер, подземные церкви, где тоже служба ведется и – гробы с мощами святых лаврских старцев.
В Ближних пещерах я долго стоял возле гроба Ильи Муромца. Потому что даже не догадывался, что именно тут, в лавре, и покоятся его останки нетленные. В гробу своем [со стеклянной крышкой] Илья из Мурома выглядит… ну, как подросток. Махонький, сухонький…
Мощи святых, кстати, укрыты. Лишь у двух или трех старцев руки обнажены. У Ильи Муромца – тоже. Левая рука покоится на груди. Серо-коричневая, насколько мне удалось разглядеть при свете свечи, и иссохшая.
Я потом догадался, почему Илья Муромец роста не богатырского, хотя и считается богатырем былинным: в нем дух был богатырский, а не тело.
Казалось бы, впечатление пещеры должны производить несколько, скажем так, тягостное. Темнота ведь вокруг кромешная и – гробы с мощами. Но не чувствовал я тягости на душе. Не чувствовал! По той простой причине, видимо, что в святом месте находился. Наоборот, какой-то душевный подъем наблюдался, какое-то, ранее неведомее чувство в сердце произрастать начинало. Ощущение прикосновения к Вечности возникало. И к Святости. Настоящей, подлинной святости, столетиями многими проверенной – лавре-то тысяча лет уже.
Побывал я и в келье одного из основателей лавры – святого Феодосия Печерского. Келью его не так давно обнаружили – ну, может быть, несколько десятилетий назад. Келья крохотная у старца была. Я вытянул руки в ширину и почти коснулся стен. В длину пристанище старца святого несколько, однако, поболее, но не настолько поболее, чтобы в нем жить… жить нам, современным людям. Людям, привыкшим к цивилизации.
А Феодосий жил и молился. В том числе и за нас. И келья эта, как полагаю, особой святостью обладает.
К слову, когда я спускался в Феодосию [это в Дальних пещерах], меня обогнала странная компания. Батюшка в ней выделялся, несколько лаврских семинаристов присутствовало и трое мужчин вместе с ними шествовали – из тех, которые… не мороженым, скажем так, в городе торгуют. Хотя тоже торгуют. Поведение их бросилось в глаза. Они себя, видимо, хозяевами жизни считали, что и проявлялось даже в их скупых жестах.
Как оказалось, строго, но дорого одетые визитеры лаврские заказали службу в одной из подземных церквей. С песнопениями, естественно, молитвами всевозможными.
Долго служба шла. Мне она не интересна стала и я ушел… и как раз в келью Феодосия Печерского попал. Войдя в нее, заметил, что за моей спиной тенью осторожной в келью проник один из «хозяев жизни» – для кого служба заказана была.
Попытавшись настроиться, если можно так выразиться, на бывшего обитателя кельи, святого старца лаврского, я на какое-то мгновение выпустил вошедшего из внимания. И вскоре почувствовал, что за моей спиной уже никто не стоит, но в келье я по-прежнему не один.
Я догадался, что «хозяин» на колени опустился.
Поблагодарив святого Феодосия и полуобернувшись, чтобы выйти из кельи его, я обнаружил «хозяина жизни» почти лежащим на полу.
Это ж сколько ты, братан, подумалось в тот момент, понаделал там, на земле, что таким вот образом – в недвижную тварь превращаясь, пытаешься снискать для себя благословение святых лаврских старцев… И мне смешно стало.
***
ПО ЧЬЕЙ-ТО просьбе однажды взялся выяснить, какие награды имел небезызвестный корнет Оболенский, которому, напомню слова песни, приказывали надеть ордена – как раз в тот самый момент, когда поручик Голицын будет невесть кому раздавать патроны [«Поручик Голицын, раздайте патроны. Корнет Оболенский, надеть ордена»].
Для начала обратимся к справочной литературе, чтобы узнать, какие конкретно ордена существовали в императорской России. А вот какие:
Святого апостола Андрея Первозванного,
Святого равноапостольного князя Владимира,
Святого Благоверного князя Александра Невского,
Белого Орла,
Святой Анны,
Святого Станислава,
Святой великомученицы Екатерины [или орден Освобождения],
Святого Великомученика и Победоносца Георгия.
Нелишним будет также заглянуть в так называемую Табель о рангах, откуда станет известно, что чин корнета – первый офицерский чин, существовавший только в кавалерии, относился к 12-му классу.
Ну, а дальше, бегло пробежав статуты императорских орденов, приходим к выводу, что корнет мог быть представлен к награждению только двумя орденами: Анны 4-й степени и Владимира 4-й степени.
И еще немаловажная деталь: в 1839 году было высочайше постановлено, что младшие офицеры [от поручика и ниже] представлялись к орденам лишь за «особые подвиги». А «за успешные действия в пределах своих обязанностей» им положено было объявлять Высочайшее благоволение [благодарность, то есть, от имени монарха].
Иначе говоря, кроме как за отвагу и доблесть на поле боя корнет к ордену представлен быть не мог.
Существовала, правда, в России практика награждения за выслугу лет – как гражданских чиновников, так и военных. Но в песне, которую мы пытаемся анализировать, есть строфа о возрасте нашего героя: «Ну, что загрустили, мой юный корнет?» Отличие за выслугу ему, следовательно, никак не грозило.
Теперь вновь обратимся к статутам орденов императорских, откуда узнаем следующее: орден Святой Анны 4-й степени – это «красный финифтяный крест в золотом поле, заключенном в красном же финифтяном кругу, над крестом золотая корона». И далее: «Знак сей прикрепляется к военной шпаге, сабле, полусабле, палашу, кортику». Это я к тому клоню, что в привычном понимании слова надеть орден Святой Анны 4-й степени невозможно было: он на сабле носился.
Орден Святого князя Владимира по значимости, как военная награда, следовал сразу после ордена Святого Георгия [которым награждались армейские и морские чины с 1-го по 10-й класс] и весьма ценился в дореволюционной России. Получить его мог любой офицер, начиная с низшего, 14-го класса.
Выходит, автор песни должен был приказать корнету Оболенскому надеть орден, а не ордена?
А ничего не выходит!
Потому что за отличие в бою представлявшийся к награждению корнет автоматически производился в поручики [чина подпоручика в кавалерии не существовало]. Отсюда вывод: корнет Оболенский [и любой другой корнет] вообще не мог иметь орденов.
***
УСЛЫХАВ по радио – на музволне, поздравление шахтеров села Нижние Уключины [название изменено – не в нем суть] с каким-то праздником никудышним – вроде дня монтажников стоп-кранов, задумался: откуда это в Уключинах шахтеры появились? В повальном пьянстве – да, замечен был нижнеуключинский люд, проживающий на сугубо сельскохозяйственной территории. А вот чтобы он уголек добывал – не было такого ни в новейшей истории Нижних Уключин, ни в прежней, додемократической, извиняюсь за выражение.
И тогда меня просветили знатоки. Оказывается, уголь нижнеуключинцы добывали… с проходящих мимо села грузовых поездов. Составы, приближаясь к Нижним Уключинам, специально приостанавливались на переезде и со всех сторон на вагоны с углем карабкались местные «шахтеры». Сколько скидывали уголька на землю за время недолгой остановки, столько и доставалось им дохода: черное золото ведь нижнеуключинцы продавали по селам окрестным. Причем уголь первоклассный, как утверждали знатоки.
Угольную лавочку закрыли элементарно: поезда грузовые приказали пускать мимо Нижних Уключин в режиме скорых.
Почему раньше этого не делали? Понятия не имею. Почему грузоотправители тревогу не били? А потому, что груз был застрахован. Убытка, следовательно, никакого не наблюдалось.
Ну, а шахтерам нижнеуключинским что делать пришлось? Не знаю, тосковать, наверное. И поздравлять друг дружку через радиоэфир, сетую на недобрые – для них, времена.
***
В ГОРОД неожиданно ворвалась весна…
Почему неожиданно? Никто не ответит, почему. Ждешь, ждешь ее, соскучившись по теплу и солнцу, а весна, не реагируя на наши ожидания, всегда врывается к нам в город именно неожиданно. Чтобы удивить, околдовать своим приходом.
И мы удивляемся. Серобокой вороне, деловито расклевывающей шишку на сосне [ворона – шутница превеликая: дождавшись весны, она решила на полдня белкой заделаться].
Удивляемся парку, отразившемуся в зеркальной воде пруда, одуванчику ярко-желтому, приподняшемуся на тоненькой ножке над проснувшейся землей, крохотной пчелке, пригревшейся на этом одуванчике и, очарованные, надолго замираем возле зацветающего каштана.
Больше же всего весной нас удивляют наши близкие. Чем? А всем! Собой, душой своей, любовью лучистой, искрящейся… всем-всем-всем!
***
КРАСИВЫЕ названия сел в Гуляйпольском районе: Малиновка, Любимовка, Златополь… Это вам не какое-нибудь Тракторное или Бензовозное.
А поля какие просторные в Гуляпольском районе! Наверное, нет больше на Запорожье таких полей.
И в начале каждого лето на полях гуляйпольских случается самое настоящее чудо: в них отражается… алый закат.
Не отражается даже, а до самого далекого горизонта материализовывается в россыпи алых маков. Больше всего их, кстати, на полях, убегающих от Малиновки до Любимовки. Ту местность особенно любят маки.
Орлы прилетают любоваться ими, лебеди величественные. А уж мелюзги всякой воробьиноподобной вообще не счесть на окружающих маковые поля деревьях. И, перебивая друг друга, каждая пичужка во весь свой голосок звонкий нахваливает солнце, небеса с замысловатыми облаками, землю щедрую.
И себя, конечно же.
***
БЫЛО ДЕЛО, однажды я принял участие в проекте Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США [National Aeronautics and Space Administration, NASA], суть которого заключалась… в полете на околоземную орбиту некоторого количества землян в составе экипажа космического корабля «Дискавери» в рамках программы «Спейс Шатл» [миссия STS-133]. И я выполнил программу – побывал таки на околоземной орбите. О чем и выдан мне был соответствующий сертификат. В нем НАСА конкретно указало, что моя фамилия, записанная на соответствующем носителе – как, кстати, и фамилии других землян, успевших зарегистрироваться для участия в проекте, вместе с космическим кораблем попала на околоземную орбиту – на высоту в 220 миль, между прочим.
В этом, расскажу уж откровенно, и заключалось мое участие в программе STS-133: американцы просто-напросто на лазерный диск записали фамилии землян, включившихся в проект, и, отправив его в космос, затем выдали соответствующий документ всем нам, условно слетавшим в космос. Вроде бы, пустяковое дело, но, вместе с этим, ты себя ощущаешь причастным к громадному, внеземному, я бы даже сказал, проекту.
А потом – в самый неподходящий момент, как это и бывает всегда, с моим ПК случился алес капут, как говаривал один известный киношный герой, и мой насовский сертификат исчез вместе с другими не сохраненными документами.
Порасстраивавшись немного, я решил обратиться за помощью в само НАСА и на ломаном английском – с использованием жестов, разумеется, составив электронное письмо, отправил его в Штаты.
И что бы вы думали? Ответ пришел недели через полторы. Так, мол, и так, уважаемый, говорилось в нем, запрос ваш мы получили, чего и вам желаем [вру, не было такого, это я стиль старых писем вспомнил] – в смысле, постараемся исполнить вашу просьбу.
Я думал, это просто дежурная отписка. Но еще через месяц примерно мне был выслан дубликат моего сертификата! Оказывается, понял я, для маленькой НАСА важна каждая просьба большого украинца. Как мне оставалось отреагировать на такой – однозначно не формальный, подход к заявлениям и просьбам трудящихся [снова к языку дурацкий стиль ушедшей в небытие эпохи цепляется, которую сегодня часто называют совковой]? Конечно, я поблагодарил американцев за внимание – насколько у меня и у моего словаря хватило американских слов.
***
НА БОЛЬШОЙ казацкой раде довелось присутствовать – утомился невероятно.
Первая часть ее – и большая часть причем, состояла из награждения казаков. Из-за огромного количества награжденных у меня создалось впечатление, что войско, собравшееся на раду, только-только из победоносного похода возвратилось [рада, отмечу из 2017 года, проходила в середине двухтысячных]. А когда действовавшему на момент награждения верховному атаману казачьему вручили сразу два [!] ордена, а будущему верховному [его чуть позже на должность воздвигли] – орден и медаль, уведомив при этом раду, что потенциальный атаман награжден еще двумя [!] орденами, ч сделал пометку в записной книжке: «При случае предложить ввести в войске специальную медаль для награждения казаков за очередное награждение их атамана».
А что? Никому не обидно будет.
Еще можно учредить награду за трехлетие… пятилетие [и далее – по желанию] награждения атамана определенным орденом.
Если приживется моя инициатива, наградами казаки будут покрыты, как кольчугой. И бронзоветь при жизни начнут. Что очень даже выгодно: потом, после отхода их душ казачьих к праотцам, не нужно будет на бюсты посмертные тратиться.
***
ЛЮБОПЫТНЫЙ документ на глаза попался: доношение в Сенат о выборах на Сечи Запорожской кошевого атамана и старшины 1 января 1749 года: «К празднику Рождеству Христову, – говорится в нем, – находящиеся по степям и рыбным ловлям из зимовников казаки съехались в Сечь, числом которых и с жившими в Сечи более не превосходило как до пяти тысяч, между которыми по большей части были презрелые пьяницы из людей по здешнему называемые сиромахи, не имеющие у себя не токмо лошадей или какого скота, но ниже на плечах своих платья, а через зиму валяются в куренях до весеннего времени».
И вот, после Божественной литургии в праздник Рождества, кошевой атаман должен был «купленное вино в трех бочках» – «для приласкания казаков», как подчеркивает автор доношения, раздать в курени, а сверх того «беспрерывно приходящих к нему» поить вином и медом. Точно так же поступали судья и войсковой писарь «и таким образом продолжалось даже до 1 января».
При этом «сиромахи находились в беспрерывном пьянстве, чиня неописанное своевольство, и старым и умным козакам беспокойство и явное оскорбление». И кошевой, по согласию судьей, решает запечатать погреб с вином «дабы пьяниц и своевольников не умножалось… яко же в оный день праздничный два человека из козаков от вина померли».
Почему же так выходило? А вот почему: «Выбор в старшины не от старых и умных людей и не от куренных атаманов зависит, а от упоминаемых сиромах, которые между собой соглашались тайно, кого в кошевые атаманы, в судьи, писари и пушкари выбрать».
Во как! Хотя… а мы, собственно говоря, на много ли по пути демократизации «обчества» продвинулись за два с половиной столетия? Не так ли зачастую и ныне происходит, когда судьбоносные решения зависят не от «старых и умных людей», а от все тех же сиромах, будь они неладны, подкормленных дармовыми харчами и угощенных рюмашкой заветной под запальчивые обещания всего и сразу?
Но вернемся к доношению. Отреагировал на него Сенат?
Да, отреагировал. Вот коим образом: «Впредь о том вам не писать, а в смотрении за запорожцами и о воздержании их предерзостей крайнее свое старание и попечение по команде над ними употреблять».
***
Из фотоархива автора:

Грамота лауреата

Автопортрет с половецкой бабой

У памятника помидору «Слава помидору!». Город Каменка-Днепровская [фото Сергея Томко]

Родина. У озера

Кошка Зося категорически отказывается от черешни

Свержение железного Феликса. Прощальный взгляд

Два одиночества

Родина. Золотое поле

Родина. Хлебное поле

Родина. Утренняя дорога

Яблоки на снегу

Снежный апрель

На Южном Буге [фото Сергея Томко]

У Ворот солнца – в степном заповеднике «Каменные могилы» [фото Сергея Томко]
***
В АЭРОПОРТУ группа журналистов встречает одну из величайших святынь православного мира – честную главу апостола и евангелиста Луки. Вот уже и самолет подрулил поближе, вот уже и трап подали. Вот и главу Луки – она в шкатулке немалой, называемой ковчегом, сносят на землю.
Архиепископ, присутствующий при этом, встает на колени, целует ковчег и во главе процессии движется с летного поля. И в какой-то момент ковчег проносят мимо меня. Достаточно было лишь руку протянуть, чтобы прикоснуться к нему.
Руку я, конечно же, не протягивал, но ощутил в душе, тем не менее, радость необыкновенную. И комок к горлу подкатился почему-то сразу же. Еще мгновение, показалось мне, и слезы сами брызнут из глаз. Вот, значит, какова сила святыни христианской, если оказываешься в ее ауре. В поле ее действия.
Состояние подобное я уже переживал – когда по воле Божией мне довелось приложиться к деснице Иоанна Крестителя. Примерно за год до встречи в аэропорту главы апостола Луки.
Между прочим, когда ковчег доставили к храму, неожиданно поднялась буря. Даже ветки с деревьев падали – чуть ли не на голову встречавших святыню. А когда ее занесли в храм, буря прекратилась. Так же неожиданно, как и началась.
К главе апостола Луки я приложился утром следующего дня – раньше невозможно было подступиться к ней. А я не лез вперед других.
К ковчегу приложил тогда же и небольшую иконку Луки Крымского, почитаемого мной святого. А вскоре, оказавшись в Симферополе, приложил ее к мощам самого Луки Крымского [они в симферопольском Свято-Троицком монастыре находятся]. Ее и иконку апостола Луки [такие иконки раздавали прямо у ковчега в храме].
Получилось, что я как бы соединил двух святых. В мыслях своих.
***
ПОСЛЕ того, как в городе Орехове над главным куполом строящегося Свято-Покровского храма взмыл к небесам крест, настоятель храма, отец Анатолий, рассказал, что в тот момент увидели прихожане. Два белых орла появились над храмом, когда на его купол водружался крест.
– Может быть, это дух святой так себя проявил? – интересуюсь у батюшки.
– Не будем гадать. Надо спокойно к подобным вещам относиться. Людям дано было увидеть чудо и они его увидели.
Тем не менее, заинтересовавшись сообщением об орлах, отец Анатолий внимательно пересмотрел все сделанные при вознесении креста фотографии.
Птиц гордых на них обнаружить не удалось, а вот некую непонятную субстанцию – выше креста, поднимаемого краном, некоторые объективы зафиксировали.
При большом увеличении она размывалась, превращаясь в бесформенное НЕЧТО.
А потом – немногим более, чем через год, Свято-Покровский собор открывали торжественно в Запорожье.
Было, конечно, на что посмотреть при этом. Но вот НЛО над храмом углядел только уфолог Владислав Канюка. Не он даже сам: странный объект зафиксировал его цифровой фотоаппарат.
Объект – продолговатый. Вроде бы, как спускающийся к земле.
– Это явно не птица, – убежден уфолог. Высоко летящих птиц мне доводилось снимать во множестве. Выглядят на фото они иначе.
– Ангел, что ли, запечатлелся? – предполагаю я в шутку. – День-то тогда отнюдь не будничный был: праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечали.
– Об ангелах судить не берусь. Но то, что цифровая камера видит намного больше, чем глаз человека, – факт. Неоднократно подтвержденный мной лично.
***
КАРТИННАЯ галерея на улице – так можно назвать категорически изменившие внешний вид остановки общественного транспорта в селе Великая Белозерка, которому, единственному в Украине, между прочим, выпало счастье быть районным центром [Великобелозерский район, будучи в составе Запорожской области, граничит с Херсонской областью].