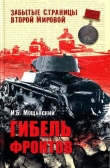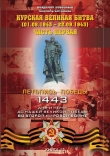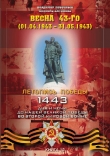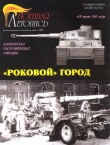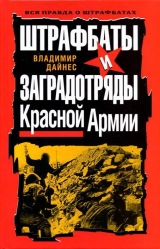
Текст книги "Штрафбаты и заградотряды Красной Армии"
Автор книги: Владимир Дайнес
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
Следствием установлено, что эти ограбления совершили: младший техник-лейтенант 20-го отдельного Мозырского огнеметного батальона Вагин Т.П., сержант той же части Кравченко A.C., красноармейцы Ленжин А.Т. и Касьянов Михаил.
В ночь на 26 февраля старшина 180-й отдельной разведывательной роты 10-й армии Доков И.Г. и красноармеец Михалев Л.М. взломали магазин Кричевского райпотребсоюза и совершили кражу мануфактуры, которую потом обменивали на самогон и продукты.
4 февраля в д. Березки Хотимского района военнослужащие 2121-го госпиталя 10-й армии сержант Голейко И.И., бойцы Первышев П.Г., Бурмистров И.С., Ильин П.П., Гудков АД. под угрозой оружия пытались увезти сено, принадлежащее колхозу «Зорька».
Эти позорные факты бесчинств и преступлений со стороны отдельных военнослужащих являются результатом плохого учета личного состава в частях и подразделениях, отсутствия контроля старших начальников за лицами, убывающими и находящимися в командировках, неполного или несвоевременного обеспечения продовольствием и фуражом некоторых частей и учреждений и отдельных военнослужащих, недостаточно четкого и жесткого несения службы заградительными отрядами, комендантскими ротами (взводами) и контрольно-пропускными пунктами.
В целях предотвращения подобных преступлений, позорящих высокое звание воина Красной Армии, приказываю:
1. Произвести проверку территорий фронтового и армейского тыловых районов, а также войсковых тылов и очистить их от различных нештатных команд, выделенных для временных хозяйственных работ и охранной службы.
Находящихся в командировках на различных хозяйственных работах и выполнивших задания немедленно возвратить в свои части; в командах, которые необходимо оставить для выполнения служебных заданий, назначить старшими лиц, способных поддерживать строгую воинскую дисциплину. Законность таких командировок оформить соответствующим документом от командира части.
Категорически запретить командирам подразделений выдавать командировочные предписания, удостоверения и отпускать военнослужащих в отпуск и командировки за пределы своего подразделения. При отправлении в командировки и выдаче командировочных предписаний строго руководствоваться приказом НКО 1942 г. № 225.
Во всех частях и учреждениях установить строгий порядок, завести учет личного состава, потребовать от всех командиров частей и учреждений непреклонно выполнять требования Устава внутренней службы в части учета личного состава, не исключая и подразделений, находящихся на передовой линии.
С целью вылавливания военнослужащих, укрывающихся от фронта, дезертиров, военнообязанных, уклоняющихся от призыва в Красную Армию, и других шляющихся проходимцев чаще проводить тщательные проверки и облавы в населенных пунктах войсковых и армейских тылов. Повысить качество службы заградительных отрядов, дорожно-комендантских рот, контрольно-пропускных пунктов и комендантов.
Всех военнослужащих и граждан, переодетых в военную форму, не имеющих соответствующих документов, задерживать и направлять под конвоем: военнослужащих – в ближайшие пересыльные пункты и запасные части, а граждан и подозрительных – в органы НКВД и контрразведки СМЕРШ.
Военнослужащих, выписываемых из армейских и фронтовых госпиталей, направлять в запасные части только организованно со старшими и точным указанием времени прибытия в пункт назначения и маршрута движения.
Дела, связанные с грабежами, кражами, убийствами и другими преступлениями, совершенными военнослужащими, разбирать немедленно и виновных привлекать к суду военного трибунала.
О всех случаях грабежей, убийствах, кражах и других бесчинствах доносить как о чрезвычайном происшествии немедленно, а по окончании следствия – о мерах воздействия, примененных к виновникам».
В летне-осенней кампании 1944 г. (1 июня – 31 декабря) советские войска, продвинувшись на 600– 1100 км, завершили освобождение территории СССР (за исключением Курляндии), полностью восстановили государственную границу, вступили в Юго-Восточную и Центральную Европу, начав освобождение народов порабощенных стран. О деятельности заградительных отрядов в ходе этой кампании мы располагаем незначительной информацией. Так, в журнале 4-го отдельного заградительного отряда 52-й армии 7 августа отмечалось: «Готовились к празднованию дня образования части. Личный состав помыт в бане, сменил белье и привел в порядок оружие и обмундирование… В 18.00 было проведено торжественное собрание, на котором с докладом выступил командир отряда майор Борисичев, осветив итоги работы отряда за год. За год отряд задержал 1415 человек, в том числе 30 шпионов, 36 старост, 42 полицейских, 10 переводчиков и др. За отличное выполнение заданий командования в отряде награждено 29 человек орденами и 49 медалями. Отряд прошел путь от Дона до реки Прут, покрыв расстояние в 1300 километров… За год прочесано 83 населенных пункта, в том числе 8 городов. Личный состав вел и наступательные, и оборонительные бои в районе Днепра, села Белозерье, города Смола и других. В результате освобождено 7 населенных пунктов… За год отряд потерял убитыми 11 человек, ранеными 40».
Анализ документов позволяет сделать вывод о том, что заградительные отряды задерживали паникеров, трусов и дезертиров, наводили порядок в тылу, проводя в ряде случаев показательные расстрелы перед строем. Однако расстрелы не носили массового характера, как это пытается доказать английский историк Э. Бивор в книге «Сталинград». Он пишет: «В каждой армии было создано от 3 до 5 хорошо вооруженных подразделений (по 200 бойцов в каждом), формирующих вторую линию для расстрела солдат, попытавшихся покинуть поле боя. Жуков на Западном фронте воплотил этот приказ (приказ № 227. – Авт.) в жизнь уже через десять дней, использовав танки, экипажи которых состояли из специально подобранных офицеров. Танки следовали за первой волной атакующих, всегда готовые подавить трусость».
Участники Великой Отечественной войны по-разному оценивают действия заградительных отрядов.
Генерал армии П.Н. Лащенко:
«Да, были заградительные отряды. Но я не знаю, чтобы кто-нибудь из них стрелял по своим, по крайней мере, на нашем участке фронта. Уже сейчас я запрашивал архивные документы на этот счет, таких документов не нашлось. Заградотряды находились в удалении от передовой, прикрывали войска с тыла от диверсантов и вражеского десанта, задерживали дезертиров, которые, к сожалению, были; наводили порядок на переправах, направляли отбившихся от своих подразделений солдат на сборные пункты. Скажу больше, фронт получал пополнение, естественно, необстрелянное, как говорится, пороху не нюхавшее, и заградительные отряды, состоявшие исключительно из солдат уже обстрелянных, наиболее стойких и мужественных, были как бы надежным и сильным плечом старшего. Бывало нередко и так, что заградотряды оказывались с глазу на глаз с теми же немецкими танками, цепями немецких автоматчиков и в боях несли большие потери. Это факт неопровержимый. Надо понять, что на передовой все делали одно дело – сражались с врагом. Между прочим, труса и паникера в бою каждый обязан образумить любыми средствами, любыми способами, вплоть до применения оружия. Это долг командира. Если он этот свой долг не исполнит, сам понесет крайне суровую ответственность. Даже один паникер может загубить целую роту, а то и батальон. Паника опасна своей заразительностью, и тогда – свалка. Из-за паникеров гибнут лучшие, самые смелые и отважные. И поэтому приказ № 227 стоял на стороне храбрых, чтобы у них была возможность спокойно и рассудительно, расчетливо и профессионально бить врага».
И.Г. Кобылянский: «Я ни разу не слышал от однополчан и сам не был свидетелем ни одного случая, когда бы в спину солдат нашей дивизии смотрели пулеметы заградотрядов. (А ведь случаев отступления на этом пути у нас было не так уж мало.) Были ли вообще встречи с заградотрядами? Да, я свидетель двум очень разным встречам.
Первая состоялась 31 июля 1943 года на Миусфронте, когда немцы выбили нашу 2-ю гвардейскую армию с плацдарма, завоеванного в течение двух предыдущих недель ценой больших потерь. Отступление было беспорядочным, многие сотни наших воинов стали жертвами жестокой бомбежки в балке, где скопились тысячи отступавших, среди которых был и я (с того дня осталось название «балка смерти»). Цепочки уцелевших и раненых медленно тянулись вдоль балки туда, где еще вчера располагались тылы. Наконец начали попадаться организованные группы солдат и офицеров, занимающие оборону. От них стало известно, что «драп-марш» остановлен заградотрядом. Вскоре появилось несколько офицеров, которые объявляли места сбора разных частей и подразделений. О стрельбе заградотрядовцев по отступавшим никто не рассказывал…
Вторая моя встреча с заградотрядом состоялась осенью того же года. По проселочным дорогам, проходившим километрах в десяти от передовой, наш полк под покровом ночи перемещался на новые позиции. Не знаю, по какой причине начальник артиллерии полка гвардии капитан Карпушинский отделил все три подчиненные ему полковые батареи от колонны полка и повел нас иным (более коротким? менее опасным? легче преодолимым с нашей тяжелой техникой?) маршрутом. Пройдя солидную часть пути, мы были неожиданно остановлены у окраины какого-то села. Со слов впереди стоявших я узнал, что нас задержала застава заградотряда, и Карпушинский в сопровождении молчаливых дежурных пошел давать объяснение командиру отряда. Прошло пять-шесть минут неприятного ожидания, и туда же потребовали всех командиров батарей. Минут через десять из домика вышли все четверо, и раздались долгожданные команды «По коням!» и «Батарея, марш!». Комментариев по поводу объяснений наших офицеров с командиром заградотряда я не слышал…» Далее И.Г. Кобылянский отмечает: «Верю тому, что в настоящих заградотрядах могли в отличие от меня начинать не с угроз и пальбы в воздух, а со стрельбы на поражение, и подобную жестокость решительно осуждаю. Но в то же время полагаю, что какие-то мобильные резервные группы (не НКВД, а в составе самих стрелковых дивизий) должны были существовать, чтобы не только своевременно остановить дрогнувших, не дав начаться цепной реакции «драп-марша», но и вместе с остановленными беглецами заделать образовавшуюся прореху на переднем крае».
Н.Г. Гудошников: «Читал, будто штрафников гнали в бой чуть ли не как скот на бойню, а сзади них стояли с автоматами и пулеметами заградотряды. Мне только одно непонятно: где авторы статей видели такое?»
М.Г. Абдулин: «Я не знаю случая, когда бы в отступающих стреляли. Под «новую метелку» в первые недели после приказа попали виноватые, а кто-то и не очень виноватый. Меня, помню, командировали из роты наблюдать расстрел семнадцати человек «за трусость и паникерство». Я обязан был рассказать своим об увиденном. Видел позже и заградительный отряд при обстоятельствах весьма драматических. В районе высот Пять Курганов прижали нас немцы так, что драпали мы, побросав шинели, в одних гимнастерках. И вдруг наши танки, а за ними лыжники – заградительный отряд. Ну, думаю, вот она, смерть! Подходит ко мне молодой капитан-эстонец. «Возьми, – говорит, – шинель с убитого, простудишься…»
Академик К.Я. Кондратьев: «Я не знаю никаких заградительных отрядов. В моей практике такого не было. Мы сами лезли вперед, и никто нас не толкал».
H.A. Сухоносенко: «В то время, когда зачитывался приказ № 227, я был курсантом Школы младших специалистов топографической службы, которая после эвакуации из Харькова находилась в Ессентуках. Был свидетелем и участником того страшного отступления наших войск (если можно так назвать беспорядочный отход массы людей в военной форме) от Ростова-на-Дону на Кавказ. Тогда, совсем еще юношей, я воспринимал это страшное бегство под натиском вооруженного до зубов фашистского войска как катастрофу. Теперь, по прошествии стольких лет, становится еще страшней от одной мысли: что могло бы произойти, если бы не были приняты суровые, но необходимые меры по организации войск, оборонявших Кавказ? С созданием заградотрядов курсанты школы, в том числе и я, привлекались к их действиям. Мы участвовали в задержании бегущих с фронта солдат и командиров, а также охраняли находившиеся в Ессентуках винный погреб-склад, консервный завод и элеватор, которые подвергались набегам этой неорганизованной массы военных людей. Двое суток под Ессентуками останавливали мы отступавших. По мере комплектования групп примерно человек по 100 отступающие сопровождались на сборные пункты. Затем ставились в оборону».
Эти мнения разделяют и некоторые исследователи.
И. Пыхалов: «Выполняя свои прямые задачи, заградотряд мог открыть огонь над головами бегущих подразделений или расстрелять трусов и паникеров перед строем – но непременно в индивидуальном порядке. Однако никому из исследователей пока еще не удалось найти в архивах ни одного факта, который подтверждал бы, что заградительные отряды стреляли на поражение по своим войскам».
Б. Лебедев: «В «Штрафбате» (речь идет о кинофильме. – Авт.) есть эпизод, в котором бойцы заградотряда из пулемета расстреливают раненых штрафников, выходящих из боя. И вновь – подлое вранье! Ветераны с экрана рассказывают, что никогда за их спиной в бою не было никаких заградотрядов. Эти отряды в ближнем тылу отлавливали дезертиров, предателей, самострелов. Да и нужды в них на передовой не было: струсивших или предавших штрафников мог на месте расстрелять их командир. В полном соответствии с приказом. Ветеранам, непосредственным участникам событий, вторят авторы документального кинорассказа (речь идет о документальном фильме «Подвиг по приговору». – Авт.): в архивах не найдено ни одного документа о том, что какой-либо заградотряд расстрелял отступивших в бою штрафников».
А. Мороз: «Почти во всех фильмах, посвященных штрафникам, авторы сценариев и режиссеры на каком-то этапе сводят их с заградотрядом. Причем заградотрядчики красуются чуть ли не в парадной форме, в фуражках другого ведомства с синим верхом, с новенькими ППШ (пистолет-пулемет Шпагина. – Авт.) и непременно со станковым пулеметом. Они демонстративно занимают позицию за спинами штрафников, чтобы огнем не допустить их отступления в случае неудачной атаки. Это вымысел… Ни один красноармеец переменного состава 1, 60, 128-й штрафных рот от огня своих не погиб. И над его головой никто никогда для острастки не стрелял. Заградотрядчики, как представители внутриармейской структуры, сами были изрядно обожжены огнем и знали: в бою случается всякое, человек есть человек, и перед лицом смертельной опасности его важно поддержать примером хладнокровия и стойкости».
С ними не согласны другие ветераны войны и авторы публикаций в периодической печати.
Военный юрист A.A. Долотцев вспоминал: «Много расстреливали. Еще и как расстреливали! Потом даже пришло разъяснение, что нельзя слишком часто и так необоснованно применять трибуналами высшую меру. После приказа № 227 мы хоть на страхе, но стали держаться. А до приказа бежали, когда и надо, и когда нет. Страх был нужен, чтобы заставить людей идти на смерть. И это в самые напряженные бои, когда контратаки, а идти страшно, очень страшно! Встаешь из окопа – ничем не защищен. Не на прогулку ведь – на смерть! Не так просто… Я ходил, иначе как мне людей судить? Потому и аппарат принуждения, и заградотряды, которые стояли сзади. Побежишь – поймают. Двоих-троих расстреляют, остальные – в бой! Не за себя страх, за семью. Ведь если расстреливали, то как врагов народа. А в тылу уже машина НКВД работает: жены, дети, родители – в Сибирь как родственники изменников. Тут и подумаешь, что лучше: сдаваться в плен или не сдаваться? И проявишь героизм, если сзади – пулеметы! Страхом, страхом держали!»
Кайзерман, участник войны, проживающий во Флориде, отмечал: «…По-моему, в заградотрядах были добровольцы. Там было не так страшно и не так опасно, как на передовой, в пехоте, и можно было сохранить свою жизнь. И эти люди не только не стыдились своей миссии, а даже как-то гордились ею, считая это «высоким доверием партии и правительства». Я лично (по-моему, и все фронтовики) таких людей презирал и никогда бы не сел с ними за один стол. Ведь если бы он тяготился своей ролью палача, то он бы мог найти много способов, чтобы перебраться непосредственно на передовую, в ряды атакующей пехоты. Но там опасно, могут и убить. Провинившихся в заградотрядах наказывали, отправляя в стрелковые роты на передовую, а за более серьезные нарушения – в штрафную роту. И страх заставлял бойцов заградотрядов ретиво выполнять свои обязанности, хотя, по-моему, в душе каждый из них понимал всю гнусность и подлость того, что они делали. Я бы тех, кто служил в заградотрядах, сравнил с теми, кто охранял лагеря ГУЛАГа, работал там надзирателем. За весь послевоенный период, на различных встречах ветеранов войны, я ни разу не встретил ветерана, который бы сказал, что он служил в заградотряде или в подразделениях СМЕРШа, ибо они прекрасно знали отношение к ним фронтовиков».
В.Белоцерковский, бывший сотрудник радиостанции «Свобода», эмигрировавший в США в 70-е годы прошлого века, утверждал, что ярким свидетельством нежелания советских людей воевать за режим Сталина была чуть ли не сплошная сдача воинов Красной Армии в плен и «учреждение летом 41-го заградительных отрядов, которые должны были стрелять в отступавших солдат. Факт столь же уникальный, как и массовая сдача в плен. Поданным комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, заградительными отрядами и подразделениями СМЕРШа было убито около миллиона солдат и командиров Красной Армии».
B.Сорока: «…И вдруг бой. Впереди – фашистский артобстрел, сзади – наш заградотряд, стреляющий по своим, и мы бежим вперед, без оружия… В штрафроте были люди, способные на все – удрать, предать. Конечно, штрафников никто не жалел. Но установка такая была: «Позор можно смыть только кровью». Если ты ранен или убит – обвинения с тебя снимаются. Только так».
П.Астафьев в романе «Плацдарм» описывает события, связанные с форсированием Днепра. «Заградотрядчики работали истово, сгоняли, сбивали в трясущуюся кучу поверженных страхом людей, которых все прибивало и прибивало не к тому берегу, где им положено быть, – отмечает Астафьев. – Отсекающий огонь новых, крупнокалиберных пулеметов «дэ-шэка», крторых так не хватало на плацдарме, пенил воду в реке, не допуская к берегу ничего живого. Работа карателей обретала все большую уверенность, твердый порядок, и тот молокосос, что еще недавно боялся стрелять по своим, даже голоса своего боялся, подскочив к Ерофею и Родиону, замахнулся на них пистолетом:
– Куда? Куда, суки позорные?!
– Нас же к немцам унесет.
Они больше не оглядывались, не обращали ни на кого внимания, падая, булькаясь, дрожа от холода, волокли связанные бревешки по воде и сами волоклись за плотиком. Пулеметчик, не страдающий жалостными чувствами и недостатком боеприпаса, всадил – на всякий случай – очередь им вослед. Пули выбили из брусьев белую щепу, стряхнули в воду еще одного, из тьмы наплывшего бедолагу, потревожили какое-то тряпье, в котором не кровоточило уже человеческое мясо. Убитых здесь не вытаскивали: пусть видят все – есть порядок на войне, пусть знают, что сделают с теми подонками и трусами, которые спутают правый берег с левым».
Заградительные отряды выполняли не только задачи, которые входили в их функции, но и нередко принимали участие в боевых действиях. Об этом уже частично говорилось при цитировании документов. Приведем еще ряд примеров. Так, командир 316-й стрелковой дивизии генерал-майор И.В. Панфилов 18 ноября 1941 г. при организации обороны выделил в свой резерв заградительный отряд численностью 150 штыков.
Уже упоминавшийся нами заместитель начальника Особого отдела НКВД Сталинградского фронта майор госбезопасности В.М. Казакевич в середине октября 1942 г. сообщал в Управление особых отделов НКВД:
«В критические моменты, когда требовалась поддержка для удержания занимаемых рубежей, заградительные отряды вступали непосредственно в бой с противником, успешно сдерживали его натиск и наносили ему потери.
13 сентября сего года 112-я стр. дивизия под давлением противника отошла с занимаемого рубежа. Заградотряд 62-й армии под руководством начальника отряда (лейтенанта госбезопасности Хлыстова) занял оборону на подступах к важной высоте. В течение 4 суток бойцы и командиры отряда отражали атаки автоматчиков противника и нанесли им большие потери. Заградотряд удерживал рубеж до подхода воинских частей.
15—16 сентября с. г. заградотряд 62-й армии в течение 2 суток успешно вел бой с превосходящими силами противника в районе ж.-д. вокзала г. Сталинграда. Несмотря на свою малочисленность, заградотряд не только отбивал атаки противника, но и нападал на него, причинив ему значительные потери в живой силе. Свой рубеж отряд оставил только тогда, когда на смену подошли части 10-й стр. дивизии.
Отмечен ряд фактов, когда заградительные отряды отдельными командирами соединений использовались неправильно. Значительное число заградотрядов направлялось в бой наравне с линейными подразделениями, которые несли потери, вследствие чего отводились на переформирование и служба заграждения не осуществлялась.
19 сентября с. г. командование 240-й стр. дивизии Воронежского фронта одной из рот заградотряда 38-й армии дало боевое задание очистить рощу от группы немецких автоматчиков. В боях за рошу эта рота потеряла 31 человека, из них убитыми 18 человек.
Заградительный отряд 29-й армии Западного фронта, будучи в оперативном подчинении у командира 246-й стр. дивизии, использовался как строевая часть. Принимая участие в одной из атак, отряд из 118 человек личного состава потерял убитыми и ранеными 109 человек, в связи с чем заново формировался.
По 6-й армии Воронежского фронта согласно приказу Военного совета армии 2 заградительных отряда 4 сентября с. г. были приданы 174-й стр. дивизии и введены в бой. В результате заградотряды в бою потеряли до 70 % личного состава, оставшиеся бойцы этих заградотрядов были переданы названной дивизии и таким образом расформированы. 3-й отряд этой же армии 10 сентября с. г. был поставлен в оборону.
В 1-й гвардейской армии Донского фронта по приказу командующего армией Чистякова и члена Военного совета Абрамова 2 заградительных отряда неоднократно направлялись в бой как обыкновенные подразделения. В результате отряды потеряли более 65 % личного состава и впоследствии расформированы.
В связи с этим приказ Военного совета фронта о передаче 5 заградительных отрядов в подчинение 24-й армии не выполнен».
Старший лейтенант запаса Д.Е. Цветков, бывший штрафник на Калининском фронте, вспоминал: «Как стенку подпирают, которая может завалиться, так и мы подпирали фронт». Далее он рассказывает, что в ноябре 1942 г. заградительный отряд занял оборону на опушке леса с задачей остановить пехоту, если побежит, и вернуть назад, в оборону. Однако никто не оставил поле боя. Противнику удалось смять оборону, и заградотряд вступил в бой с его танками.
О неправильном использовании заградительных отрядов командующими 66-й и 21 – й армиями говорилось в распоряжении представителя Ставки ВГК Г.К. Жукова от 29 марта 1943 г.: «Командующий 21-й армией (генерал-майор В.Н. Гордов. – Авт.) мне доложил, что армейские заградотряды 21-й армии распоряжением Жадова (генерал-лейтенант A.C. Жадов, командующий 66-й армией. – Лет.)забраны на укомплектование 13-й и 66-й гв. сд. Кроме того, личный состав 176-го армейского запасного полка, расположенного в Голубинском, распоряжением Жадова забирается на укомплектование частей 66-й армии. Запрещаю самовольное растаскивание частей, принадлежащих 21-й армии. Запасный полк и заградотряды 21-й армии перевести в новый район дислокации армии, а Жадову дать объяснение мне по этому вопросу».
Маршал Советского Союза К.С. Москаленко, бывший командующий 38-й армией 1-го Украинского фронта, в своей книге «На Юго-Западном направлении» рассказал о действиях сводного отряда, который сорвал план противника использовать свои резервы для противодействия наступлению советских войск севернее Киева. Отряд под командованием заместителя командира 71-й стрелковой дивизии полковника С.И. Сливина, находясь на левом берегу Днепра южнее Киева, в районе острова Казачий, действовал в отрыве от главных сил армии, которые были сосредоточены на лютежском плацдарме. В состав отряда входили 126-й и 367-й стрелковые полки 71-й стрелковой дивизии, учебный батальон, 127-й и 128-й армейские заградительные отряды. 2 ноября 1943 г. К.С. Москаленко приказал командиру сводного отряда:
«1. Силами, находящимися в вашем распоряжении, подготовить удар из района острова Казачий в направлении Вита Литовская, Пирогово с ближайшей задачей перерезать дорогу, идущую с юга через Пирогово на Киев, и не допустить движения противника по этой дороге. Операцию начать в ночь на 04.11.1943 г. по особому распоряжению.
2. С утра 03.11.1943 г. (время – дополнительно) всеми частями, находящимися в вашем подчинении и поступающими в ваше распоряжение сп (838-й стрелковый полк. – Авт.) 237-й сд и курсами младших лейтенантов, действовать огнем, применять дымы и ракеты для сковывания противника и его обмана и стремиться на западный берег р. Днепр, для чего подготовить лодки и паромы…».
По свидетельству К.С. Москаленко, это распоряжение отражало один из важнейших элементов плана предстоящей наступательной операции севернее Киева. Надо было создать заслон на пути вражеских резервов, переброску которых со стороны букринского плацдарма (южнее Киева) командование противника, как ожидалось, должно было начать сразу же после удара советских войск. Далее Москаленко пишет: «И отряд полковника Сливина блестяще справился с этой задачей. Вдень перехода армии в наступление он сковывал противника огнем и демонстрировал форсирование Днепра. А в ночь на 4 ноября на подручных средствах переправился через реку в районе острова Казачий и захватил плацдарм. Получив затем задачу развивать быстрыми темпами наступление и к концу дня овладеть населенными пунктами Вита Литовская и Пирогово, он и ее выполнил с честью. Несмотря на то что отряд был изолирован от армии и не имел поддержки артиллерии, он действовал стремительно. Перерезав дорогу, идущую на Киев вдоль Днепра, и овладев населенным пунктом Вита Литовская, сводный отряд облегчил действия ударной группировки 38-й армии по освобождению Киева. Ибо противник не смог воспользоваться ближайшей дорогой для переброски войск в город со стороны букринского плацдарма. В дальнейшем сводный отряд воспрепятствовал отходу вражеской группировки из Киева на юг по этой дороге. Успешные действия сводного отряда не ускользнули и от внимания маршала Г.К. Жукова, который счел необходимым развить их с помощью дополнительных сил».
Командующий 3-й армией 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант A.B. Горбатов при подготовке к Рогачевско-Жлобинской операции в феврале 1944 г. сосредоточил на главном направлении основные силы армии. На вопрос командующего фронтом генерала армии К.К. Рокоссовского «А кто же в это время будет держать оборону на семидесяти-километровом фронте?» командарм ответил: «Против плацдарма противника будут оставлены укрепленный район и два бронепоезда, а к северу от села Шапчинцы поставлю запасной армейский полк, заградотряд, заградроты и химроты». Это решение полностью оправдало себя. Войска 3-й армии, игравшие основную роль в операции, перешли в наступление 21 февраля, а уже 23-го вышли на подступы к Рогачеву.
В Белорусской стратегической наступательной операции (кодовое наименование «Багратион») один из корпусов (40-й стрелковый 3-дивизионного состава) 3-й армии не участвовал в наступлении, а согласно указанию представителя Ставки ВГК маршала Советского Союза Г.К. Жукова использовался для обороны северного направления между реками Днепр и Друть. Наступление войск армии в первый день развивалось успешно, но вскоре противник стал оказывать все более ожесточенное сопротивлении. Командующий армией генерал-лейтенант A.B. Горбатов вынужден был ввести в сражение частично 9-й танковый, а затем и 46-й стрелковый корпус. Но этих сил было явно мало для развития успеха. «К полудню я окончательно убедился, как бесцельно держать 40-й стрелковый корпус трехдивизионного состава, да еще с мощным усилением, для обороны северного направления между реками Днепр и Друть, – вспоминал A.B. Горбатов. – Решил на свою ответственность снять его с обороны и использовать для развития наступления. Но нельзя было не считаться и с категорическим приказом: «Прочно оборонять северное направление усиленным корпусом». Пришлось поступить так: сегодня вывести из обороны и сосредоточить у села Литовичи 129-ю стрелковую дивизию, сменив ее заградотрядами; завтра вывести из обороны 169-ю стрелковую дивизию вместе с управлением 40-го корпуса, сменив ее запасным полком. Чтобы начальство не посчитало, что его мнение игнорируется, мы оставляли пока в обороне одну самую западную, 283-ю стрелковую дивизию, которая своими основными силами уже участвовала в наступлении и в овладении селом Хомичи. Ей подчинили запасной полк и заградотряд».
И снова решение командарма оправдало себя: 40-й стрелковый и 9-й танковый корпуса успешно продвигались на запад, отрезая большие группы противника.
Если на 1-м Белорусском фронте заградительные отряды летом 1944 г. часто использовались для выполнения боевых задач, то на 3-м Прибалтийском фронте они применялись в иных целях. Об этом говорится в докладной записке «О недостатках деятельности заградотрядов войск фронта», направленной 25 августа 1944 г. начальником политического управления 3-го Прибалтийского фронта генерал-майором A.A. Jlобачевым начальнику Главного политического управления Красной Армии генерал-полковнику A.C. Щербакову:
«По моему заданию работниками ПУ фронта в августе была проверена деятельность шести заградотрядов (всего 8 заградотрядов).
В результате этой работы установлено:
1. Заградотряды не выполняют своих прямых функций, установленных приказом наркома обороны. Большая часть личного состава заградотрядов используется по охране штабов армий, охране линий связи, дорог, прочесыванию лесов и т. д. Характерна в этом отношении деятельность 7-го заградотряда 54-й армии. По списку в отряде состоит 124 чел. Используются они так: 1 – й автоматный взвод охраняет 2-й эшелон штаба армии; 2-й автоматный взвод придан 111 – му ск с задачей охранять линии связи от корпуса до армии; стрелковый взвод придан 7-му ск с той же задачей; пулеметный взвод находится в резерве командира заградотряда; 9 чел. работают в отделах штаба армии, в том числе командир взвода ст. лейтенант Гончар является комендантом управления тыла армии; оставшиеся 37 человек используются при штабе заградотряда. Таким образом, 7-й заградотряд совершенно не занимается заградслужбой. Такое же положение и в других заградотрядах (5, 6, 153, 21, 50-м).