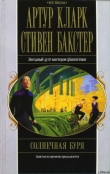Текст книги "Москва 2042"
Автор книги: Владимир Войнович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Жених
Я рассказываю о событиях, свидетелем которых мне пришлось быть, так непоследовательно, потому что в результате всего случившегося со мною я утратил внутреннее ощущение разницы между прошлым и будущим.
Когда Симыч стал знаменитым, его сразу признали все поголовно. Говорить о нем можно было только в самых возвышенных тонах, не допуская ни малейшей критики. А уж когда он женился на Жанете, при ней вообще нельзя было сказать, что, допустим, мне какая-то отдельная фраза или строчка из Симыча не понравилась. Все, что делал Симыч, было настолько безусловно замечательно, что даже определение «гениально» казалось недостаточным.
Но она, между прочим, оценила его не сразу. Я помню тот период, когда он меня не только удивил, но даже потряс тем, что втюрился в нее с первого взгляда и сразу решил соблазнить ее своим «КПЗ», который в канцелярской папке с коричневыми тесемочками сам лично принес ей для прочтения.
Жанета теперь об этом совершенно не помнит, но тогда она к «КПЗ» отнеслась очень сурово.
– Ну скажи, – говорила она мне, – почему он пишет так длинно и почему у него герои все такие бескрылые, бесхребетные и ущербные? Куда они зовут и к чему ведут? Почему он всю нашу жизнь изображает только черными красками? Неужели он не мог найти в ней ничего положительного? Ну, конечно, все знают, отдельные ошибки и злоупотребления были, и партия о них сказала со всей прямотой. Но в конце концов, сколько же можно об одном и том же? Ведь не только же плохое у нас было. Ведь сколько построено новых городов, заводов, электростанций…
Подобные речи я слышал от Жанеты задолго до этого разговора. Раньше, правда, она их произносила увереннее. А теперь и в ней появились некоторые сомнения в правоте «нашего дела». От одних идеалов она незаметно для себя отдалялась, но к другим еще не пришла.
Как сейчас помню, оказавшись однажды на Стромынке и не имея в кармане двух копеек, решил я проведать Зильберовича без звонка.
Поднявшись на четвертый этаж, у самых дверей Зильберовича нос к носу столкнулся я с человеком во всем белом и парусиновом: парусиновые брюки, парусиновый пиджак, парусиновые ботинки, начищенные зубным порошком, и картуз образца ранних тридцатых годов (где он только его раздобыл?) – тоже из парусины.
– Сим Симыч, добрый день! – поздоровался я.
Он посмотрел на меня как-то странно, словно не узнавая, и, ничего не ответив, медленно и на ощупь, как слепой, стал спускаться по лестнице.
Дверь мне открыла Клеопатра Казимировна. Она была ужасно взволнована и шепотом сказала мне, что минуту назад «это чучело» сделало ее Неточке (так она называла свою дочь) предложение.
– Но это же просто наглость! – возмущалась она. – Не имея никакого положения, да еще в таком возрасте…
Кстати, насчет возраста: Симычу тогда всего-то было сорок четыре года, но выглядел он гораздо старше.
Клеопатра Казимировна сказала мне, что Лео скоро придет, а Неточка у себя. И ушла на кухню. Жанета в ситцевом халате сидела на подоконнике и смотрела на улицу (наверное, хотела увидеть, как он выходит из подъезда).
На круглом столе посреди комнаты стояла нераскупоренная бутылка алжирского вина и маникюрный набор в коробочке, обтянутой красным бархатом.
Жанета со мной обычно особенно не откровенничала, а тут вдруг разговорилась и рассказала подробно, как Симыч пришел, как волновался, как долго пил чай и не уходил, как наконец поднялся и по-старомодному предложил ей руку и сердце. А когда она отвергла предложение, он разозлился и пообещал, что она еще горько пожалеет о своем решении, потому что о нем скоро узнает весь мир.
– Ты себе представляешь? – сказала она мне, волнуясь, возмущаясь и проявляя в то же время какую-то странную для нее неуверенность. – О нем узнает весь мир! Ты можешь себе это представить?
– Могу, – сказал я коротко.
– Почему? – удивилась она. – В мире есть десятки или сотни тысяч писателей, и каждый из них рассчитывает прославиться на весь мир.
– Ну да, – сказал я, – каждый рассчитывает. Но кто-то из них рассчитывает все же не зря. Ты же читала у него, что только один из двухсот миллионов сперматозоидов выбивается в люди.
– Ты думаешь, ваш Симыч и есть тот один? – спросила она, скрывая за насмешкой сомнение.
– Он очень упорный, – сказал я уклончиво.
– Он сумасшедший, – сказала она. – Ты знаешь, что он мне наплел? Что он чуть ли не царского происхождения. Это он-то, этот счетовод в парусиновом картузе.
Она эти свои слова, я думаю, давно позабыла, а я никогда бы не решился их ей напомнить.
У вас есть айдентификейшен?
Мы ехали по местной дороге 4, точно соблюдая инструкцию: впереди голубой «Шевроле» с заляпанным грязью номером, за ним я во взятой напрокат «Тойоте». Как и было предписано, я старался держать дистанцию, не слишком приближаясь к «Шевроле», но и не упуская его из виду.
Я думал, куда, интересно, смотрит канадская полиция и почему она не обращает внимания на то, что номер заляпан, хотя в окрестностях Торонто, судя по поблекшей траве, дождей давно не было. И конечно, думал я о Симыче, о его странных чудачествах и привычках и об этой идиотской игре в шпионы, при которой надо закрывать окна машины и заляпывать номер.
– Тоже мне, неуловимый Джо, – сказал я самому себе, вспомнив анекдот о всаднике, воображавшем себя неуловимым потому, что ловить его никто не собирался.
Водитель передней машины знал свое дело хорошо. Он держал все время одну и ту же скорость, не делал резких маневров и заранее включал сигнал поворота.
После городка, который назывался, кажется, Лоренсвил, начался большой сосновый лес за аккуратной оградой из металлической сетки. Мы проехали вдоль этой сетки несколько километров, когда водитель «Шевроле» включил правый поворот.
Съезд в лес обращал на себя внимание только тем, что был почти неприметен. Но у самого начала лесной дороги на ограде висел большой белый щит с таким текстом:
Очевидно, водителя «Шевроле» это предупреждение не касалось.
После еще нескольких километров сухой, посыпанной гравием дороги мы наконец уткнулись в зеленые железные ворота, от которых в обе стороны уходил и скрывался в лесу такой же зеленый железный забор. Вернее, уткнулся в эти ворота только я на своей «Тойоте». Перед «Шевроле» ворота открылись, а передо мной как раз успели закрыться.
Я, естественно, удивился, но проявлять нетерпение не спешил и стал разглядывать ворота, над которыми была широкая железная полоса в виде арки, а на этой полосе большими русскими буквами было обозначено:
ОТРАДНОЕ.
Я уже раньше слышал, что Симыч так назвал свое имение. Не успел я выкурить сигарету, как ворота открылись снова, и я въехал внутрь. Но недалеко. Потому что за воротами был еще шлагбаум и полосатая будка, из которой вышли два кубанских казака – один белый, другой негр, оба с вислыми усами и с длинными шашками на боку.
Белый при ближайшем рассмотрении оказался Зильберовичем.
– Здорово! – сказал я ему. – Ты что это так вырядился?
– У вас есть какой-нибудь айдентификейшен? – спросил он, не проявляя никаких признаков узнавания.
– Вот тебе айдентификейшен, – сказал я и сунул ему под нос фигу.
Негр схватился за шашку, а Зильберович поморщился.
– Нужно предъявить айдентификейшен, – повторил он.
Тем временем негр открыл багажник моей машины и, ничего в нем не найдя, кроме запаски, тут же закрыл.
– Слушай, Лео, – сказал я Зильберовичу сердито, – я из-за тебя провел шестнадцать часов в дороге, отстань от меня со своими идиотскими шутками.
– Нужен айдентификейшен, – настойчиво повторил Лео и покосился на негра, который, приблизившись, смотрел на меня не очень-то доброжелательно.
– Ну ладно, – сказал я, сдаваясь. – Если ты настаиваешь на том, чтобы играть в эту странную игру, вот тебе документ. – Я дал ему мои водительские права в развернутом виде.
Он изучил их внимательно. Как на проходной сверхсекретного учреждения. Несколько раз сверил меня с карточкой и карточку со мной. И только после этого раскрыл мне свои объятия:
– Ну здравствуй, старина!
– Пошел к черту! – сказал я, вырвав свои права и отпихиваясь.
– Ну, ладно, ладно, будет тебе пыхтеть, – сказал он, хлопая меня по спине. – Ты же сам знаешь, КГБ за Симычем охотится, а они, если захотят, загримировать могут кого хочешь под кого хочешь. Ну, пошли. Сейчас чего-нибудь с дорожки рубанем. Эй, Том! – обратился он к черному казаку по-английски. – Поставь его машину где-нибудь у конюшни.
В усадьбе
Усадьба, на территории которой я очутился, напоминала что-то не то вроде Дома творчества писателей в Малеевке, не то правительственного санатория в Барвихе, куда я однажды совершенно случайно попал.
Длинное трехэтажное здание с полукруглым крыльцом и колоннами. Перед крыльцом довольно большая, прямоугольная, мощенная красным кирпичом площадь, и от нее во все стороны лучами расходятся асфальтированные аллеи, обсаженные по краям молодыми березами. Слева от дома пара аккуратных коттеджей с маленькими окнами, справа небольшая церквушка с тремя скромными луковками и какие-то еще постройки в отдалении напротив главной усадьбы. А там еще дальше поблескивает на заходящем солнце озеро.
На площади я увидел полосатый столб с фанеркой наверху и надписью: СССР.
– Что значит Си-Си-Си-Пи? – спросил я у Зильберовича.
– Что еще за Си-Си-Си-Пи? – не понял он.
– Ну вон на столбе что написано?
– Ах это? – засмеялся Зильберович. – Ну, старик, ты даешь! Что значит эмигрантская привычка к латинским буквам. Но это, старик, не по-английски написано, а по-русски: Эс-Эс-Эс-Эр.
– Это что же, с советской границы утащено?
– Да нет, это Том сделал. Ну да ладно, ты потом все поймешь.
Какое-то существо женского пола в очень открытом сверху и снизу красном сарафане, стоя к нам спиной, поливало из шланга клумбу с хризантемами. Более безобразной фигуры я в жизни своей не видел. Она состояла в основном из огромного зада, а все остальное из него произрастало как бы случайно.
Бросив меня, Зильберович подкрался к этому заду и вцепился в него двумя руками.
– Ой, батюшки! – вскрикнула владелица зада и, обернувшись, оказалась молодой девахой с простонародным лицом, покрытым веснушками. – Это вы, барин, – сказала она, улыбаясь довольно глупо. – Вы все шутите и шутите, а потом Том спрашивает меня, откеля синяки.
– А ты приходи ко мне, я тебе их попудрю, – сострил Зильберович и, пошлепав ее дружелюбно, сказал мне: – Это наша Степанида, Стеша. Она жена Тома, который перед этим произведением, – он снова пошлепал произведение, – устоять не мог.
– Да вы ж, барин, все кобели, – сказала Стеша, по-прежнему улыбаясь, – и у женщины никакого другого места не замечаете.
Мы пошли дальше, и я заметил Лео, что его отношение к половому вопросу за прошедшее время, кажется, изменилось.
– Да нет, – смутился Лео. – Не изменилось. Но здесь, знаешь, жизнь такая уединенная, скучная и иногда хочется как-то развеяться.
– А этот Том куда смотрит?
– А он никуда не смотрит, – ответил Лео беспечно. – Он человек широкий.
Когда мы приблизились к крыльцу, на нем появилось еще одно существо, которое тут же кинулось мне на грудь. Это была порядочных размеров овчарка. Я собирался проститься с жизнью, когда почувствовал, что она лижет мне нос.
– Плюшка! – закричал Зильберович, оттаскивая собаку. – Что ж ты за гад за такой, за поганец! Ну что ты за собака! Не зря Симыч прозвал тебя Плюралистом.
– Плюралистом? – переспросил я удивленно.
– Ну да, – сказал Зильберович. – Со всеми без разбору лижется. Настоящий плюралист. Но мы его, чтобы не обижать, зовем Плюшкой.
Следом за Плюшкой на крыльцо вышла русская красавица в красном шелковом сарафане, батистовом платочке, сафьяновых сапожках, с большой светло-русой косой, аккуратно уложенной вокруг головы.
– Батюшки, кого это бог послал! – сказала она, лучезарно улыбаясь мне сверху.
Это была Жанета.
Она легко сбежала с крыльца, и мы троекратно, как принято среди уважающих русские обычаи иностранцев, облобызались.
– Ты совсем не изменилась, – сказал я Жанете.
– Мне некогда меняться, – сказала она. – Мы здесь все работаем по шестнадцать часов в день. А вот ты поседел и растолстел.
– Да-да, – признался я печально. – Что есть, то есть.
– Ну пойдем, потрапезничаем, чем бог послал.
Мы поднялись на крыльцо и оказались в просторном вестибюле с колоннами. Прямо поднималась к кадушке с фикусом широкая лестница, покрытая ковром, справа была двустворчатая стеклянная дверь, занавешенная изнутри чем-то цветастым, над дверью висело распятие.
Жанета перекрестилась. Зильберович снял кубанку и тоже перекрестился. К моему удивлению, он оказался совершенно лысым.
– А ты что же лоб не крестишь? – покосилась на меня Жанета. – Воинствующий безбожник?
– Да нет, – сказал я. – Не воинствующий, а легкомысленный.
В трапезной я попал в объятия Клеопатры Казимировны, так же, как и я, за эти годы весьма располневшей. Она была в темно-зеленом платье, в фартуке чуть посветлее и в белой наколке.
Лео повесил шашку на крюк у дверей. Мы расположились в углу ничем не покрытого большого, персон на двенадцать, дубового стола. Стулья тоже были дубовые.
Клеопатра Казимировна тут же принесла из расположенной рядом кухни чугунок со щами, а Жанета расставила деревянные плошки и ложки.
– Что будешь пить, квас или компот? – спросила Жанета.
– А что, другого выбора нет? – спросил я настороженно. Зильберович наступил мне на ногу и подмигнул.
– Спиртного не держим, – сухо сказала Жанета.
– А, ну да, – сказал я, – вы, конечно, не держите. Зато я держу.
Я нагнулся за своим чемоданчиком типа «дипломат», в котором лежала купленная еще во франкфуртском аэропорту бутылка немецкой водки «Горбачев».
– В этом доме спиртное вообще не пьют, – остановила меня Жанета.
«О господи!» – подумал я с тоской, но ничего не сказал.
Зильберович толкнул меня коленом. Я его понял и попросил квасу, вкус которого уже слегка подзабыл.
Щи, к моему удивлению, оказались совершенно пресными, и я стал шарить глазами по столу.
– Тебе что-нибудь нужно? – спросила Жанета.
– Да, – сказал я. – Соли, если можно.
– Мы соль не употребляем, потому что у Сим Симыча диабет и бессолевая диета.
– А, да! – сказал я разочарованно. – Я не подумал. А у меня как раз солевая диета.
– Ну да, – добродушно засмеялась Жанета. – У тебя диета солевая и алкогольная.
– Вот именно, – подтвердил я. – И еще табачная.
– Кстати, – заметила Жанета, – у нас в помещениях не курят.
– Это ничего, – успокоил я ее. – Сейчас тепло, я и на улице могу покурить.
После щей дали перловую кашу с молоком, при котором отсутствие соли ощущалось меньше.
Клеопатра Казимировна подробно меня расспрашивала о жизни в Германии, о жене и детях, как мы живем, что делаем. Я объяснил: сын учится в реальшуле, дочка в гимназии, я работаю, жена помогает мне и ездит за покупками.
– Она научилась водить машину? – спросила Клеопатра Казимировна.
Я сказал: нет, не научилась, ездит на велосипеде.
– На велосипеде? – переспросила Жанета. – Но это же неудобно. Платье может задраться или попасть в колесо.
Я заверил ее, что эта опасность моей жене не грозит, потому что она в джинсах ездит.
– В джинсах? – поразилась Жанета. – Ты разрешаешь ей ходить в джинсах?
– Она у меня разрешения не спрашивает, – сказал я. – Но я не вижу в джинсах ничего дурного.
– Неточка у нас стала такая строгая, – заметила Клеопатра Казимировна не то с гордостью, не то извиняясь.
– Да, строгая, – твердо сказала Жанета. – Женщина должна ходить в том, в чем ей предписано богом.
На это я заметил, что, по имеющимся у меня сведениям, бог сотворил женщину в голом виде, а что касается джинсов, то их сейчас носят все – и мужчины, и женщины, и гермафродиты.
Я еще хотел что-то сказать по этому поводу, но Зильберович так наступил мне на ногу, что я чуть не вскрикнул и, меняя тему, деликатно спросил, почему ж это не видно хозяина.
– А он уже поужинал, – сказал Лео.
– Но потом он выйдет или мне лучше к нему зайти?
Жанета переглянулась с матерью, а Лео откровенно засмеялся.
– Сим Симыч, – сказала Жанета, – после ужина делами не занимается.
– Да, – сказал я со сдержанным недовольством, – но я же не по своему делу приехал.
– А он после ужина никакими делами не занимается, – повторила Жанета. – Ни своими, ни чужими.
– Да-да, старик, – подтвердил Зильберович. – Он сейчас тебя принять просто никак не может. Он сейчас словарь Даля заучивает, а потом будет Баха слушать, он перед сном всегда Баха слушает, он без Баха заснуть не может.
Я отодвинул кашу и встал. Я сказал:
– Вы меня, конечно, извините… В первую очередь вы, Клеопатра Казимировна, и ты, Жанета, но я такого обращения просто не понимаю. Я к вам в гости не набивался. У меня нет лишнего времени. Мне предстоит далекое и, может быть, даже очень опасное путешествие. Я к вам приехал только потому, что Лео очень настаивал. Я не спал ночь, я добирался до вас шестнадцать часов с пересадками…
– Ну, старик, старик, ну что ты раскипятился. – Зильберович схватил меня за руку и тянул вниз. – Ну добирался, ну устал. Так сейчас отдохнешь. Пока Нетка тебе постель приготовит, мы с тобой поболтаем… – Он опять подмигнул мне и скосил глаза на мой «дипломат». – Ляжешь, выспишься, а завтра разберемся.
Откуда-то сверху лилась тихая мелодия. Будучи большим знатоком музыки, я сразу узнал произведение Баха «Хорошо темперированный клавир».
На белом коне
Проклятый Зильберович! Мало было ему привезенного мной «Горбачева», так он еще 0,75 бурбона потом притащил, говоря, что американцы считают бурбон лучшим в мире напитком. Но они-то этот лучший напиток сильно разбавляют содовой, а мы неразбавленный заедали соленым огурцом.
Конечно, разбавлять такой напиток глупо и даже кощунственно, но мешать его с водкой, пожалуй, тоже не стоило.
С трудом разлепив глаза, я огляделся.
Я лежал на деревянном топчане с жестким матрасом. В каком-то странном помещении – то ли тюремная камера, то ли монашеская келья. В одном углу божница, в другом таз и деревенский рукомойник (неужели тот самый, который я видел лет двадцать с лишним тому в подвале у Симыча?). Малюсенькое окошко под самым потолком, а сквозь него врываются в помещение всякие премерзкие звуки. Какая-то сволочь стучит в барабан и дудит на визгливой дудке. Ну что за наглость! Ну разве можно в такую рань…
Я поднес к глазам часы и обалдел. Без двадцати двенадцать, а я все еще дрыхну. И это в доме, где хозяин и все его помощники работают с утра до вечера.
Господи, ну зачем же я столько пил? Ну почему я не могу, как люди, как американец какой-нибудь, налить немножко в стакан, разбавить содовой и вести спокойный такой, уравновешенный разговор о Данте или налогах?
Впрочем, и у нас разговор был по-своему интересный. Лео сначала важничал и скрытничал, а потом, наклюкавшись, кое-что выболтал об их здешней жизни. Живут они очень замкнуто. Симыч ежедневно пишет по двадцать четыре страницы. Иногда он работает в кабинете, иногда гуляя по территории усадьбы. Гуляя, он пишет на ходу в блокноте. Исписав очередной лист, швыряет его не глядя на землю, а Клеопатра Казимировна и Жанета тут же эти листки подбирают и складывают. Забегая вперед, скажу, что я потом видел, как это происходит. Симыч гуляет с блокнотом, а жена и теща тихо ходят за ним. Когда он швыряет очередной листок, они подхватывают его, тут же читают, и Жанета немедленно оценивает написанное по однобалльной системе. «Гениально!» – говорит она шепотом, чтобы не помешать Симычу.
Когда-то точно так же она оценивала Ленина. Я помню, еще в университете взял у нее какую-то ленинскую брошюру (кажется, «Государство и революция»), так там слово «гениально» было написано на полях чуть ли не против каждой строчки.
Все-таки мешать «Горбачева» с бурбоном не стоит. Голова трещала ужасно, и у меня даже появились мысли, что с пьянством пора кончать. И я даже дал себе слово, что кончу. Только бы вот опохмелиться, а потом решительно завязать.
Барабан все стучал и дудка дудела, не давая сосредоточиться.
Я встал на табуретку и дотянулся до окна. Глянул наружу и не поверил своим глазам. На площади перед домом, как раз под полосатым столбом с табличкой «СССР», стоял советский солдат в полной форме с автоматом через плечо. Я в отчаянии потряс головой. Что это такое? Советские войска вторглись в Канаду или мне уже черти мерещатся?
Скосив глаза, я увидел негра Тома с саксофоном и Степаниду с барабаном даже большим, чем ее задница. Как я и предположил, они не играли, а только настраивались.
Потом появились две русские красавицы в цветастых сарафанах и платочках. Одна из них держала на руках каравай хлеба, а другая тарелку с солонкой.
Потом… Я не понял точно, как это получилось. Сначала, кажется, раздался удар колокола, потом Том затрубил что-то бравурное, а Степанида ударила в барабан. И в то же самое время на аллее, идущей от дальних построек, появился чудный всадник в белых одеждах и на белом коне.
Пел саксофон, стучал барабан, пес у крыльца рвался с цепи и лаял. Конь стремился вперед, грыз удила и мотал головой, всадник его сдерживал и приближался медленно, но неумолимо, как рок.
Как я уже сказал, он был весь в белом. Белая накидка, белый камзол, белые штаны, белые сапоги, белая борода, а на боку длинный меч в белых ножнах.
Я открыл окно настежь и высунул голову, чтобы лучше видеть и слышать. Пристально вглядевшись, я узнал во всаднике Сим Симыча. Лицо его было одухотворенным и строгим.
Симыч приблизился к часовому. Саксофон и барабан смолкли. Симыч вдруг как-то перегнулся, сделал движение рукой, и над ним в солнечных лучах сверкнул длинный и узкий меч. Похоже было, что он собирается снести несчастному солдату голову.
Я зажмурился. Открыв глаза снова, я увидел, что солдат стоит с поднятыми руками, автомат его лежит на земле, но Симыч все еще держит меч над его головою.
– Отвечай, – услышал я звонкий голос, – зачем служил заглотной власти? Отвечай, против кого держал оружие?
– Прости, батюшка, – отвечал солдат голосом Зильберовича. – Не по своему желанию служил, а был приневолен к тому сатанинскими заглотчиками.
– Клянешься ли впредь служить только мне и стойчиво сражаться спроть заглотных коммунистов и прихлебных плюралистов?
– Так точно, батюшка, обещаю служить тебе супротив всех твоих врагов, беречь границы российские от всех ненавистников народа нашего.
– Целуй меч! – приказал батюшка.
Опустившись на колена, Зильберович приложил меч к губам, а Симыч пересек воображаемую линию границы, после чего две красные девицы (теперь у меня уже не было сомнений, что их изображали Жанета и Клеопатра Казимировна) поднесли ему хлеб да соль.
Симыч принял хлеб-соль, протянул девицам руку для поцелуя и, пришпорив коня, быстро удалился по одной из боковых аллей.
На этом церемония, видимо, закончилась. Все участники разошлись.
Пока я натягивал штаны, Зильберович, как был, в форме и с автоматом, заглянул ко мне в келью.
– Все спишь, старик! – сказал он с упреком. – И даже репетиции нашей не видел.
– Видел, – сказал я. – Все видел. Только не понял, что все это значит.
– Чего ж тут не понимать? – сказал Зильберович. – Тут и понимать нечего. Симыч тренируется.
– Неужто надеется вернуться на белом коне? – спросил я насмешливо.
– Надеется, старик. Конечно, надеется.
– Но это же смешно даже думать.
– Видишь ли, старик, – выбирая слова, сказал Зильберович. – Когда-то ты встретил Симыча в подвале, нищего и голодного, с сундуком, набитым никому не нужными глыбами. Тогда тебе его планы тоже казались смешными. А теперь ты видишь, что прав был он, а не ты. Так почему бы тебе не предположить, что он и сейчас видит дальше тебя? Гении всегда видят то, что нам, простым смертным, видеть не дано. Нам остается только доверяться им или не доверяться.
Признаюсь, его слова меня почти не задели. Его прежнее высокое мнение обо мне давно уже развеялось в прах. Он Симыча ставил под облака, а меня на один уровень с собой или даже ниже. Потому что он все же состоял при гении, а я болтался сам по себе. Но я, понимая, что Лео человек пустой, не обиделся. Я глянул на часы и спросил Зильберовича, как он думает, получу я место на шестичасовой рейс прямо в аэропорту или стоит забронировать его заранее по телефону.
Зильберович посмотрел на меня не то удивленно, не то смущенно (я точно не понял) и сказал, что улететь сегодня мне никак не удастся.
– Почему? – спросил я.
– Потому что Симыч с тобой еще не говорил.
– Ну так у нас еще есть достаточно времени.
– Это у тебя есть достаточно времени, – заметил Зильберович. – А у него нет. Он хотел тебя принять во время завтрака, но ты спал. А у него все время расписано по минутам. В семь он встает. Полчаса – бег трусцой вокруг озера, десять минут – душ, пятнадцать минут – молитва, двадцать минут – завтрак. В восемь пятнадцать он садится за стол, без четверти двенадцать седлает Глагола…
Глаголом Симыч назвал коня, которого я знал еще слабым, только что отлученным от матери жеребенком. Именно за этим жеребенком мы и ездили с Руди в Камарг. А потом я его вез на теплоходе в Канаду. Он был еще маленький и хилый. По дороге его укачивало так, что он не мог стоять на ногах. Его тошнило, и он ничего не ел, кроме кусочков сахара, которыми я кормил его с руки. Я много часов провел в специально для него устроенном стойле. Я сидел там на низкой скамейке, клал его голову к себе на колени и одной рукой почесывал шерстку между ушами, а другой протягивал ему кубик рафинада. Который он сперва обнюхивал, а потом осторожно брал мягкими своими губами. Он был маленький и слабый, а теперь вон вымахал в какого красавца.
– Значит, без четверти двенадцать он седлает Глагола и?..
– …И в двенадцать репетирует въезд в Россию. Потом опять работа до двух. С двух до половины третьего он обедает…
– Очень хорошо, – сказал я. – Пусть меня во время обеда и примет.
– Не может, – вздохнул Зильберович. – Во время обеда он просматривает читалку.
– Чего просматривает?
– Ну, газету, – сказал раздраженно Лео. – Ты же знаешь, что он борется против иностранных слов.
– Но после обеда у него, я надеюсь, есть свободное время?
– После обеда он сорок минут занимается со Степанидой русским языком, потом полчаса спит, потому что ему нужно восстанавливать силы.
– Ну после сна.
– После сна у него опять маленькая зарядка, душ, чай и работа до семи. Потом ужин.
– Опять с газетами?
– Нет, с гляделкой.
– Понятно, – сказал я. – Значит, телевизор смотрит. Развлекается. А я его ждать буду?
– Да что ты! – замахал руками Зильберович. – Какие там развлечения! Он смотрит только новости и только полчаса. А потом опять работает до десяти тридцати.
– Ну хорошо, пусть примет меня после десяти тридцати. Тогда я по крайней мере уеду завтра утром.
– От десяти тридцати до одиннадцати тридцати он читает словарь Даля, потом у него остается полчаса на Баха, и пора спать. Да ты, старик, не волнуйся. Завтра он тебя наверняка примет. Только ты уж к завтраку не проспи.
– Все-таки вы нахалы! – сказал я в сердцах.
– Кто это мы?
– Ну я не буду говорить об остальных, но ты нахал, а твой Симыч нахал трижды. Мало того, что заставил меня через полмира переть, так еще тут выдрючивается. У него расписание, у него времени нет. Мне мое время, в конце концов, тоже для чего-то нужно.
– Вот именно, – оживился Зильберович. – Твое время нужно тебе, а его время нужно всем, всему человечеству.
Тут я совершенно взбесился. Я, между прочим, эти ссылки на народ и человечество просто не выношу. И я сказал Зильберовичу, что если Симыч нужен человечеству, то пусть он к человечеству прямо и обращается. А я немедленно еду на аэродром. И, кстати, надеюсь, что все мои транспортные издержки будут возмещены.
– Об этом, старик, можешь совершенно не беспокоиться, он все знает и все оплатит. Но ты дурака не валяй. Если ты уедешь, он так рассердится, ты даже не представляешь.
В конце концов он меня уговорил, я остался.
После обеда Зильберович предложил мне сходить по грибы. Я согласился, но спросил, нельзя ли по дороге проведать Глагола. Мне было интересно, узнает он меня или нет.
Зильберович согласился, но сказал, что конюшня, где находится в настоящее время жеребец, вызывает в нем неприятные ассоциации. Какие именно ассоциации, я сначала не понял.
Конюшня была просторная, длинная, построенная на несколько лошадей, но только одно из стойл – самое крайнее – было занято Глаголом, который меня тут же узнал. Он обрадовался мне, как ребенок, громко заржал, застучал копытом и потянул ко мне морду через невысокую деревянную загородку. Я был тоже ему очень рад, погладил его по холке, почесал между ушами и, конечно, угостил сахаром. Он грыз сахар, терся мордой о мою щеку и потом явно не хотел со мной расставаться.
С грибами нам не повезло. Я нашел один подосиновик и две сыроежки, а Лео вообще вернулся пустым.
Потом мы с ним мылись в бане. В настоящей русской бане с парилкой и деревянными шайками. Войдя в предбанник, я увидел в углу на лавке дюжину свежих березовых веников, выбрал какой получше и спросил Зильберовича, взять и ему или нам хватит одного на двоих.
– Мне не нужно, – странно ухмыльнулся Лео, – меня уже попарили.
Я не понял, что это значит, но, когда Лео разделся, я увидел, что вся его сутулая спина вкривь и вкось исполосована малиновыми рубцами.
– Что это? – спросил я изумленно.
– Том, собака, – сказал Лео беззлобно. – Если уж за что берется, так силы не жалеет.
– Не понимаю, – сказал я. – Вы дрались, что ли?
– Нет, – печально улыбнулся Лео. – Не мы дрались, а он драл меня розгами.
– Как это? – удивился я. – Как это он мог драть тебя розгами? И как это ты позволил?
– Но не сам же он драл. Это Симыч назначил мне пятьдесят ударов.
Я как раз снял с себя левый ботинок да так с этим ботинком в руке и застыл.
– Да, – с вызовом сказал Зильберович, – Симыч ввел у нас телесные наказания. Ну, конечно, я сам виноват. Он послал меня на почту отправить издателю рукопись. А я по дороге заехал в ресторанчик, там приложился и рукопись забыл. А когда уже возле самой почты вспомнил, вернулся, ее уже не было.
– А что ж, она была только в единственном экземпляре? – спросил я.
– Ха! – сказал Зильберович. – Если б в единственном, он бы меня вообще убил.
Ошарашенный таким сообщением, я молчал. А потом вдруг трахнул ботинком по лавке.
– Лео! – сказал я. – Я не могу в эту дикость поверить. Я не могу представить, чтобы в наши дни в свободной стране такого большого, тонкого, думающего человека, интеллектуала, секли на конюшне, как крепостного. Ведь за этим не только физическая боль, но и оскорбление человеческого достоинства. Неужели ты даже не протестовал?