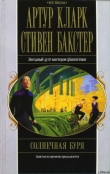Текст книги "Москва 2042"
Автор книги: Владимир Войнович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
В кольцах враждебности
В очищенном от публики помещении меня действительно дожидались и, кажется, нервничали Смерчев и его заместители.
– Все в порядке? – спросил Смерчев и, не выслушав ответа, сказал, что нам пора ехать в город, мол, и так слишком долго здесь задержались.
Я поинтересовался своим багажом, и мне было сказано, что чемодан я получу в другом месте.
Мы вышли наружу.
Солнце висело в зените и пекло неимоверно. У растрескавшегося тротуара готовилась к отправлению колонна, состоявшая из двух бронетранспортеров (один спереди, один сзади) и четырех парогрузовиков с высокими обшарпанными бортами, на каждом из них крупными буквами было написано: «ДЕЛЕГАЦИОННЫЙ». В кузовах стояли люди, видимо, те самые, которые только что столь сердечно встречали меня внутри аэровокзала. Их натолкали так плотно, что они выглядели одним многоголовым организмом с отрешенными и ко всему равнодушными лицами. Я помахал им руками, но никто из них даже не попытался ответить, может быть, потому, что им было трудно выпростать руки.
Передний бронетранспортер дал гудок, и вся колонна, выпустив клубы дыма и пара, медленно отчалила от тротуара. В заднем грузовике я увидел прижатую грудью к борту бедную Гандзю-рыбку. Ее страдающее лицо было покрыто крупными каплями пота и выражало покорную терпимость. Мы встретились с ней взглядом, я помахал ей отдельно. Она ответила мне кислой улыбкой и отвернулась, ей явно было не до меня.
Колонна отошла, дым рассеялся, и на открывшейся площади остались несколько бронетранспортеров и десятка полтора легковых машин, частично паровых, частично газогенераторных.
Смерчев мне объяснил, что на паровое и газогенераторное топливо пришлось перейти после того, как культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты в результате хищнической эксплуатации природных ресурсов окончательно истощили запасы бакинской и тюменской нефти. Теперь бензиновые двигатели используются только в военной технике и в транспортных средствах особого назначения.
Мы подошли к бронетранспортеру, у открытых дверей которого стоял молодой человек в коротком застиранном комбинезоне и танкистском шлеме.
Он был водителем этого неуклюжего транспорта, и звали его, как ни странно, просто Вася.
Внутри было полутемно и жарко, как в сауне. Устроившись рядом с Васей, я сразу взмок и испугался, что этого последнего путешествия просто не вынесу.
Смерчев и его спутники расположились сзади на длинных деревянных скамейках, протянутых вдоль борта.
Вася задраил бронированную дверь, дал длинный гудок, передвинул какие-то рычаги, и мы отправились в путь.
Проделав какие-то сложные петли на той части дороги, которая называется развязкой, Вася вывел наконец свою боевую машину на широкое шоссе, которое в прежней жизни мне было известно как Ленинградское. С тех пор шоссе заметным образом пришло почти что в полную негодность. Асфальт местами потрескался, местами вздыбился, а кое-где и вовсе отсутствовал. Наш Вася искусно лавировал между всеми колдобинами, но иногда то ли зазевывался, то ли не мог справиться с управлением, мы ухали в какие-то ямы, потом вновь выныривали.
Шоссе с обеих сторон было огорожено сплошным железобетонным забором высотой метра примерно два с половиной, три ряда колючей проволоки были натянуты поверху.
Дорога в целом выглядела пустой и спокойной. Но время от времени из-за забора летели на дорогу довольно-таки приличные куски кирпича или булыжник. Один кирпич попал в крышу нашего бронетранспортера и разбился с таким грохотом, как будто это был артиллерийский снаряд.
– Семиты балуют, – сказал Вася без всяких эмоций.
– Семиты? – переспросил я. – То есть евреи?
– Кто? – удивился Вася.
– А это такой народ был в прошлые времена, – перегнулся через спинку сиденья и объяснил Васе отец Звездоний. – Очень плохие люди. Они Иисуса Христа распяли. Но у нас их, слава Гениалиссимусу, нет. А вот в Первом Кольце еще попадаются.
Я спросил, что это – Первое Кольцо? Тут же включился Смерчев и сказал, что коммунизм, построенный в пределах Большой Москвы, естественно, вызывает не только восхищение, но и зависть отдельных групп населения, живущего вовне. От этого, понятно, в отношениях комунян и людей, живущих за пределами Москорепа, возникают некоторая напряженность и даже враждебность, имеющие, как точно заметил Гениалиссимус, кольцеобразную структуру. В Первое Кольцо враждебности входят советские республики, которые комуняне называют сыновними, во Второе – братские социалистические страны и в Третье – вражеские, капиталистические.
– В обиходе, – объяснил мне Смерчев, – мы для краткости называем эти кольца Сыновнее Кольцо Враждебности, Братское Кольцо Враждебности, ну и, естественно, Вражеское Кольцо Враждебности. А еще чаще мы говорим просто: Первое Кольцо, Второе и Третье.
– А вот насчет этих семитов, – спросил я, – если они не евреи, то кто же?
– Ну, во-первых, – улыбнулся Смерчев, – не се-, а симиты, а во-вторых, это такие люди, что о них даже не стоит и говорить.
– Ну, кому стоит, кому не стоит, – с сомнением заметил Дзержин, но дальше мысль свою не развил.
Наш транспортер двигался небыстро. То ли дорога была забита, то ли что-то еще, но мы довольно часто останавливались, а потом со скрежетом катили дальше. Бывшая передо мною смотровая щель не давала возможности широкого обзора, а на стене, ограждающей нашу дорогу от Первого Кольца, я видел бесчисленные портреты Гениалиссимуса, чаще даже не целиком, а отдельные части. То бороду, то сапоги, то лампасы.
Я видел много всяких лозунгов, призывов и здравиц, среди которых были давно мне известные, но были и новые. Вроде, допустим, такого:
СОСТАВНЫЕ НАШЕГО ПЯТИЕДИНСТВА:
НАРОДНОСТЬ, ПАРТИЙНОСТЬ, РЕЛИГИОЗНОСТЬ,
БДИТЕЛЬНОСТЬ И ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ!
Я спросил Смерчева, с каких это пор религиозность считается совместимой с коммунистической идеологией. Вмешался отец Звездоний и сказал, что привлечение к строительству коммунизма религии было одной из задач, поставленных Гениалиссимусом во время Августовской революции. Вульгаризаторы в прошлом не считались с огромными воспитательными возможностями церкви, а на верующих оказывали постоянное давление. Теперь церковь считается младшей сестрой партии, ей даны огромные права и возможности, с одним только условием: церковь проповедует веру не в бога, которого, как известно, нет, а в коммунистические идеалы и лично в Гениалиссимуса.
Еще я спросил, зачем у них существуют органы госбезопасности (или БЕЗО, как они говорят), если сама партия, судя по ее теперешнему названию, занимается госбезопасностью.
– Нет ли в этом какого-то противоречия? – спросил я.
– Никакого противоречия, – решительно возразил Смерчев. – Партия является руководящей и направляющей силой нашего общества, а БЕЗО – это служба. Понятно?
Сейчас, вспоминая этот свой первый день в Москорепе, я думаю, что, хотя на меня сразу обрушилось столько противоречивых и совершенно неожиданных сведений, я довольно скоро начал кое в чем разбираться. Я, например, сам без посторонней помощи догадался, что слово «комсор» означает «коммунистический соратник», «компис» – «коммунистический писатель», приветствие «слаген» расшифровывается как «Слава Гениалиссимусу», ну, а почему они вместо «О боже!» говорят: «О Гена!» – это, по-моему, и объяснять нечего. Но один вопрос для меня был существенным: каким образом соблюдается в Москорепе основной принцип коммунизма: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Я спросил об этом Смерчева, и он сказал, что, конечно, именно этот принцип самым непосредственным образом и соблюдается.
– Значит, – спросил я, – каждый человек может войти в любой магазин и совершенно бесплатно взять там все, что хочет?
– Да, – сказал Смерчев, – каждый человек может войти куда угодно и выйти оттуда совершенно бесплатно. Но никаких магазинов у нас нет. У нас есть прекомпиты, иначе говоря, предприятия коммунистического питания, вроде бывших столовых. Они располагаются в меобскопах, то есть местах общественного скопления. Кроме того, мы имеем широкую сеть пукомрасов – пунктов коммунистического распределения по месту служения комунян. Там каждый комунянин получает все, в чем имеет потребность, в пределах полного удовлетворения.
– Понятно, – сказал я. – А кто определяет его потребности? Он сам?
– Чистейшей воды метафизика, гегельянство и кантианство! – радостно воскликнула Пропаганда Парамоновна.
Но Смерчев бросаться ярлыками не стал, хотя и сказал, что вопрос мой ему кажется просто странным.
– Ну зачем же самому человеку определять свои потребности? Для этого он, может быть, недостаточно подготовлен. Может быть, у него какие-нибудь, так сказать, несбыточные желания, которые он считает потребностями. Может, он луну с неба захочет взять. Нет, так нельзя. Для определения потребностей каждого у нас повсюду существуют Пятиугольники, как Верховный, так и местные. В них входят наши партийные, религиозные активисты, работники БЕЗО и другие. Прежде чем определить, какие у того или иного человека потребности, надо выяснить его индивидуальные физические и моральные особенности, его вес, рост, идейные взгляды, отношение к труду, степень участия в общественной жизни. Естественно, что у человека, который хорошо трудится, выполняет производственные задания, ведет общественную работу, прилежно изучает труды Гениалиссимуса, у такого человека, понятно, потребности гораздо выше, чем у какого-нибудь лентяя или нарушителя общественной дисциплины.
– Ну, нарушителей у нас, в Москорепе, практически не бывает, – сказал Дзержин Гаврилович.
– Нарушителей не бывает, – согласился Смерчев. – Но все-таки трудятся не все одинаково. Одни выполняют план на двести процентов, а другие только на сто пятьдесят, и считать, что у них одинаковые потребности, было бы просто, я бы сказал, даже несправедливо.
Вторичная проверка
Если я правильно определил, то примерно на скрещении нашего шоссе со старой, построенной еще в мое время Кольцевой дорогой движение замедлилось. Приложившись к смотровой щели и жмурясь от разъедавшего глаза пота, я увидел, что полотно дороги здесь было широкое и на нем в несколько рядов выстроились длинные очереди паро– и газомобилей, причем подбирались, видимо, по сортам: крупные бронетранспортеры в одном ряду, помельче в другом, а совсем мелкие легковушки в третьем.
Однако наша полоса по-прежнему оставалась свободной. Я сначала подумал, что нам просто повезло, но потом догадался, что эта полоса предназначена, очевидно, не для всех, а может быть, только для таких важных персон, как я.
Впрочем, я тут же понял, что бывают особы и поважнее. Неожиданно раздался дикий вой. Вася немедленно кинул нашу тяжелую колымагу на обочину, и мы стали на самом краю, едва не свалившись в кювет.
Между тем вой быстро нарастал, и я увидел транспорт, знакомый мне по прошлой жизни. Мимо нас на огромной скорости, окруженная эскортом мотоциклистов и выкрикивая что-то по громкоговорителю, пронеслась с полыхающими мигалками длинная вереница автомобилей старой конструкции. Первая и вторая машины были похожи на «Зилы» моего времени, но второй «Зил» был соединен с идущим следом за ним черным автобусом красными и желтыми шлангами. За автобусом шел еще один «Зил» с торчащими в разные стороны стволами пулеметов.
При проезде этой кавалькады все мои спутники перезвездились, а Смерчев вздохнул и шепнул мне благоговейно:
– Сам проехал!
– Кто сам? – переспросил я. – Гениалиссимус?
При этих моих словах Вася громко засмеялся, а Смерчев ответил очень серьезно:
– Ну что вы! Гениалиссимус сам не ездит. Это председатель Редакционной комиссии.
Мы двинулись дальше. Вскоре снова остановились, и Смерчев сказал, что нам придется выйти для исполнения неких формальностей.
Я вылез из этой душегубки, обливаясь потом и еле живой. При мне был «дипломат», а огромный мой чемодан был поручен попечению Васи. Утираясь платком, я увидел, что мы находимся перед не очень высоким, но длинным зданием; небольшие окна плотно занавешены, а у железной двери стоят два автоматчика. Тут же была и вывеска:
ПУНКТ ВТОРИЧНОЙ ПРОВЕРКИ
Перед входом пыхтел большой паровик с прицепом, с заднего борта которого свешивались сырые сосновые доски. Одно колесо прицепа было снято, и два человека в коротких промасленных комбинезонах трудились над тоже снятой рессорой: один держал большое зубило, другой колотил по нему кувалдой. При этом они вели не вполне понятный мне разговор. Тот, который держал зубило, неестественно вывернув шею, взглянул из-под длинного козырька на небо и сказал:
– Видать, сегодня обратно кина не будет.
Другой тоже вывернул шею и согласился:
– Да, небо чересчур ясное.
Сделав такое заключение, он промахнулся и ударил держателя зубила по пальцу. Тот вскочил, закрутился волчком и на знакомом мне до последнего слова предварительном языке произнес такую красочную тираду, что сердце мое не могло не порадоваться.
Мои спутники переглянулись. Вася хмыкнул, Смерчев насупился, женщины сделали вид, что не слыхали, а отец Звездоний пробормотал что-то осуждающее и перезвездился.
Тем временем Дзержин подошел к автоматчикам, один при виде его взял на караул, а другой открыл дверь.
Просторное помещение за дверью напоминало холл какой-то большой гостиницы, где ожидается важная, может быть, даже международная конференция. Справа располагался ряд столиков с выставленными на них буквами русского алфавита.
Мы со Смерчевым подошли к столику с буквой «К». Женщина-подполковник, не глядя на меня, записала фамилию, звездное имя, отчество и спросила год рождения.
– Тысяча девятьсот сорок второй, – сказал я.
– Тысяча девятьсот сорок… – стала она писать и тут же взорвалась. – Вы что тут дурака валяете? Вы думаете, нам тут делать нечего? Я из-за вас целый лист бумаги испортила. Я напишу по месту вашего служения, чтобы с вас за эту бумагу взыскали.
Она уже собралась выкинуть лист в корзину, но Смерчев остановил ее и что-то шепнул ей на ухо.
Она слушала хмуро, затем на лице ее отразилось крайнее изумление, она посмотрела на меня и всплеснула руками.
– О Гена! Неужели это вы! То-то я смотрю, лицо вроде знакомое. Да я же вас только что по телевизору видела. Надо же! А как вы выглядите! Неужели сто лет! На вид больше шестидесяти никак не дашь. Небось в Третьем Кольце одними витаминчиками питаетесь.
– В Третьем Кольце, – заметила, подойдя, Пропаганда Парамоновна, – трудящиеся питаются исключительно вторичным продуктом.
– Ну да, да, конечно, – поспешила согласиться с ней регистраторша. – Конечно, вторичным. Но у них он, я слышала, витаминизирован.
После того как я заполнил короткую анкету, мне было предложено пройти в дальний угол, где стоял длинный оцинкованный стол, на каких, по моим представлениям, патологоанатомы разделывают покойников. На этом столе в роли покойника находился мой чемодан, уже раскрытый и отчасти даже распотрошенный. Вскрытие производил крупный и довольно-таки упитанный майор таможенной, как я понял, службы.
Майор узнал меня сразу. Говорил он со мной очень заискивая и многократно извиняясь.
– Прошу прощения, виноват, очень извиняюсь за беспокойство, в принципе мы вас ни в коем случае не стали бы проверять, но исключительно по незнанию вы можете провезти что-нибудь такое, что, понимаете, извините.
И еще несколько раз извинившись, сообщил, что в моем багаже обнаружены некоторые предметы, к ввозу в Москореп не разрешенные.
– Например? – спросил я, стараясь держаться невозмутимо.
– Например, вот это, – сказал таможенник и, взяв мой фотоаппарат «Никон», тут же его раскрыл.
– Что вы делаете! – закричал я. – Вы же засветили пленку! Разве у вас нельзя фотографировать?
– Что вы! Что вы! – испугался майор. – Ну конечно же, можно. Особенно вам. Вам можно делать все, кроме того, что нельзя. Пожалуйста. – Он пододвинул ко мне аппарат. – Фотографируйте на здоровье. Я только вот это вынул, а этим вы можете пользоваться сколько угодно.
– Вы что, ненормальный? – спросил я. – Что я буду делать этим без этого? Гвозди забивать? Или колотить орехи?
– Ради Гениалиссимуса! – Он приложил руку к груди. – Вы с этой вещью можете делать все, что вам угодно в пределах ваших потребностей. Но у нас, извиняюсь почтительно, фотографическими аппаратами пользоваться разрешается, а светочувствительными элементами – нет.
С этими словами он тут же выкинул на стол еще шесть комплектов пленки, которые я перед отъездом купил в Кауфхофе.
– Интересно, – сказал я, – что за глупые правила. У вас что же, в Москорепе вашем вообще ничего нельзя фотографировать?
Таможенник недоуменно посмотрел на Смерчева и опять на меня.
– Извините, не понял, – сказал он. – У нас в Москорепе можно фотографировать что угодно, где угодно и кого угодно. Но только без пленки.
– Ну как же так? – сказал я растерянно. – Я видел вашу газету. И там фотографии. Они же делались не без пленки.
– Совершенно справедливое замечание! – захихикал таможенник. – Но снимки в газетах делаются для государственных потребностей, а у вас потребности личные. Они знают, что можно заснять на пленку, а вы, я ужасно извиняюсь, можете и не знать. И по незнанию можете отобразить какие-нибудь такие, понимаете ли, теневые стороны нашей действительности и тем самым привлечь внимание службы БЕЗО. Зачем же вам это нужно?
При упоминании службы БЕЗО я оглянулся на Сиромахина. Он стоял как раз позади меня.
– Уступите ему, дорогуша, – сказал мне Дзержин Гаврилович. – Лучше уступить часть и сохранить целое, чем потерять все.
Считая спор оконченным, таможенник отодвинул пленки в сторону и продолжил свою работу. Мне пришлось тут же узнать, что я могу сколько угодно пользоваться своим магнитофоном, но не кассетами и не батарейками. Батарейки были вынуты и из моего портативного приемника фирмы «Грюндиг». Насчет имевшихся у меня блокнотов и шариковых ручек майор совещался с кем-то по телефону, и мне эти предметы были великодушно оставлены. Но после этого майор вытащил на свет божий флоппи-диск с симовскими глыбами.
– А это что?
– Это? – удивился я. – Разве вы не знаете?
Переглянувшись с генералами, таможенник пожал плечами.
– Нет, такого никогда не видел.
– Но компьютеры у вас есть?
– Конечно, есть, – сказал Смерчев. – Но у нас не такие, у нас большие компьютеры.
– Но это же не компьютер, – попытался я объяснить. – Это пленка для компьютера.
– А для чего она нужна? – спросил таможенник.
Я сказал, что пленку вкладывают в компьютер и на нее записывают всякие там программы или тексты.
– А на этой что записано? – спросил таможенник и стал рассматривать флоппи-диск на просвет, очевидно, надеясь разглядеть там какие-то буквы.
– А на этой записаны романы одного предварительного писателя. Да вы наверняка его знаете. Его фамилия Карнавалов.
– Карнавалов? – таможенник вопросительно посмотрел на Смерчева, который ответил ему пожатием плеч.
– Как? – удивился я. – Неужели вы никогда не слышали фамилию Карнавалов?
Таможенник смутился, Коммуний Иванович покраснел.
– Ну как же, – сказал я, – неужели вы даже в предкомобах Карнавалова не проходили?
Оказывается, нет, не слышали. И не проходили.
«Надо же! – подумал я. – Да кто бы мог себе это представить! Я в свое время думал, что люди в будущем могут забыть кого угодно, но только не Симыча. Бедный Симыч! Стоило ли, ворочая глыбы, так напрягаться, чтобы через каких-то шестьдесят лет они стали совершенно безвестными?»
Ну, а раз так, что ж мне бороться за вещь, которая со временем утратила всякую цену? И когда таможенник отложил флоппи-диск в сторону, я не стал возражать. В конце концов, я не для того сюда приехал, чтобы раскидывать глыбы, которые никому не известны. Лучше уж я дам почитать кому-нибудь свои книги.
Тут как раз до моих книг и дошло. Они были у меня уложены на самом дне чемодана. Таможенник поинтересовался, что это за книги, и я не без гордости сказал, что это мои собственные книги.
– Ваши собственные? – переспросил он.
– Ну да, – сказал я. – Мои собственные. А что вас удивляет?
– Видите ли, – стал помогать мне Коммуний Иванович, – Классик Никитич…
– Слушайте, – перебил я его, – да перестаньте же вы называть меня этим идиотским именем. Если уж вы вообще не можете обойтись без подобных кличек, называйте меня просто Классик, но без всяких Никитичей.
В другое время я мог бы и промолчать. Но тут я был очень уж раздражен всеми этими странными и непонятными церемониями, от которых я за время своей жизни в диком капиталистическом обществе немного отвык.
– Хорошо, хорошо, – сразу же согласился Смерчев. – Если вы не хотите отчества, мы будем называть вас просто Классик. Я только хотел сказать, дорогой Классик, что в нашем обществе нет частной собственности. У нас все принадлежит всем. И эти книги тоже не могут считаться вашими собственными.
Я был ужасно измучен. У меня болела голова. От усталости, от жары, от того, что я не выспался и целую вечность не похмелялся. И от всех противоречивых впечатлений этого дня.
– Вы понимаете, – сказал я Смерчеву, – что бы вы ни говорили, эти книги – мои собственные. Не только потому, что они принадлежат мне как вещи. Но и потому, что я их сам собственной своею вот этой рукой написал. – Для убедительности я даже потряс рукой у самого смерчевского носа. – Надеюсь, вы согласны, что эта рука моя собственная и принадлежит мне, а не всем.
– А вы, оказывается, собственник! – кокетливо заметила и покачала головой Пропаганда Парамоновна.
– Слушайте, – взмолился я, обращаясь одновременно и к таможеннику, и ко всем комписам. – Что вы меня с ума сводите? Почему вы не разрешаете взять с собой мои книги? Я же не собираюсь торговать ими или как-то на них наживаться. Но может быть, мне захочется их кому-нибудь подарить.
– Вы собираетесь их распространять? – в ужасе спросила Пропаганда Парамоновна.
– Что значит распространять? – возразил я. – Не распространять, а дарить. Хотите, я вам подарю экземпляр?
– Мне? Зачем? – отшатнулась Пропаганда в испуге. – Мне это не надо, я на предварительном языке вообще не читаю.
Я видел, что и они все взвинчены и возбуждены. Разговор наш давался им трудно. Но ведь и я не железный. Тем более что день у меня был такой тяжелый. Не выдержав всей этой глупости, я просто сел на пол, обхватил голову руками и заплакал. Надо сказать, это со мной нечасто бывает. Я с детства не плакал, а эти комуняне за один день довели меня до слез дважды.
Я видел, Смерчев толкнул в бок Искрину Романовну, и она кинулась ко мне.
– Ну что вы! Что с вами! Ну зачем же плакать? Ну успокойтесь же! Не надо плакать. Не надо, миленький, дорогой, Клашенька…
Клашенька? Я понял, что это уменьшительное от слова «классик». И вдруг мне стало так смешно, что у меня плач сам собой перешел в хохот. Я не мог удержаться, давился от смеха, катался по полу. Все комписы растерянно топтались надо мной, и кто-то из них сказал что-то про доктора.
– Не надо никакого доктора, – сказал я, поднимаясь и отряхивая колени. – У меня уже все прошло. Я все понял и ни на что не претендую. Вы можете выкинуть все мои книжки хоть на помойку, только объясните, почему вы их так боитесь? Вы же сами мне сказали, что читали их в предкомобах.
– Не читали, а проходили, – ласково улыбнулся Смерчев. – То есть некоторые знакомились и подробнее, но другим учителя вкратце пересказывали затронутые вами темы и идейно-художественное содержание.
– Ага! – понял я разочарованно. – Вы мои книги проходили. Но читать их запрещено, как и раньше.
– Ни в коем случае! – решительно возразил Смерчев. – Ну зачем же вы так плохо о нас думаете? У нас ничего не запрещено. Просто наши потребности в предварительной литературе полностью удовлетворены.
– Тем более что идейно предварительная литература часто была очень не выдержанна, – заметила Пропаганда Парамоновна. – В ней было много метафизики, гегельянства и кантианства.
– И много даже кощунства против нашей коммунистической религии, – поддержал ее молчавший до того отец Звездоний.
– И метод социалистического реализма, которым пользовались предварительные писатели, – сказала Пропаганда Парамоновна, – партия давно осудила как ошибочный и вредный. Правилен только один метод – коммунистического реализма.
– Да и вообще, – сказал Смерчев, – вы должны понять, дорогой наш Классик, что за тот исторический промежуток, который отделяет наше время от вашего, наша литература настолько выросла, что по сравнению с ней все писания ваши и ваших современников выглядят просто жалкими и беспомощными.
– Да, да, да, да, – сказал Звездоний, и все они грустно закивали головами.
– Ну все-таки не все, – опять защитил меня Сиромахин. – У него есть одна замечательная книга, которая по своему уровню приближается даже, я бы сказал, к ранним образцам комреализма. К сожалению, – повернулся он ко мне, – вы ее с собой почему-то не привезли. Но мы ее найдем…
– И поправим, – подсказал Смерчев.
– Ну да, немножко поправим и, может быть, даже переиздадим.
О какой книге шла речь, я не понял. Но спрашивать мне уже ничего не хотелось. И бороться не хотелось. Поэтому, когда у меня изымали планы Москвы, майки с надписью «Мюнхен» и жвачки, я даже не стал спрашивать, почему, мне все надоело до чертиков.
И когда мне дали расписаться под списком изъятых вещей, я подмахнул его, не глядя.