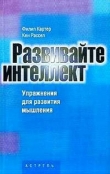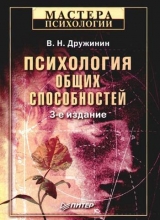
Текст книги "Психология общих способностей"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Влияние генетической составляющей на различия в общем интеллекте равно как минимум 0,50. Причем данные исследования весьма надежны и воспроизводятся на разных выборках, разными исследователями, в разное время и в различных этнокультурных условиях.
Рассмотрим более детально, какова доля генетической детерминации индивидуальных различий при развитии специальных познавательных способностей.
Первоначально исследователей интересовало различие в показателях наследуемости вербального и невербального интеллекта. В качестве наиболее распространенного инструмента для подобных исследований большинство психогенетиков выбрало тест Д. Векслера.
С. Ванденберг выявил значимые различия в величине показателя наследуемости способностей, тестируемых отдельными субтестами шкалы Векслера: наибольший показатель наследуемости был у способностей, тестируемых вербальной шкалой («Общая осведомленность», «Арифметический», «Общая понятливость», «Словарный», «Шифровка», «Сходство»), а также у субтестов невербальной шкалы «Кубики Косса» и «Последовательные картинки». Между тем по субтестам «Сложение фигур», «Недостающие детали» различия между группами МЗ и ДЗ близнецов оказались незначительными. Более того, различия в уровне вербального интеллекта в целом более генетически детерминированы, чем в уровне невербального интеллекта. Влияние средовой составляющей на невербальный интеллект гораздо более значительно [8].
Наиболее полное и интересное исследование провел в 1979 году Р. Роуз: он сравнивал семьи взрослых МЗ близнецов, их супругов и детей. Исследование проводилось, в частности, для выявления влияния так называемого «материнского эффекта»: при его наличии полусибсы, матери которых являются МЗ близнецами, будут обладать большим сходством по уровню интеллекта, чем полусибсы, у которых отцы МЗ близнецы. Этот эффект выявился только для двух субтестов шкалы Векслера. Кроме того, был обнаружен аддитивный характер наследования способностей, входящих в структуру невербального интеллекта.
Наконец, Дж. Горн с коллегами (1982), анализируя результаты техасского исследования, пришел к выводу, что показатели невербального и вербального интеллекта в равной мере детерминированы генотипом, но изменчивость невербального интеллекта в большей мере обусловлена семейной средой [9].
Если взять за основу факторную структуру способностей (по Терстоуну), то становится очевидно, что многочисленные исследования практически полностью воспроизводят один и тот же порядок, показывающий меру генетической детерминации тех или иных способностей. В наибольшей мере генетически детерминированы уровни развития вербальных способностей (V-factor), пространственные (S-factor), беглость речи (W-factor). Относительно математических способностей результаты, полученные в различных исследованиях, расходятся.
Однако особое внимание исследователи уделяют пространственным способностям (в смысле Л. Терстоуна и М. Мерфи). В психологии устоялась точка зрения, согласно которой пространственный интеллект относительно независим от скоростного, измеряемого групповыми тестами интеллекта (а по некоторым данным – корреляция между ними отрицательная), и, более того, в некоторых исследованиях выявлена отрицательная корреляция пространственных и вербальных способностей. Пространственный интеллект является одной из основных специальных познавательных способностей (по данным Дж. Дефриза). Как мы уже отмечали, Терстоун выделяет две основные составляющие пространственного фактора: во-первых, это способность к мысленному вращению двух-или трехмерных объектов в пространстве (пространственное воображение); во-вторых, ряд способностей, определяющих успешность опознания пространственных конфигураций при изменении их ориентации (коррелирует с «полеза-висимостью-поленезависимостью», успешностью решения сенсомоторных задач и пр.).
Од нако исследования Д. Гудинафа и его коллег [10], проведенные с помощью методов генетических маркеров, не выявили единого механизма наследования пространственных способностей. Гудинаф отобрал для исследования 30 семей, в каждой из которых было не менее трех сыновей. В качестве «генетических маркеров» брались красно-зеленая цвето-слепота (дальтонизм) и одна из групп крови (XYa). Пара братьев, совпадающих по одному из генетических маркеров, сравнивалась с парами братьев, различающихся по этому маркеру. Предполагалось(по механизму сцепленного наследования), что если у братьев, совпадающих по маркеру, сходство по уровню развития пространственных способностей будет больше, чем у братьев, различающихся по маркеру, то пространственные способности детерминированы генетически. Были использованы 7 различных тестов пространственных способностей. В итоге не выявлено единого генетического механизма детерминации различий в пространственных способностях [2].
Что касается «полезависимости-поленезависимости», тестируемой с помощью теста «Включенных фигур» Н. Уиткина или с помощью теста «Стержень– рамка», то, по данным Н. С. Егоровой, сходство в результатах, показываемых МЗ близнецами, очень велико (г = 0,70), между тем корреляции у ДЗ близнецов очень низки 0 < г < 0,24.
Хотя М. С. Егоровой и удалось выявить влияние распределения ролей в паре МЗ близнецов (внутрипарное сходство оказалось выше в группах со стабильным распределением ролей без явного лидерства), но генетическая детерминация полезависимости оказалась очень велика.
Наиболее противоречивы результаты исследований генетической детерминации математических способностей.
В исследовании Т. Фога и Р. Пломина [11] не выявлено наследуемости математических способностей, а в исследованиях А. Гарфинкеля, Дж. Лоэлина и Р. Николса [12] были выявлены значимые различия внутригрупповых корреляций МЗ и ДЗ близнецов. Правда, исследование А. Гарфинкеля проведено в русле концепции Ж. Пиаже о природе интеллекта, и в качестве экспериментальных проб были использованы 15 задач Ж. Пиаже. В экспериментальную группу вошли 197 монозиготных и 72 дизиготные пары 4-8-летних близнецов. Оказалось, что наследственные факторы и образование родителей обусловливают 50 % вариантности показателей логического мышления по Ж. Пиаже. Но возникает закономерный вопрос, тождественны ли математические способности уровню развития интеллекта по Ж. Пиаже.
Существует масса обзоров, обобщающих данные близнецовых исследований. К числу наиболее известных относится обзор Р. Николса, содержащий сводку 211 исследований [12].
Наибольшая разница величин внутрипарных корреляций между моно– и дизиготными близнецами наблюдается в уровне развития пространственного мышления, способности к логическим рассуждениям, в точности и успешности освоения языков, а также в успешности изучения специальных дисциплин (возможно, определяется вербальным интеллектом). Наименьшая разница между МЗ и ДЗ близнецами – в уровне развития дивергентного мышления. Обобщение данных десяти психогенетических исследований дивергентного мышления, проведенное Николсом, свидетельствует, что генотип определяет не более 22 % дисперсии дивергентного мышления. Напомню, что для общего интеллекта этот процент близок по данным Айзенка к 70-80. Напрашивается вывод (подкрепленный многими исследованиями), что креативность, в отличие от интеллекта, в большей мере детерминирована средовыми влияниями, нежели интеллект (если считать основой креативности дивергентное мышление).
Общие способности в большей мере генетически детерминированы, чем специальные; различия в уровне вербального интеллекта в большей мере обусловлены наследственностью, чем различия в уровне невербального интеллекта.
Сегодня исследователи не удовлетворяются регистрацией сходств – различий корреляций показателей МЗ и ДЗ близнецов и организуют лонгитюдное исследование. Наиболее известным является Луисвилльское исследование, проводившееся с 1957 года до середины 80-х годов. В нем было прослежено развитие 500 пар МЗ близнецов от 0 до 15 лет. Параллельно исследовалось 950 пар сибсов.

План исследования включал тестирование уровня интеллекта по сопоставимым шкалам. Тестирование до 2 лет проводилось по шкале Бейли, с 2,5 до 3 лет интеллект тестировался с помощью шкалы Стэнфорд-Бине, позже использовались версии шкалы Векслера для дошкольников, младших школьников и подростков. Каждого близнеца тестировали разные экспериментаторы.

В результате была выявлена общая закономерность: возрастание в течение первых 15 лет жизни внутрипарного сходства показателей интеллекта у монозиготных близнецов и падение показателей сходства у дизиготных близнецов. Более того, профили индивидуального развития у монозиготных близнецов более сходны, чем у дизиготных близнецов. Причем уровень корреляции показателей общего интеллекта у МЗ близнецов был равен уровню надежности теста (г = 0,85).
Тестирование близнецов, их братьев и сестер (в возрасте 8 лет) показало, что величина корреляции общего и вербального интеллектов для дизиготных близнецов, сибсов, а также сибсов и членов близнецовой пары практически одинакова. Сходство семейной среды и генотипов влияет на интеллект близнецов и неблизнецов в одинаковой мере (кроме МЗ близнецов – сходство их интеллектов определяется генотипом). И вместе с тем, начиная с 2 лет, увеличивается корреляция интеллекта с такими характеристиками семейной среды, как образование родителей, социально-экономический статус, когнитивные и личностные особенности матери, «адекватность среды личностным особенностям детей» и т. д.

В Чешском лонгитюдном исследовании замеры интеллекта проводились ежегодно. Данные, полученные чешскими исследователями, аналогичны результатам Луисвилльского лонгитюда: после четырех лет уменьшается сходство фенотипа близнецов, а показатель наследуемости общего интеллекта растет. К 6-7 годам он превышает величину 0,50. Пожалуй, только в исследовании Н. С. Кантонистовой [13], которая применяла тест Векслера (возраст 7-10 лет), выявлено увеличение влияния средовых факторов на разброс показателей интеллекта. Причем коэффициент наследуемости был выше 0,50 для шести субтестов. Наконец, в работе М. С. Егоровой с коллегами [14] получены результаты, в еще большей мере отличные от данных, полученных американскими и европейскими психогенетиками. Исследование проводилось с помощью теста Векслера (адаптация А. Ю. Панасюка) на выборках монозиготных и дизиготных близнецов в 6,5 года, в 7,5 и в 9,5 года. Было выявлено увеличение сходства в уровне развития невербального интеллекта у МЗ близнецов от 6,5 до 7,5 года, а затем снижение к 9,5 годам. У ДЗ близнецов сходство в уровне развития невербального интеллекта с возрастом уменьшается, общего – уменьшается к 9,5 годам, а вербального – возрастает к 7,5 годам и возвращается к прежнему уровню к 9,5 годам.
Для общего интеллекта увеличивается показатель наследуемости и уменьшается показатель влияния среды. Для вербального интеллекта в 6,5 года и в 9,5 года коэффициент наследуемости более 0,50 и лишь в 7,5 лет дисперсия определяется средовыми влияниями. Наконец, вариантность невербального интеллекта в 6,5 года в большей мере, чем в школьном возрасте, определяется влиянием среды, а при переходе к школьному возрасту вклад генотипа увеличивается в два раза.
Авторы интерпретируют результаты с позиций средового подхода: вербальный характер обучения в школе, жесткие требования к развитию речи способствуют выравниванию этих показателей в группах монозиготных и дизиготных близнецов. Кроме того, школа не дает на первых порах проявить ребенку индивидуальные способности (уровень вербального интеллекта снижается). Невербальный интеллект не подвергается целенаправленному воздействию среды и поэтому развивается под влиянием генетической детерминации. С этой интерпретацией согласуется и более высокая положительная корреляция показателей интеллекта, измеренных в 6,5 года с аналогичными измерениями в 7,5 и в 9,5, чем последних между собой: влияние первичной адаптации к школе сказывается на результатах тестирования.

В ряде других исследований просматривалось влияние интеллекта родителей (родных или приемных) на интеллект детей.
Крупнейшими из реализованных к настоящему времени программ являются Гавайское семейное исследование, Техасское исследование, Колорадское и Мин-несотское исследования приемных детей.
В Гавайском исследовании сопоставлялись интеллектуальные показатели сиб-сов, детей и родителей, а также родителей между собой. Тестировались пространственные и вербальные способности, скорость и точность восприятия, а также зрительная память и общий интеллект. Выявились более высокие корреляции между родителями и детьми по общему интеллекту и по пространственным и вербальным способностям, чем по скорости восприятия и зрительной памяти. При этом корреляции были выше между показателями матерей и детей, чем отцов и детей. Показатель наследуемости общего интеллекта Н равен примерно 0,50 %.
В Техасском исследовании сопоставлялись результаты тестирования 300 семей. Исследователей интересовали соотношения интеллекта родителей и их детей (собственных и приемных). Показатели интеллекта восьмилетних детей измерялись тестами Стэнфорд-Бине и Векслера. В целом оказалось, что вклад генотипической составляющей оказался равен 0,50, как и в предыдущем исследовании. Однако зафиксировано увеличение с возрастом связи уровня интеллекта приемных детей с уровнем интеллекта их биологических родителей и тем самым показано увеличение влияние генотипа на вариативность интеллекта.
Наиболее широкой по охвату когнитивных особенностей личности стало проводимое с 1975 года Колорадское исследование приемных детей (200 семей с приемными детьми и столько же контрольных семей). В ходе этого исследования тестировались: вербальный и пространственный интеллект, перцептивная скорость, зрительная память, общий интеллект, особенности личности и темперамента. Для тестирования детей с годовалого возраста применялась шкала Бейли. Кроме того, фиксировались особенности отношения к ребенку, тип ухода за ним, готовность родителей к вербальным и эмоциональным контактам с ребенком. Приемные дети по семьям были распределены случайно. Данные исследования говорят о сходстве показателей умственного развития детей и отцов («отцовский эффект») как биологических (г = 0,45), так и неродных. Обнаружены связи между общими способностями биологических матерей и уровнем коммуникативных навыков годовалых детей, а также их способностью к подражанию.
В аналогичном Миннесотском исследовании приемных детей исследовались случаи усыновления. Интеллект семей (100 семей имеют 176 приемных детей) тестировался тестами Стэнфорд-Бине и Векслера. Данные оказались совершенно аналогичными результатам других исследований: коэффициент корреляции между интеллектом детей и их биологических родителей оказались выше, чем между интеллектом приемных детей и приемных родителей. «Материнский эффект» оказался чуть больше, чем «отцовский».
Эти исследования подтверждают гипотезу о генетической детерминации различий в уровне развития общего интеллекта и меньшем влиянии генотипа на различия в специальных познавательных способностях.
В 70-е годы Дж. Ройс выдвинул факторную генетическую модель, на основе которой делалась попытка объяснить влияния генофонда и среды на специальные познавательные способности и общий интеллект [15].
Ройс основывался на представлении о конгруэнтности «генетической» и «сре-довых» факторных структур: одни и те же показатели интеллекта в равной мере подвержены генетическим и средовым влияниям. Согласно этой модели, генетические факторы парциальных способностей влияют на их проявление в фенотипе, а фенотипы отдельных способностей определяют влияние генотипа на общие способности.

Дж. Ройс показал, что генетические и средовые детерминанты в равной мере влияют на вариативность генетических признаков. Модель Ройса подтверждается лишь наполовину: если вариации общего интеллекта на 0,5 обусловлены генотипом и на 0,5 средой, то вклад генотипа в вариацию парциальных способностей значительно меньше.
Очевидно, более справедлива иная модель:

Возникает проблема: одни и те же или разные параметры среды влияют на развитие «общего интеллекта» (среда 1) и парциальных интеллектуальных факторов (среда 2)?
Можно предположить, что эти параметры все же различны, то есть на развитие общего интеллекта решающее влияние оказывает общая «интенсивность» интеллектуального взаимодействия с социальной микросредой (значимыми взрослыми), а на развитие парциальных интеллектуальных способностей – виды материала и задач, с которыми преимущественно имеет дело ребенок при интеллектуальном взаимодействии со взрослыми.
М. С. Егорова полагает [14], что коэффициенты генетической детерминации общего интеллекта и его подфакторов примерно равны (0,4 < Н < 0,66). Но при этом упускается очень важный момент: чем выше связь общего интеллекта со специфическим фактором (по модели Спирмена), тем выше генетическая детерминация. Она максимальна для вербального и пространственного интеллекта и минимальна для перцептивных и сенсомоторных способностей.
Влияние среды на развитие интеллекта
Различают три типа моделей, объясняющих влияние социальной микросреды на интеллект детей (Д. Фуллер и У. Томпсон, [16]).
В первой группе моделей постулируется решающее значение общения родителей с детьми, среди прочих факторов, влияющих на развитие детского интеллекта. Предполагается, что продолжительность общения между родителем и ребенком является основным фактором, влияющим на интеллект. Данные психологических исследований не подтверждают эту модель: согласно ей, корреляции уровней интеллекта детей и интеллекта матерей должны быть выше, чем отцов и детей, что не наблюдается. Основной недостаток этой модели – игнорирование эмоционального отношения ребенка к родителю, ведь влияние оказывает субъективно значимый другой, то есть не обязательно тот родитель, с которым ребенок фактически проводит больше времени, а тот, с которым он себя отождествляет.
Близка к этой позиции идентификационная модель. Она предполагает, что в ходе социализации ребенок осваивает новые роли, и при идентификации ребенка с родителем того же пола первый овладевает способами поведения, характерными для родителя. Неясно, однако, почему «значимым другим» должен быть родитель, с половой ролью которого идентифицирует себя ребенок.
Наконец, третья модель, автором которой является Р. Зайонц, прогнозирует зависимость интеллекта ребенка от числа детей в семье. Это единственная из моделей, находящая эмпирическое подтверждение, и далее мы ее рассмотрим более подробно.
Чистые «средовые» модели в настоящее время не находят подтверждения. Наибольшей популярностью пользуется модель генетико-средовых взаимодействий, предложенная Р. Пломином с коллегами [17, 18, 19, 20]. Пломин постулирует наличие двух аспектов рассмотрения психических особенностей человека: «универсального» и «индивидуального». К числу первых относятся исследования влияния депривации социальных контактов на интеллектуальное развитие детей. Однако депривация, по мнению Пломина, является отклонением от «эволюционно ожидаемой» среды. Если же индивиды обеспечены условиями для нормального развития, то их индивидуальные различия не могут быть объяснены с помощью «общих» закономерностей социального взаимодействия. То есть детерминанты общевидовых закономерностей развития могут не совпадать с детерминантами индивидуальных различий.
Пломин различает три типа корреляции генотипа и среды:
1) пассивное влияние – когда члены одной семьи имеют и общую наследственность, и общую среду; наблюдается неслучайное сочетание генотипа и среды;
2) реактивное влияние – реакция среды на проявления врожденных особенностей индивида, которая может привести к формированию определенных личностных черт;
3) активное влияние – индивид либо активно ищет, либо создает среду, которая в наибольшей степени соответствует его наследственности.
Примером первого варианта взаимодействия «генотип-среда» является семья музыкантов: ребенок, обладающий задатками музыкальных способностей, развивается в музыкальной среде. Второй тип проявляется в различных отношениях родителей-усыновителей к приемным детям в зависимости от уровня их индивидуального развития. При выборе профессиональной карьеры юноша активно выбирает среду, соответствующую его задаткам и склонностям (третий тип корреляции генотипа и среды).
Существует предположение, что в ходе развития ребенка тип генотип-средовых корреляций изменяется последовательно от пассивного к реактивному и активному.
«Средовая» исследовательская программа в настоящее время практически зашла в тупик. По крайней мере, результаты, полученные ее сторонниками, гораздо менее впечатляющи, чем результаты исследований, проведенных в рамках «генетической» программы.
Решающим средовым фактором развития интеллекта детей признается «психическая стимуляция», происходящая при общении и совместной деятельности ребенка и взрослых. Замечено, что если детей воспитывать в детском саду, где общение ребенка со взрослым сводится к минимуму, так как на одного воспитателя приходится свыше 10 детей, то они отстают от своих сверстников, воспитанных в семье, в интеллектуальном и сенсомоторном развитии.
Чрезвычайно интересны результаты, полученные Скиллсом и его сотрудниками в 30-е годы в одном из пансионатов для умственно отсталых детей штата Айова. Всего в группу входили 25 младенцев. Обычно эти детишки общались со взрослыми только во время ухода за ними; они все время лежали по одному в своих кроватках и были отделены друх от друга занавесками. Дети, выросшие в таких условиях, как правило, никогда не достигают нормального уровня интеллектуальной адаптации, многие остаются в клиниках для умственно неполноценных. Скиллс взял 13 детей и поместил в заведение для умственно неполноценных женщин. Женщины очень скоро эмоционально приняли младенцев, ухаживали за ними, разговаривали, ласкали. Дети начали ускоренно развиваться, интеллект их достиг нормы, и практически все они стали впоследствии полноценными членами общества (четверо получили высшее образование).
В течение последних тридцати лет проведены сотни исследований, в которых изучалось влияние так называемого «социального положения». Практически во всех исследованиях фиксируется более высокий уровень интеллекта у детей из привилегированных слоев общества по сравнению с детьми из бедных семей. Однако те же исследования показывают, что IQ детей, родившихся в пролетарских семьях, но воспитанных в семьях «среднего класса», на 20-25 баллов выше, чем интеллект их братьев и сестер, воспитанных биологическими родителями. То же самое явление обнаруживается при сопоставлении белых и афроамериканцев. Если детей, родившихся в социально-экономически неблагополучных семьях негров или метисов, с первых дней жизни воспитывать в семьях представителей белой расы, то уровень их интеллекта будет значительно выше, чем у цветных детей, воспитанных в родной среде.
Как мы уже упомянули, к числу моделей, рассматривающих влияние «интеллектуальной стимуляции» на развитие детей, принадлежит и модель Р. Зайонца [21]. Зайонц предположил, что от числа детей в семье зависит ее «интеллектуальный климат». Каждый член семьи (и родители, и дети) имеет определенный интеллектуальный уровень. Этот интеллектуальный уровень может быть выражен определенным числовым индексом. Каждый член семьи влияет на всю семью, и семья влияет на него. Преимущество в интеллектуальном развитии принадлежит первенцам, поскольку они получают больше родительского внимания и дольше, чем позднерожденные дети, взаимодействуют с родителями. Братья и сестры, родившиеся через небольшой промежуток времени, сходны с близнецами, они конкурируют за родительское внимание, кроме того, если они взаимодействуют не с родителями, а друг с другом, то уменьшается «интеллектуальная стимуляция» (эффект выявлен на близнецах). Проще говоря, суммарный интеллектуальный потенциал семьи делится на всех членов, и результат от этого деления равен величине показателя «интеллектуального климата».
Р. Зайонц и X. Маркус [22] предложили довольно сложную модель интеллектуального развития ребенка, выраженную дифференциальным уравнением 1-й степени:

где Мij(t) – уровень умственной зрелости, достигнутый i-мребенком к tгодам в семье из пчленов, среди которых jдетей; ?t + ?t – размер интеллектуального роста, накапливаемого им ежегодно (?t – рост, определяемый интеллектуальным климатом, ?t – рост, определяемый особой ситуацией развития последнего ребенка в семье).
Предполагается, что влияние интеллектуального климата семьи на ребенка не одинаково в разном возрасте: появление брата или сестры для ребенка 4 лет значительно более значимо, чем для 11– или 12-летнего ребенка. Поэтому авторы модели предположили, что влияние структуры семьи на интеллект ребенка зависит от возраста последнего. Эта зависимость выражается функцией:

где k – некая константа интеллектуального роста; t – физический возраст. Отсюда ?t и ?t выражаются как ежегодные «прибавки» в этой функции:

и соответственно: