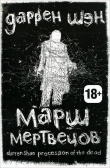Текст книги "Перстень Борджа"
Автор книги: Владимир Нефф
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
«Буцентаурус» пристал у среднего мола на месте, явно для него предназначенном и специально подготовленном, ибо там путников уже поджидал молодой человек в очках, лицо которого молодому кардиналу показалось чем-то знакомым, и девчушки в белых платьицах, чинно стоявшие полукругом. Когда Прекрасная Олимпия в сопровождении кардинала Гамбарини сходила с палубы галеры, девчушки осыпали ее полными пригоршнями цветов из плетеных корзиночек, висевших у них на запястье, и хором пропели строфы знаменитой песни Лоренцо ди Медичи «О бренности»; прославленная певица была растрогана до слез. Молодой человек в очках, представившийся гостям как Альберто Мачисте, бывший поверенный банкира Тремадзи в Страмбе, а теперь личный секретарь Его Милости графа ди Монте-Кьяра, помог Прекрасной Олимпии усесться в роскошный паланкин из слоновой кости, задрапированный пестрыми шелками, и в изящных выражениях извинился перед Его Преосвященством за то, что его секретарские обязанности, а главное – необходимость позаботиться об удобствах певицы помешают ему присутствовать на предстоящей службе Его Преосвященства, которую все население острова ждет со страстным нетерпением.
– Какую службу? – удивился молодой кардинал.
– Простите за неточное слово. Ваше Преосвященство, – молвил Мачисте. – Следовало сказать: апостольское послание или просто проповедь Его Преосвященства.
Молодой кардинал ужаснулся. «Maledetto!» [8]8
Проклятье! (ит. )
[Закрыть] – мелькнуло у него в голове.
– Какую проповедь? – вслух спросил он. Но Альберто Мачисте сделал вид, что не расслышал вопроса.
– Обо всем остальном позаботится наш священник, отец Марио Шимек, которого я позволю себе представить Вашему Преосвященству. Отец Марио возьмет на себя заботы о Вашем Преосвященстве, а я имею честь распрощаться с Вашим Преосвященством самым почтительным образом.
Повелительным жестом правой руки он подозвал священника, до сих пор стоявшего в отдаленье, и затем удалился с портовыми служителями, которые несли паланкин с Прекрасной Олимпией и ее утварь, прежде всего – чембало и арфу.
– Все верующие уже в сборе, – сказал молодому кардиналу отец Марио. Это был настоящий богатырь, необычайно представительный, с ослепительными зубами, блестевшими на его медно-багровом лице любителя поесть и выпить. – Весть о том, что Ваше Преосвященство собирается прибыть с миссией на остров Монте-Кьяра, молнией облетела наших жителей, вызвав необычайную радость и невыразимое умиление. Я собственными глазами видел, как грубые мужики проливали слезы радости, а женщины рыдали и обнимали своих малышей со словами: «Да исполнится твоя жизнь, дитя мое, радости и удачи, ведь ее благословит Его Преосвященство сам кардинал Гамбарини».
Как мы уже говорили, молодого кардинала неприятно задевала манера обращения патера Луго, называвшего его «Illustrissime» вместо «Ваше Преосвященство», однако теперь, когда этот титул выдавался ему полной мерой, он тоже испытывал недовольство, не будучи в состоянии отделаться от непостижимого, но навязчивого ощущения, будто два ничтожных червяка, с которыми он здесь познакомился, секретарь Мачисте и отец Марио, издеваются над ним.
– Я охотно благословлю детишек, – ответил он, пока они торопливо шагали по молу к берегу. – Но этот молодой человек в очках сказал мне, что от меня ждут какого-то выступления или проповеди; признаюсь, мне это совсем не по душе – во-первых, я не готов, а кроме того, нет настроения.
Отец Марио улыбнулся во всю ширь своего мясисто-багрового лица, увеличенного тройным подбородком.
– Ваше Преосвященство изволят шутить и тем подтверждают обоснованность своей репутации как характера солнечного. Святой Андрей Первозванный тоже был не в настроении, когда висел на кресте, и тем не менее неустанно проповедовал, пока не умер, а потом оказалось, что он обратил в истинную веру еще тридцать тысяч язычников. Моих прихожан, разумеется, не нужно обращать в истинную веру, поскольку все исповедуют Истину, и потому некоторые из них даже обратились ко мне с удивленным вопросом, что побудило Ваше Преосвященство прибыть с миссией к ним, добрым христианам, но я успокоил их, объяснив что Ваше Преосвященство, без всякого сомнения, хочет еще более укрепить их веру, и без того крепкую.
«Maledetto!» – снова мелькнуло в голове молодого кардинала, но он проговорил:
– Признаюсь, я желал прежде всего познакомиться с графом ди Монте-Кьяра.
– Нет никакого сомнения, что и Его Милость, господин граф, сгорает от нетерпения получить возможность приветствовать столь дорогого гостя, как Ваше Преосвященство, – сказал отец Марио. – Однако он настолько внимателен к пожеланиям и просьбам своих подданных, что пока не хотел бы вмешиваться в течение предполагавшихся миссионерских трудов Вашего Преосвященства.
Поскольку шагали они быстро, то прошли весь длинный мол и достигли берега намного раньше, чем паланкин с Прекрасной Олимпией и портовые служители с ее багажом. На берегу, впрочем совершенно пустынном, стояла пожилая дама, облаченная в великолепные черные одежды, расшитые золотом, с лицом, затененным густой вуалью, а позади нее – шесть смуглых кавалеров в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет, живостью и неугомонностью напоминавшие породистых жеребцов; поблескивая то белками глаз, то белоснежными зубами, они попеременно хватались то за меч, то за пистолеты, засунутые за широкие ремни, а то и за меч и пистолеты одновременно, словно им кто-то угрожал; очевидно, это была та самая мавританская княжна, инкогнито путешествовавшая с шестью своими сыновьями, о которой граф ди Монте-Кьяра упоминал в своем письме и которая теперь пришла посмотреть на приезд Прекрасной Олимпии. Граф ди Монте-Кьяра не солгал.
Отец Марио распахнул боковую бронзовую дверцу цитадели, защищавшей средний мол, и отступил в сторону, давая дорогу молодому кардиналу. Когда молодой кардинал прошел коридором со сводчатым потолком и очутился на земле острова Монте-Кьяра, он поразился, потому как не обнаружил ничего из того, что рассчитывал увидеть, а поскольку – как утверждают образованные и высокоученые психологи – человек видит и воспринимает только то, что он уже знает и что ожидает увидеть, мы не будем так далеки от истины, если выскажемся в том смысле, что молодой кардинал Гамбарини не увидел вообще ничего и что понадобилось некоторое время, пока эта абсолютная пустота обрела в его душе образ безрадостной, голой, каменистой песчаной пустыни, простиравшейся на две мили вперед, где росли лишь одинокие деревья с перекрученными стволами, похожие на сосны, и упрямые низкорослые кустарники с жесткими сочными листьями; на противоположном, восточном конце острова возвышались два могучих утеса, о которые с грохотом и гулом били мощные волны прибоя. Птицы, что во время прихода галеры в порт вились над островом, куда-то исчезли. А меж перекрученными соснами и сочнолиственными кустарниками мелькали лишь бревенчатые постройки различных размеров, от крошечных скворешен до огромных домов, смахивавших на временные конюшни; что же касается великолепного замка с медной крышей и фасадом, облицованным белым мрамором, то его, как можно догадаться, не видно было нигде.
– За то время, что Его Милость граф ди Монте-Кьяра владеет островом, – объяснял отец Марио молодому кардиналу, когда вел его куда-то по узкой каменистой тропке между домиками, – ему удалось выстроить порт и обнести укреплениями большую часть территории, однако на застройку ее пока не было времени. То, что Ваше Преосвященство изволят видеть, – это лишь складские помещения и казармы для наших каменщиков и солдат.
– Солдат? – изумился молодой кардинал.
– Да, да, солдат, – спокойно подтвердил отец Марио. – Для защиты от пиратов Его Светлость доставил на остров несколько небольших подразделений морской пехоты, разумеется, с благосклонного соизволения Его Святейшества.
– Кажется, этот ваш таинственный граф ди Монте-Кьяра испытывает перед пиратами прямо-таки болезненный ужас, – заметил молодой кардинал.
– Его Милость господин граф – человек очень мужественный, – сказал отец Марио. – Но мужественность не исключает предусмотрительности и осторожности. Впрочем, если нападения пиратов случаются изредка, в единичных случаях, или если даже до нападений дело вообще не доходит, коль скоро пираты знают, что остров укреплен и охраняется, – то и тогда солдаты не даром едят хлеб. Когда они не заняты военной подготовкой или сторожевой службой, они меняют солдатские мундиры на грубые рубахи и трудятся вместе со своими друзьями, каменщиками и плотниками, профессиональными каменотесами. Впрочем, как и мы все.
И отец Марио показал молодому кардиналу свои черные, потрескавшиеся, мозолистые ладони.
– Все? Включая самого графа? – спросил молодой кардинал.
– Да, включая Его Милость господина графа, – подтвердил отец Марио.
Молодой кардинал хотел еще поинтересоваться – а вдруг граф ди Монте-Кьяра не только трудится со своими каменщиками, но и живет в одной из этих паршивых казарм, однако уже не располагал временем, поскольку – если отец Марио и впрямь вел его к своим прихожанам, где-то уже собравшимся выслушать его, кардинала, миссионерскую проповедь, – пора было уже выдумать нечто божественное, простое, чистое и впечатляющее, чем он мог бы доказать, что не зря облачен в кардинальский пурпур, но – увы! – in puncto [9]9
По части (лат. ).
[Закрыть] набожности ему не приходило в голову ничего, кроме тех двух витков, что отделяют кардинала от небес; но для миссионерской проповеди – увы! – этого все-таки было недостаточно.
Объятый тоскою, он припомнил, как сам когда-то, года два с половиной назад, злорадствовал, смакуя аналогичное затруднительное положение его тогдашнего друга Петра Куканя из Кукани, которого герцогиня Диана во время бала, на глазах у всех придворных, неожиданно попросила высказать ей что-нибудь занимательное, а тот не знал, что именно она желает услышать. Все так, но только Петр это Петр, тут уж ничего не поделаешь, ведь после мучительной минуты молчания он ухватил нить и разговорился так, что у герцогини и всех присутствующих разгорелись глаза. «А получится ли это у меня?» – спрашивалсебя молодой кардинал, вдруг осознав, что в вопросе, поставленном таким образом, уже заключен отрицательный ответ.
– Произнесите быстро не важно что, лишь бы я мог за это ухватиться, – в волнении попросил молодой кардинал.
Отец Марио удивился.
– Да что же именно, Ваше Преосвященство? – спросил он.
– Вы сказали «да»? – проговорил молодой кардинал.
– Да, я сказал «да».
– Благодарю, этого достаточно, – произнес молодой кардинал.
В голове его мелькнула мысль, что свою проповедь миссионера он составит на основе этого краткого, ничего не значащего словечка «да». «В началебе слово, – начнет он. – И слово это было „да“. „Да будет Мне по слову твоему“, – сказала ангелу будущая Матерь Божия». И так далее, и так далее. Что будет «и так далее», пока не известно, но. Бог даст, что-нибудь да и придет в голову. Ибо его проповедь не должна быть, да и не будет строго логичной, основанной на разумных дедукциях с четким началом и вразумительным концом, скорее она будет эмоциональной и фанатичной, нечто вроде Откровения святого Иоанна.
Издалека доносился гул, словно говорили десятки и десятки людей, и гул этот по мереих приближения становился все мощнее; вскоре они оказались на гигантской каменистой площадке, которую с одной стороны замыкала наполовину возведенная стена, – здесь заканчивались островные укрепления, а с другой – исполинский прямоугольник, обширнее чем piazza Monumentale, где вырисовывался фундамент колоссального сооружения; тут отец Марио прервал набожные размышления молодого кардинала, сообщив ему, что здесь строится арсенал, который будет в три раза больше знаменитого венецианского, что, право, заслуживает внимания, поскольку в венецианском арсенале помещается вооружение для семидесяти тысяч человек.
На каменистое пространстве меж недостроенными укреплениями и будущим арсеналом сидело и стояло на досках, балках, камнях, деревянных козлах и копрах, кучах кирпича, песка и прочего строительного материала множество людей, в подавляющем большинстве своем – мужчин. Если бы вместо молодого кардинала появился знаменитый тенор или военачальник, его приход встретили бы аплодисментами и возгласами «Да здравствует!», но поскольку пришедший был лицом духовным, с его появлением наступила полная благоговейная тишина; все поднялись, приняли почтительную позу и приготовились сосредоточенно слушать; с выражением детского радостного ожидания на лицах они застыли, как каменные изваяния святых, и только некоторые мамаши подняли на руках своих ребятишек, чтоб те тоже могли полюбоваться на прекрасное, как у эфеба, святым воодушевлением разгоряченное лицо молодого кардинала.
– Пожалуйста, Ваше Преосвященство, извольте подняться повыше, вот сюда, – указал Марио Шимек на невысокое, из грубых кругляков и неоструганных досок сколоченное возвышение, наверняка предназначавшееся специально для редкого гостя. И вот молодой кардинал, одолев пять ступенек, замер, опершись руками о грубые перила. Теперь, когда он знал, о чем будет говорить, ему было приятно ощущать волнение и интерес, вызванные появлением его особы, а он знал, что пурпур прекрасно подчеркивает его изящество, и снова – впервые за долгие-долгие годы – ощутил себя значительным, полностью владеющим ситуацией человеком. Он немного постоял, опершись о перила и улыбаясь той мечтательной полуулыбкой, какой мастера кисти одаряли святого Иоанна, любимца Господа; потом, словно очнувшись от созерцания потустороннего мира, обратил взгляд своих голубых очей к земной жизни. Столпившихся у его ног благословил тройным знамением креста, после чего приветливым жестом обеих рук попросил их сесть. Настала полная тишина, нарушаемая лишь глухим рокотом прибоя. Ни один из ребятишек, поднятых на руках ввысь, не заплакал, все не отрываясь смотрели на молодого кардинала. И наступила минута, когда уже стало необходимо положить конец этой подготовительной импровизированной церемонии и начать проповедь, и молодой кардинал лихорадочно к этому готовился: он уже раскрыл рот, чтоб начать свою речь простеньким и невинным словцом «да», на котором покоилась чеканная система его идей, уже настроил голосовые связки, чтобы произнести эти идеи вслух, но не произнес, а издал безумный, исполненный ужаса вопль, который разнесся по всему простору острова. Ибо внизу, под возвышением, в самом первом ряду собравшейся толпы, он увидел нечто столь страшное, что ноги у него вдруг подкосились, а грудная клетка словно бы наполнилась ледяной водой, так что, будь он постарше, то прямо на месте его наверняка хватил бы удар, ибо увидел он Петра Куканя: облаченный в полотняный хитон, тот сидел на доске, положенной на две бочки, болтал грязными ногами, обутыми в грубые рабочие башмаки, и с любопытством обращал снизу вверх, на молодого кардинала, свой прекрасный лик ангела-воителя.
– Это он! – выставив далеко вперед указательный палец правой руки, завопил, молодой кардинал, показывая на Петра Куканя и одновременно поворачиваясь к нему боком. – Мерзавец, на которого пало проклятье Его Святейшества, убийца герцога Танкреда и принцессы Изотты! Держите, вяжите его!
Петр Кукань из Кукани оглянулся назад, словно не понимая, на кого столь яростно нападает Его Преосвященство: заметив, что к нему устремлены взгляды взволнованной публики, явно недоумевавшей, на кого направляет свой указующий перст молодой кардинал, он снова повернул лицо к потрясенному наместнику Божию на этой земле.
– Ваше Преосвященство имеет в виду меня? – спросил он с оттенком сожаления и обиды.
– Да, это он! – визжал молодой кардинал, топоча обеими ногами по грубым доскам настила. – Чего вы ждете? Чего ворон считаете? Веревку! Веревку! Приказываю вам властью, данной мне моим святым саном! Он опаснее всех дьяволов вместе!
– Но, Ваше Преосвященство, – вполголоса произнес отец Марио Шимек, – это ведь граф ди Монте-Кьяра, владелец острова и наш повелитель!
У молоденького кардинала подломились ноги, и все рухнуло в тартарары. Последним его ощущением было падение со ступенек, затем удар головой обо что-то твердое и жесткое, а потом – полная тьма и пустота, a… ax, – тьма и пустота.
БЕСЕДА ПЕТРА КУКАНЯ С МОЛОДЫМ КАРДИНАЛОМ
Когда молодой кардинал Джованни Гамбарини пришел в себя, ему было так плохо, что даже при виде Петра Куканя из Кукани, который сидел чуть поодаль и, удобно устроившись, изучал какие-то карты, пользуясь при этом обыкновенным циркулем-измерителем, его ощущение беды усилилось лишь незначительно. Он прикрыл глаза, притворяясь, будто до сих пор в обмороке, но когда, спустя некоторое время, не выдержав, открыл их снова, то с ужасом обнаружил, что и Петр, оторвавшись от своих карт, тоже разглядывает его. Тогда он собрал всю свою отвагу и проговорил замирающим голосом, с трудом шевеля пересохшими губами и давая Петру понять, что разрезать его, Джованни, на части, будто селедку, как ему было обещано, уже нет нужды, ибо он, Джованни, и без экзекуции полностью уничтожен:
– Что ты теперь со мной сделаешь?
Петр отложил линейку и циркуль.
– В Писании сказано: око за око, зуб за зуб. Да и апостол Павел говорит в своем Послании к Римлянам: «Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Святой Фома Аквинский в этом вопросе ссылается на пророка Илью, который наслал огонь на пришедших схватить его, и на его преемника Елисея, что натравил двух медведиц на наивных детей, которые простодушно смеялись над его плешивостью. Как известно, медведицы сожрали двадцать четыре ребенка, но ни из чего не видно, чтоб Елисея из-за этого терзали муки совести; согласно Писанию, этот самолюбивый и не слишком симпатичный пророк поднялся впоследствии на гору Кармел и оттуда отправился в Самарию, на этом все и кончилось. Разумеется, ты, Джованни, как высокопоставленное духовное лицо, можешь не признавать законности и серьезности этих священных примеров. Я, разумеется, отнюдь не служитель божий и менее всего – пророк, но для тебя это только хуже: если пророкам и божьим прислужникам просто-напросто приказывают сурово пресекать зло, даже столь невинное, когда озорники мальчишки смеются над лысиной ворчливого старика, то я уж и не знаю, почему бы мне, записному безбожнику, следовало стесняться in puncto мести. С этим все ясно; вопрос лишь в том, какой способ мести предпочесть. Смерть через четвертование, а проще говоря, путем разрывания на четыре части на кресте святого Андрея, как раз по тебе, негодяй, за убийство светлой памяти герцога Танкреда. Тут нечего было бы и обсуждать, если бы ты не совершил еще и других мерзостей, к примеру, если бы не пытался – как пытаешься и до сих пор – свалить свое злодейство на меня, чему я был свидетелем несколько минут назад, перед тем как тебе грохнуться наземь и расшибить себе башку; и поскольку вершителем мести являюсь я, то, понятно, самое большое значение я придаю наказанию за бесправность, жертвой которой оказался. Ну, а поскольку смерть через четвертование хоть и мучительная, но слишком быстрая, то я принял решение, что ты умрешь смертью самой медленной, а посему самой ужасной, на которую ты в свое время осудил известную тебе дорогую для меня женщину, то есть умрешь на колесе.
Это были ужасные слова, но на молодого кардинала, к удивлению, они произвели отнюдь не убийственное, а скорее успокаивающее действие, потому что, при всей их беспощадной, неимоверной жестокости, это были всего-навсего слова, прозвучавшие не в мрачном застенке, не в тюремной камере, но в роскошной, изукрашенной богатой резьбой каюте стоявшего на приколе корабля, как можно было догадаться по заметному ритмичному покачиванию, и сам Джованни не валялся на соломе, кишащей скорпионами и сороконожками, но удобно возлежал на широком, туго набитом кожаном диване, накрытый мягким восточным одеялом; его кардинальская шапка, на которой виднелись следы недавней чистки, кое-где влажная и приглаженная щеткой, лежала подле его ложа на стуле… «Нет, это невозможно, – пронеслось в обреченном и вновь воспрянувшем сознании, – ведь если твердо и всерьез решают казнить кого-то на колесе, то не затрудняют себя приведением в порядок его шапки; но отчего Петр и теперь медлит и ограничивается угрозами, как в свое время в Страмбе, хотя теперь я всецело в его руках? Опасается моего сана? Может, мой пурпур все-таки на что-то годится? Едва ли. Во всяком случае, Петр – последний, кто принял бы это в расчет. А может, он ограничится болтовней и не станет уничтожать меня физически, поскольку уважает законы гостеприимства? Но ведь рассчитывать на это не приходится, ведь я сам безбожно нарушил этот закон, когда Петр был моим гостем, а он привык платить той же монетой. А может, за эти два года злости у него поубавилось? Тоже маловероятно, ведь в таком случае он не посылал бы мне записок и не угрожал смертью на колесе. А может, у него есть еще какие-то намерения, о которых я не подозреваю?»
От тепла смутных надежд отвага в нем поднялась, как тесто в квашне за печкой, и молодой кардинал решил разгадать эту загадку. Отбросив одеяло, он решительно встал и тут же, делая вид, что переоценил свои силы, зашатался и тяжело оперся обеими руками о край стола, за которым сидел Петр.
На Петра это не произвело ни малейшего впечатления.
– Ты помнешь мне карты, сядь лучше на стул, – сказал он. – Но не на свою шапку.
Однако молодой кардинал, продолжая стоять, разразился великолепной тирадой:
– Я готов принять любую муку, на которую ты обречешь меня по праву сильнейшего, – объявил он, – и все же прошу об одном: сделай это немедленно, казни меня хоть на колесе, раз уж ты настаиваешь на этом виде казни, но не терзай долее жестокими словами; они тем невыносимее для моего слуха, что их произносит человек, которого я любил и люблю до сих пор.
И только после этого, сбросив шапку на диван, Джованни опустился на стул.
Петр рассмеялся.
– Ты славно заскулил, образина, только зря все это, я не могу удовлетворить твою просьбу и вынужден продлить твои муки и отослать тебя целым и невредимым в твою родную Страмбу, потому что не подоспело еще твое время, и то колесо, в которое ты будешь вплетен, возможно, существует все еще лишь in potentia – потенциально – во плоти дерева, спокойно растущего и шумящего ветвями где-нибудь в лесу, в счастливом неведении о том, для какого страшного дела оно понадобится.
Молодой кардинал подавил вздох облегчения и радости, сумев сохранить на своем прекрасном лице эфеба выражение печали, словно известие, что его замучают не сейчас, а в неопределенном будущем, очень его огорчило, но не успел сдержать волну радостно-теплой крови, прихлынувшей к его щекам, до того мгновенья имевших желтовато-зеленый оттенок.
– В таком случае, – произнес он скорбным шепотом, – я вообще не понимаю, – не понимаю, зачем ты меня сюда заманил.
Петр Кукань из Кукани, или граф ди Монте-Кьяра, явно развеселясь, засунул большие пальцы обеих рук за пройму безрукавки, сшитой из кожи олененка и украшенной круглым мягким, ненакрахмаленным воротником из кружев, в которую он облачился, сняв свою рабочую блузу. Под кожаной безрукавкой была еще шелковая, расшитая черным и красным, рубашка с испанскими рукавами.
– Это я-то тебя заманил? Я? На остров Монте-Кьяра?
– Да, своим письмом, посланным тетушке Диане. Правда, о моей особе ты в нем нигде не упоминаешь, но оно составлено так, чтобы разжечь тетушкино любопытство. А поскольку она, как благородная дама, не могла ни с того ни с сего, без приглашения сама поехать к незнакомому мужчине, тебе хватило пальцев на одной руке, чтоб высчитать, что она под любым предлогом склонит к этому мое ничтожество.
– Право, я ничего подобного не высчитывал, хотя бы потому, что правая рука у меня занята пером или карандашом и для повседневных расчетов я использую левую, а на ней не хватает одного пальца, которого лишил меня наемный убийца, посланный тобою в свое время мне навстречу. Но это пустяк, о котором не стоит и вспоминать. Надо думать, за то долгое время, пока мы не виделись, твой дух созрел, возмужал и обрел небывалую остроту и проницательность, так что ты овладел искусством смотреть в корень и читать между строк. Только на сей раз ты увидел между строк то, чего там не было. Я вовсе не хотел заманивать тебя к себе на остров – к чему? У меня достаточно длинные руки, чтоб в назначенный срок настичь и схватить тебя, где бы ты ни обретался. Согласен, мне доставляет удовольствие пугать тебя местью, но для твоей трусливой душонки достаточно записки, куда более краткой и энергической, чем парадное письмо, что я отправил герцогине Диане. Речь шла абсолютно о другом. Вам, прелатам, привыкшим лгать, даже в голову не приходит, что кто-то может порой сказать правду; поэтому, когда я сообщаю герцогине Диане, что принимаю гостей, которые желали бы услышать пение Прекрасной Олимпии, у тебя даже в мыслях нет предположить, что я и впрямь принимаю таких гостей, которые и на самом деле интересуются Прекрасной Олимпией. Ты удивишься, но это истинная правда. Известие, которое я получил в ответ на мое письмо от герцогини Дианы, о том, что Прекрасная Олимпия приедет в твоем сопровождении, для меня было полнейшейнеожиданностью – я не говорю, что крайне неприятной, поскольку разумно и полезно время от времени сводить старые счеты, но все-таки неожиданностью.
Петр замолчал, заметив, что взгляд голубых глаз молодого кардинала в ужасе застыл на его правой руке, на безымянном пальце которой сверкал огромный бриллиант.
– Да, ты прав, – сказал Петр, – этот перстень Цезаря Борджа, тот самый; мы вместе нашли его на руке мертвого Иоганна, лакея твоего отца, а ты, скорее всего из малодушия, подарил его Прекрасной Олимпии, поскольку запамятовал, что когда одно и то же делают разные люди, результат получается разный и что кардинал кардиналу рознь, а то, что удалось кардиналу Сципиону Боргезе, не удастся тебе, потому как драгоценность, которую Олимпия не рискнула принять из рук папского племянника, она без колебаний возьмет от кардиналишки пятого разряда, отосланного в окраинную провинцию Италийского полуострова; не пяль на меня глаза, все это я узнал от самой Прекрасной Олимпии. Так или иначе, увидев перстень на ее руке, я сказал себе, что было бы жаль, если бы эта старинная вещь, которая и для меня ценна как память, однажды и навсегда исчезла из нашей истории, поэтому я предложил певице продать его мне. Это было нелегко, поскольку женщина она алчная, чуждая сантиментов, прекрасно знающая мир, но в конце концов я своего добился. Небеса на сей раз были к ней весьма и весьма благосклонны, и в результате этой чрезвычайно успешной торговой сделки наша усатая красавица обеспечила себя, своего супруга-трубочника и своих детей на многие-многие годы.
Молодой кардинал снова поник головой и со вздохом произнес:
– Ты говоришь – старинная вещь ценна как память. Для меня перстень тоже ценен тем, что напоминает о прекрасной поре нашей дружбы. Я был последним дураком, когда вместо того, чтоб благословить небеса, пославшие мне такого друга, поддался сплетням провинциальных интриганов и хитрецов и позволил им восстановить себя против тебя. Теперь-то я все понимаю, но уже поздно. А может, еще не так уж поздно? Хоть ты и осыпал меня угрозами и оскорблениями, но ведь и сам проговорился, что этот перстень ценен тебе как память; а можешь ли ты из этих воспоминаний вычеркнуть мою личность? Прости меня, Петр, за все, чем я тебя оскорбил и что нас поссорило, – тебе это сделать тем легче, что ты, очевидно, богат и могуществен, в то время как я и на самом деле, как ты заметил, всего лишь кардиналишка пятого разряда…
Он запнулся, потому что Петр расхохотался снова.
– Идешь на попятный, Джованни, но прибегаешь к странным аргументам. Отчего мне прощать тебя? Оттого, что твои преступления ни к чему не привели? Оттого, что ты сам себя высмеял, приняв церковный сан, который тебе идет как бисер свинье? Я располагаю сведениями, что ты ровно ничего не делаешь, чтоб оправдать назначение губернатором Страмбы. Чем же ты тогда занят? Может, по крайней мере, работаешь над собой, над своим самоусовершенствованием, противишься смерти?
– Противиться смерти? – удивился новоявленный кардинал.
– Смертью, – уточнил Петр, – я считаю не только конец физического существования и безвозвратный уход в небытие, но и сластолюбиво-ленивую уступчивость этому небытию уже в ту пору, когда физическая жизнь еще продолжается, – праздность, обжорство, недостаток активности и деятельной воли. У меня достанет денег, чтоб окружить себя роскошью и предаться сладкому безделью. А посмотри, вместо этого я благоустраиваю свой остров и учусь.
– А можно поинтересоваться, чему? – спросил молодой кардинал с учтивым любопытством.
– Всему, чему можно научиться, – сказал Петр. – К примеру, за два года, что я тут, я освоил язык арабов, турок, персов и их причудливую, но прекрасную письменность. Я пишу угловатым куфическим письмом, которое лучше всего смотрится на пергаменте, выделанном из кожи газелей, литературным письмом пасхи, эпистолярным рика, парадным – тумар, орнаментальным – тултх, равно как и письмом рихани; а чему научился ты в свои праздные часы и минуты?
Кардинал вынужден был признаться, что в свои часы и минуты он не научился ничему.
– Итак, простить тебя, кто сверх вины еще бездарен и ленив? – возмутился Петр. – Дарить прощение что ты – бездушное ничто?
– Ты прав, – признал молодой кардинал. – Но всего святого, открой мне, отчего ты заговорил в стихах?
– В пору своих сомнительных успехов, достигнутых не без моего участия, ты не мог мне простить, что я внук кастратора и сын шарлатана, – перебил Петр, оставив без внимания вопрос, заданный кардиналом. – Я не подал бы тебе руки, даже если бы ты не был так жалок и смешон, – прокисшую кашу не разогреешь снова, и я никогда не подам тебе руки, потому что стоило бы мне только коснуться твоей ладони, передо мной тотчас встало бы страшное лицо мертвой Финетты, ее выклеванные вороньем глаза, и тогда я, не сдержав гнева, вдрызг размозжил бы твою хлипкую птичью лапку.
И тутПетр, схватив стоявший на столе грубый бронзовый колокольчик с крепкой эбеновой рукояткой, к ужасу молодого кардинала, пальцами одной правой руки смял его, будто бумажный кулек.
– Нет, Джованни, нашу дружбу не воскресить, – продолжал Петр. – И все-таки ты можешь искупить свои прегрешения, расстаться с недостойным положением облаченного в пурпур соломенного чучела и более того – хотя, разумеется, для человека твоего сорта это ровно ничего не значит, – отличиться в деле защиты блага и спасения рода человеческого.