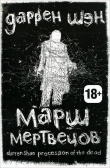Текст книги "Перстень Борджа"
Автор книги: Владимир Нефф
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Петр замолчал; молчал и султан; и воцарилась тишина, нарушавшаяся лишь учащенным дыханием взволнованного ученого Хамди, тестя Петра. Султан размышлял, и его бородатое лицо сделалось серьезным и строгим.
– Ты сказал: панта рэй? – спросил он несколько погодя.
Петр покачал головой в знак согласия.
– Именно так, Ваше Величество, panta rhei. Это древнегреческое выражение, которым пользовались в своих сочинениях и арабские мусульманские мыслители, прежде всего Ибн Сина, известный под именем Авиценна, который жил шесть веков назад, и Ибн Рушд, который был моложе его на сто лет, именуемый Аверроэс.
Султан хлопнул в ладоши.
– Велите привести муфтия, – сказал он привратнику, явившемуся по этому знаку.
– Если муфтий, – сказал он, обращаясь к Петру, – отвергнет твою исповедь как преступную болтовню и блудословие, тогда простись с этим, как ты называешь, миром противоположностей, которые, оказывается – и это очень меня занимает, – вообще даже и не противоположности, поскольку все едино есть. Ай, Абдулла, может, ты и безумец, и язычник, но, клянусь бородой Пророка, Моему Величеству с тобой не скучно. Однако сначала выслушаем муфтия.
Муфтий – напомним для ясности – был высшим духовным лицом и экспертом по вопросам веры. Это был тощий, неопрятный человечек, настолько крошечный, что халат, который набросили на него в приемной, волочился по земле, – тогда не позволялось являться на аудиенцию к султану иначе чем в казенном халате. Если Петр и Хамди-историограф, вызванные в сераль для того, чтобы Повелитель излил на них свой гнев, были одеты в халаты серые, строгие, подобные облачениям кающихся грешников, то муфтий, личность почтенная и высокопоставленная, был облачен в великолепные, расшитые золотом парчовые одежды. Он был очень взволнован, потому что быть вызванным неожиданно, ни с того ни с сего, пред трон Высочайшего всегда тревожно. Помимо всего прочего, совесть у него была нечиста, поскольку прошлую ночь он прокутил; закрыв окна, пил с собутыльниками вино, употреблять которое, как известно, запретил Аллах; до сих пор у него гудела голова, и от него, как от старого бочонка, воняло бродившим в утробе напитком. Поэтому на помятом рябом лице, высовывавшемся из богатого мехового воротника, застыло выражение тоски, а черные мышиные глазки беспокойно бегали.
– Я готов и с нетерпением жажду возможности исполнить пожелания Его Величества, – произнес он, приготовившись к самому страшному.
– Речь идет о нескольких вопросах, милый муфтий, – молвил султан тоном наивысшей благожелательности. – Растолкуй нам, каков истинный смысл слов Пророка о том, что каждый человек сразу после своего рождения становится мусульманином. Не значит ли это, что в первые минуты существования новорожденный уже знает основополагающее установление, что нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет Пророк Его?
Муфтий напряженно посмотрел на султана, пытаясь разгадать, что Повелитель желает услышать, и, увидев, что Владыка Двух Святых Городов совершенно однозначно качает головой и всем своим корпусом, ответил:
– Ни в коем случае, мой султан. Новорожденный не может ничего знать ни об Аллахе, ни о Магомете – просто потому что новорожденный есть новорожденный.
– И все же он мусульманин?
– Пророк сказал так, – подтвердил муфтий.
– Ты говоришь: новорожденный есть новорожденный, – настаивал султан. – Хоть это и правда, но нам она говорит немного. Каковы главные свойства новорожденного?
– Новорожденный чист, – сказал муфтий. – Неспособен на низость.
– И больше ничего? – спросил султан.
– Весьма важно еще одно… – произнес муфтий запинаясь.
– И что же это?
Муфтий, не в силах больше ничего прочесть на лице султана, в тоске поглядел в сторону, туда, где стоял Хамди, и увидел, что историограф постукивает указательным пальцем себя по губам и кивает головой в знак отрицания.
– Новорожденный не умеет говорить, – с облегчением проговорил муфтий.
– Превосходно, – похвалил султан. – Новорожденный не умеет говорить, а это значит – он не лжет. Итак, новорожденный – чист и неспособен на низость и ложь. Так?
– Истинно так, мой султан.
– А это – по словам Пророка – главные свойства мусульманина?
– Да, главные, Ваше Величество.
– Более существенные, чем попугайское бормотание святых истин?
– Да, более существенное, мой султан, – сказал муфтий и, поскольку теперь ему было ясно, куда клонит Повелитель, живо затараторил: – Ильяс ибн Юсуф Низами, который жил вскоре после Пророка, почти дословно говорит следующее, а именно, что истинное неверие – это внешнее, поверхностное вероисповедание, меж тем как истинная вера – это благородное неверие.
– Так что если чужестранец, не знающий наших нравов и привычек, признает и почитает единственного Бога, которого, однако, не называет Аллах, но Пантарэй, это не существенно?
– Сущие пустяки. Ваше Величество, – сказал муфтий, оживившись, ибо ледовый панцирь страха и тревог, сковывавший его тощую грудь, дал трещину. – Главное, – продолжил он, – чтобы был он чист и неспособен на низость и ложь.
– После чего он мог бы стать мусульманином, даже не будучи обязан произносить основополагающее установление: «Верую и признаю, что нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет Пророк Его»?
Муфтий поразился, поскольку это для него был все-таки чересчур крепкий табачок.
– А почему он не может произнести это установление? – тихо спросил он.
– Потому что не хочет, – проворчал султан. – Ты понимаешь, скотина, что это значит, когда сильная и благородная личность не желает что-либо делать? Это просто означает, что он этого не сделает, и баста. И ты разве не слышал, что молодой человек, о котором тут речь, называет своего Бога не Аллах, но Пантарэй?
– Пусть так и скажет, – неуверенно предложил муфтий. – Пусть скажет… верую, что нет Бога, кроме Пантарэя, а Магомет Пророк Его.
Султан перевел взгляд своих миндалевидных глаз на Петра.
– Это ты можешь произнести? – спросил он.
Петр улыбнулся.
– Нет, не могу, Ваше Величество.
– Я так и знал, – огорчился султан. – И ничего лучшего ты не можешь предложить, дурья твоя голова? – снова обратился он к муфтию.
Муфтий, придя в замешательство, некоторое время размышлял:
– Тогда пускай Ваше Величество объявит его почетным мусульманином.
Султан шлепнул себя по ляжкам.
– Вот это то, что нужно, вот это я и хотел услышать! – воскликнул он. – А теперь, муфтий, будь очень внимателен, наблюдай, что будет, держи ушки на макушке и гляди в оба. Мой милый Абдулла, раб, вознесенный к Солнцу, ты, к кому воспылали приязнью мой ум и сердце, муж чистый и неспособный на низость и ложь, почетный мусульманин и первый носитель сана, поименованного «Ученость Его Величества» – первый, но, думаю, и последний, ибо я не вижу никого, кто бы после тебя этот сан получил, – мой личный секретарь и советник, чья речь, украшенная иноземным акцентом, звучит для моего слуха высокой музыкой, побуждающей к размышлению, – ты видишь, насколько я взволнован и вдохновлен; – так знай, что та честь, которую я тебе оказал, – наивысшая изо всех почестей, которыми я располагаю, а это о чем-нибудь да говорит. Сними халат.
Петр в изумлении снял серую хламиду кающегося грешника и подсудимого, а султан, поднявшись, расстегнул бриллианты, служившие ему пуговицами, сбросил с плеч свой прекрасный халат, блиставший дорогими каменьями, как небосвод ясной августовской ночью, и возложил его на плечи Петра. И тут же по всем пяти зданиям сераля распространилось известие, что в могучей турецкой империи объявился новый правитель.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
СТАМБУЛЬСКАЯ ДЕФЕНЕСТРАЦИЯ
ХАЛАТ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
И хотя Петр, исповедовавший, как сказано, libега arbitria, то есть свободу человеческой воли, не признавал в своем мире ничего, что можно было бы назвать «бродячим сюжетом», и, значит, не видел никакой симметричной связи меж своей триумфальной аудиенцией у главы христианства, папы, состоявшейся около шести лет назад, и не менее победоносной аудиенцией у главы противников христианства, турецкого султана, он не сомневался, что событие, происшедшее тогда, на свой манер повторится и на этот раз. Властители, чересчур могущественные и чересчур одинокие в своем исключительном положении, легко загораются и воодушевляются, благодарные кому угодно, кто смог увлечь их, вырвав из оцепенения и скуки государственных занятий, но столь же быстро охладевают и отрезвляются. И если несколько лет тому назад папа сперва осыпал Петра своими милостями, а назавтра, опомнившись, нашел дипломатический способ эти милости сократить настолько, что по сути все забрал обратно, то можно было ожидать, что так же поведет себя и султан.
Того же мнения придерживался и историограф Хамди-эфенди, в скромный дом которого, к его прелестной черноволосой дочери, Петр вернулся сразу же после окончания аудиенции у Того, Для Кого Нет Титула, Равного Его Достоинствам. Ученый историограф считал, что высокий сан, в который посвящен его зять, – слишком неожиданный, ни с чем не сообразный, несуразный и слишком рискованный, чтобы можно было принимать его всерьез и со всей ответственностью. И что Петр вел себя неправильно, когда перед султаном дал волю своему невоздержанному языку и не последовал примеру своего тестя Хамди, который взвешивал каждое слово и предпочитал молчать, лишь бы не произнести ничего, о чем позже мог бы пожалеть, хотя, понятно, и у него с языка тоже готова была сорваться и остроумная реплика, и убедительный аргумент. Он, Хамди, просто цепенел, когда Петр подносил сюрпризы и атаковал Повелителя своими безумными идеями, неслыханными подтасовками и ересью. Так, например, когда Петр заявил, что не верит в Бога, Хамди просто почувствовал, как у него на голове под напором вставших дыбом волос буквально поднимается тюрбан. Хотя султан, да воздается за это Аллаху, и дал себя ошеломить безумной Петровой тарабарщиной и в ослеплении своем невероятно его превознес, но нельзя предвидеть, чем это кончится и что произойдет, когда мысли в его голове улягутся, выстроятся в привычном порядке, а главное – в этом самая большая опасность – когда внимание его привлекут разнотолки ревнивых и завистливых придворных, которые пасутся вблизи него и кому сногсшибательный успех Петра буквально не дает спать. Сам он, Хамди-эфенди, от всего этого испытывает такой страх, что в животе у него кишки закручиваются, извиваясь, словно клубок змей, и он мог бы – пусть многоуважаемый зять ему в том поверит – подкрепить свои неприятные – ощущения и мрачные настроения множеством исторических примеров.
Пессимизм ученого историографа, окрашенный наивно скрываемой завистью к успеху зятя и стыдом за собственную робость, был, возможно, и преувеличен, однако Петр, который при своем знании мира и людей мог бы подняться над такими пустяками, принимал укоры тестя не без раздражения, поскольку считал неприличным, если не бесчестным, для пожилого человека так спокойно, как ни в чем не бывало, забывать о том, что если бы Петр не вел себя перед султаном подобным образом, то сейчас оба они, тесть и зять, возможно, умирали бы на колу долгой и мучительной смертью.
А маленькая Лейла – что бы ни пророчил ее хлопотливый папенька – не сводила с Петра своих черных, словно бесконечная ночь, очей, выражавших страстную преданность и безудержное восхищение: она очень хорошо знала – одна пташка-щебетунья принесла ей в клювике весть, – что перед властителем Петр не оробел, вел себя не безрассудно, как того хотел ученый Хамди-эфенди, а блестяще-остроумно и что, напротив, неловко и неумно проявил себя ее папенька, и она так гордилась своим мужем, что ее маленькие груди трепетали, как после стремительного бега, а лицо Петра пред ее взором расплывалось и таяло, затуманенное слезами восхищения и горделивого счастья.
Однако очень скоро подтвердилось, что Хамди-эфенди хорошо знал, что говорит, ибо некоторое время спустя после последней молитвы, которую он и Лейла совершили с надлежащим тщанием и полнотой, тогда как Петр угрюмо удалился в свой рабочий кабинет, чтобы там побеседовать со своим богом Пантарэем – так вот, после последней молитвы, когда небо на западе давно погасло и все собаки на обоих берегах Босфора слили свои голоса в одной протяжной и непрерывной элегии завываний, лая и тявканья, к дому Хамди-эфенди маршем подошел отряд янычар с бунчуками и факелами. В столь позднее время они выглядели необыкновенно могучими, поскольку, во-первых, на службу в серале отбирали самых рослых верзил, а во-вторых, на головах они носили высокие шапки, украшенные лентами, спускавшимися по спине чуть ли не до пояса. А когда их предводитель начал молотить в дверь своим здоровенным кулаком, Хамди-эфенди прошептал посиневшими от страха губами:
– Вот оно, начинается.
И самолично пошел им отворить, не дожидаясь привратника, который забрался в укромный уголок и, без сомнения, уже спал крепким сном.
Предводитель, чье звание обозначалось серебряным бантиком, прикрепленным к феске посредине лба, на вопрос Хамди, чего ему угодно, ответил, что желает говорить с Абдуллой. Так он и выразился – с Абдуллой, не с рабом Абдуллой, не с Абдуллой-беем, как Владыка Владык нынче раз или два назвал Петра, а просто с Абдуллой – и все, точка. Это прозвучало так сухо и неприязненно, что Хамди не сдержался и задал вопрос:
– С моим зятем Абдуллой?
Предводитель расхохотался грубым янычарским смехом.
– Ишь ты, с твоим зятем! По-твоему, все, и даже я при моей высокой должности, должны знать твои семейные дела? Мне приказано поговорить с Абдуллой, который живет в этом доме и кого наместник Бога на земле сегодня утром лично допрашивал. Вот его и приведи, да побыстрей, если не желаешь сюрпризов, которыми я в своем высоком чине вместе со своими помощниками могу тебя осчастливить.
– Я здесь, – неожиданно прозвучал голос, как уже один раз случилось в этом доме, и из тьмы коридора появился Петр, направлявшийся к открытой входной двери, освещенной факелами янычар. – Чего тебе нужно? Наверное, стряслось что-то важное, если при своей высокой должности вы обременили себя ночным визитом ко мне?
И тут случилось нечто очень странное: в тот момент, когда Петр выступил из темноты и появился в дверях, озаренный светом пылающих факелов, предводитель янычар сунул бунчук под мышку и освободившейся рукой схватил себя за нос; то же самое проделали его подручные, простые солдаты без бантика на лбу.
– У тебя халат Его Величества, – проговорил он гнусаво, как говорят, когда заложен нос. – Отдай его мне, я сам отнесу халат Его Величеству обратно, раньше чем ты сотворишь с ним что-нибудь скверное.
– Таков приказ Его Величества? – спросил Петр.
– Это не твое дело, – прогнусавил в ответ предводитель. – Мое звание достаточно высоко, чтобы без лишних церемоний и расспросов я мог поступить так, как приказал: отдай халат султана.
– Не раньше, чем ты объяснишь, отчего вы все держитесь за носы, – сказал Петр.
– Наверное, потому, что здесь воняет. И в самом деле, вонь страшная, как будто кто-то только сейчас вылезиз сточной канавы, – заявил предводитель янычар, и его подчиненные одобрили этот ответ грубым янычарским хохотом, именно таким, каким заливались одичалые солдаты при захвате города, когда кидали в костры живых младенцев, и предводитель хохотал вместе с ними. Но не долго, потому что Петр поднес ему такую понюшку, что у того сразу из обеих ноздрей кровь хлынула струёй.
– Это чтоб у тебя, жук навозный, была настоящая причина держаться за нос, – проговорил он; меж тем как предводитель янычар, отфыркиваясь и захлебываясь собственной кровью, медленно опускался на колени в дорожную пыль. – А с вами что, молодцы? – обратился Петр к солдатам, которые уже не гоготали, а лишь глухо ворчали, отступая под его взглядом. – Желаете, чтоб и вас так погладили? Если нет, так оставьте нас в покое и убирайтесь прочь! Халат я верну Его Величеству собственноручно, как собственноручно его и взял.
– Это тебе дорого обойдется! – злобно прошамкал предводитель янычар разбитыми в кровь губами. – За это ты еще свое получишь, помойная крыса!
Петр меж тем захлопнул двери и задвинул засов.
– Ничего страшного, – сказал он тестю, который, ни жив ни мертв от страха, рвал на себе волосы и сетовал, что из-за безумной нерассудительности Петра теперь уже точно конец всем надеждам и упованиям, только и остается что умереть, потому как янычары такого оскорбления не снесут, вернутся с подкреплением, и его, Хамди, так же как и Лейлу, а главное, Петра – растерзают в клочья.
– Ничего страшного, – повторил Петр в ответ на стенания старца, – всего-навсего неумелая попытка втравить меня в такую заварушку, из которой мне не помог бы выбраться ни перстень Борджа, ни цитаты из Философа насчет сущности и случайности. Потому что если бы я отдал им халат султана, они бы его присвоили, бриллианты поделили между собой и – пиши пропало, а я потом объясняй, – куда подевалось султанское одеянье? А что до того, вернутся ли они еще сегодня с подкреплением – растерзать нас, этого вы, папенька, не опасайтесь, потому что хоть положение мое при дворе, кажется, сильно пошатнулось, я все еще носитель титула «Ученость Его Величества», а в привычках всех великих самодержцев – не спешить с отменой своих решений; они предпочитают всячески изворачиваться и вилять, лишь бы не дать повода для разговоров, будто они не ведают, что творят, и слово их не имеет ни малейшей цены и значения. Из этого ясно, что на сегодняшнюю ночь можно выбросить из головы все заботы и отложить их на завтра.
Сказав так, Петр ушел со своей женой Лейлой в спальню и – по выражению второй, серебристо-седой бабы-бабарихи – усердно там трудился и провел столь добрую работу, что профессиональное заключение первой – белой – бабарихи, будто Лейла еще недавно была девушкой, с каждой секундой окончательно теряло смысл. Наконец Лейла, утомленная и изнемогшая от наслаждения и счастья, с ощущением сладкой и полной расслабленности, когда кажется, будто тела уже нет, ибо каждая частичка молодого существа была удовлетворена и не знала, чего еще желать, – погладила Петра по волосам и прошептала:
– Ах, ты мой сокол.
И он ответил:
– Я не сокол. Но не исключено, что скоро им стану.
Это древнетурецкое выражение означает, как мы помним, «уход в вечность». Но Лейла, представительница молодой генерации и не слишком образованная, как все женщины в тогдашней Турции, не знала этой прекрасной старой идиомы и потому в своем некритическом восхищении Петром, заведомо убежденная, что для него нет ничего невозможного, сказала:
– Конечно, я в этом не сомневаюсь.
СВЯТАЯ ЛОЖЬ ПЕТРА
Назавтра, после первой молитвы, в правительственном здании сераля должно было состояться Высочайшее собрание Совета, и историограф Хамди-эфенди, скромный ученый, отправился туда пешком; молодой зять сопровождал его, чтобы вернуть халат Тому, Для Кого Нет Титула, Равного Его Достоинствам, точнее говоря, он выдумал этот предлог для того, чтобы проникнуть на заседание Совета и защитить себя, а заодно разведать обстановку и заставить замолчать своих недругов, ибо титул «Ученость Его Величества» был до такой степени неопределенным, а его обязанности и права настолько смутны, что даже оставалось неясным, смеет ли он принимать участие в Высоких заседаниях, хотя бы как последний среди чаушей, которым, как известно, позволялось лишь слушать и изредка сопровождать султановы изречения странным возгласом «бак!».
Дойдя до сераля, они убедились, что, судя по всему, совещание уже началось, потому как охранники визирей слонялись без дела по Двору блаженства; от внимания Петра не ускользнуло, что, завидев его и Хамди, они ничуть не присмирели, а, напротив, нахально пяля глаза и подталкивая друг друга локтями, раззявили распухшие губы, а страж главного входа на вопрос Хамди ответил: да, Его Величество будто бы пожелали, чтоб Совет собрался сегодня несколько раньше обычного, поскольку на повестке дня вопросы чрезвычайно важные и многочисленные и решение их не терпит отлагательств.
Это тоже ничего хорошего не предвещало, и ученый историк настолько был сокрушен, что не совладал с собой и, к немалой потехе охранников, томившихся во дворе, схватился за голову, точнее – за овальный край своего тюрбана.
– А мне ничего не сказали! Мне не сказали ничего! – простонал он и взбежал по лестницеиз черного мрамора так проворно, что подол его черного халата обвился вокруг лодыжек сухоньких поспешающих ног.
Петр двинулся за ним следом, но караульщик преградил ему путь:
– А ты куда, приятель? – спросил он. Такое обращение было оскорбительно слышать человеку, который неполных двенадцать часов назад был одарен – по собственным словам султана – самой высокой из почестей, какими Владыка Двух Святых Городов располагает, что уже говорило о многом, однако Петр прекрасно понимал, насколько трудно его положение, чтоб обращать внимание на подобные мелочи. Отогнув угол полотна, в которое был завернут халат султана – Петр нес его, перебросив через руку, – и поиграв на лице стражника блеском драгоценных каменьев, которыми было усыпано царственное одеяние, Петр коротко сказал:
– Я иду вернуть халат Его Величеству, и ты, раб, не смеешь мне чинить препятствия.
Этого оказалось достаточно, стражник отступил, но Петр – черт его дернул! – не удовольствовался частичным успехом и загремел:
– Что ж ты, пес, не падаешь на колени перед халатом Его Величества?
Стражник, оторопев, рухнул на колени.
– Теперь целуй пыль земли, – продолжал Петр, все более возвышая голос.
Стражник поцеловал пыль земли.
– Я еще поговорю с тобой, прислужник, – посулилПетр, уже не спеша и с достоинством поднимаясь по лестнице. Довольно было косого взгляда, чтоб убедиться – охранники на Дворе блаженства уже не ухмыляются скотски-наглой усмешкой, а таращат на него округлившиеся глаза изумленных телят и уже не слоняются по двору, а застыли на месте, словно пораженные нежданным явлением двухвостой кометы. Это были пустяки, абсолютная чепуха в сравнении с теми трудностями, которые – как он понимал – ему предстояло преодолеть, но Петр обрадовался, настроение его улучшилось, прибавилось уверенности в себе.
Однако его подстерегала новая неожиданность. Не освещенная сейчас парадная лестница подводила к сложному переплетению не менее темных коридорчиков и комнатушек, проходов, ступенек и ниш. Миновав четыре Залы Сокровищ, запертых на замок, ибо входить туда имел право лишь сам султан и высокопоставленные лица – все они теперь заседали на совещании, – Петр очутился в лабиринте бессмысленных архитектурных затей и просчетов, плодившихся, нагромождавшихся и видоизменявшихся, надо думать, в течение многих десятилетий, и, не найдя выхода, вскоре безнадежно заблудился. И вот, когда Петр шел, напрягая слух, и вроде бы уже заслышал людские голоса, – внезапно откуда-то справа, со стороны маленькой, строго квадратной комнатки, посредине которой стоял низкий, тоже безупречно квадратный стол, очевидно, византийской работы, ибо на его крышке, изукрашенной потрескавшейся инкрустацией, было выложено бледное и строгое лицо святой царицы Теодоры, обрамленное высоким нимбом, – кто-то потянул за кончик султанова халата, и, отшатнувшись, Петр увидел то, что меньше всего рассчитывал тут увидеть и что менее всего на свете увидеть желал, а именно: кошачий блеск огромных, устремленных на него глаз слабоумного брата султана Мустафы, который сидел на полу под столом, поджав под себя левую ногу и опираясь на вытянутую правую руку.
– Бак! – сказал Петр. – Вы испугали меня, принц.
– Я знал, что ты здесь пройдешь, потому что всякий заплутавший в этом обезьяньем доме избирает этот путь, – сказал Мустафа и протянул Петру небольшой граненый флакон, который держал в правой руке. – Это для тебя.
– Что это? – спросил Петр.
– Вода, – ответил слабоумный принц. – Чистая вода, и больше ничего. У вас ведь крестят водой, а? Ты сам говорил.
– Да, – подтвердил Петр с некоторым сомнением в голосе. – У нас крестят водой.
– Тогда окрести меня, – попросил Мустафа. Петр был так удивлен, что не смог выговорить даже чего-нибудь вроде «это вы серьезно, шахзаде?», и, держа флакон в руке, уставился на принца неподвижным взглядом, не зная, что и думать.
– Ну как, окрестишь или нет? – нетерпеливо проговорил Мустафа, выползая из-под стола на тощей заднице. – Окрести!
– Наверное, это несерьезно, принц? – усомнился Петр.
– Это очень серьезно, – ответил Мустафа. – Я ведь вовсе не сумасшедший, ты это понял?
– Конечно, не сумасшедший, принц, – учтиво ответил Петр, как ответил бы любому другому безумцу, который, разумеется, не считает себя больным.
– Я только прикидываюсь безумцем, ведь если бы я не притворялся, брату не оставалось бы ничего другого, как повелеть меня казнить, и даже если бы он сам не хотел меня убить, Черногорец заставил бы его это сделать.
– Какой еще Черногорец? – удивилсяПетр.
– Ну, Черногорец, мы все его так зовем, предводитель янычар, Исмаил-ага. Вчера, когда братец облачил тебя в свой халат, по сералю разнеслось, что в нашей империи объявился новый правитель, а именно – ты, я сказал себе: пустозвонство, ведь настоящий правитель у нас в империи – Черногорец, а он не любит, чтоб кто-нибудь совал нос в его дела, и не потерпит конкурента.
– Я полагал, что самая могущественная личность в империи – султан, – сказал Петр.
– В зависимости от того, какой султан, насколько крепка у него рука, – сказал принц. – Конечно, о Мехмеде Завоевателе можно сказать, что он был самым могущественным человеком в государстве. Но не всякий султан – Мехмед Завоеватель. Наша история помнит и таких султанов, выше которых на голову был, скажем, Великий визирь, он-то и брал всю власть в свои руки. О нынешнем Великом визире этого не скажешь – вонючий старикашка, дрожит от страха, как бы брат не помер, – ведь после кончины султана Великого визиря, согласно обычаю, казнят. И поскольку мой братец – добряк и слабак, а Великий визирь – ничтожество, то властью, как ты сам понимаешь, Абдулла, подлинной властью обладают янычары, а Черногорец у них главный, и этим все сказано.
– В могущественной турецкой империи власть в руках янычар? Но янычары – не турки, – заметил Петр. – В странном мире вы живете, принц.
– Он, наш мир, мне опротивел, – сказал принц, – и поэтому я хочу принять крещение. Вчера, когда султан тебя так возвысил, ты еще небось до дома не дошел, а тут уже все было решено – и не в твою пользу. Черногорец заявил братцу, что не ручается за своих людей, если раб, только-только извлеченный из зловонной ямы, то есть ты, станет личным советником Его Величества, и этого было довольно: братец признал, что янычары для него важнее, чем твой разум и правдолюбие. Мне жаль тебя, потому что ты сразу мне приглянулся и у меня сложилось впечатление, что нам вместе предстоит еще кое-что сотворить на этом свете.
– У меня возникло такое же ощущение, принц, – со вздохом проговорил Петр.
– Но ничего не попишешь, кол тебе уже уготован, – сказал Мустафа. – А предлог, если захочется, всегда легко найти. Черногорец вчера посылал к тебе своих людей изъять братнин халат, однако ты был настолько умен, что не отдал его; да это не важно, они придумают что-нибудь еще. Так что поторопись, окрести меня.
– Даже если бы я хотел удовлетворить вашу странную прихоть, принц, я не могу этого сделать, ведь я не священник, – сказал Петр.
– Но ты христианин, – сказал Мустафа.
– Вчера, – возразил Петр, – я твердо и, надеюсь, убедительно объяснил Его Величеству, что я не христианин, поскольку себяим не чувствую, а с христианским учением не согласен, и вы, принц, присутствовали при этом.
– Именно это и сделало христианство притягательным в моих глазах, – сказал Мустафа. – Ты христианин, поскольку крещен, и все же позволяешь себе вслух заявить: я не чувствую себя христианином, поскольку с христианским вероучением не согласен. Я слушал, как ты говорил, и в душе ликовал: вот то, что нужно, сказал я себе, это для меня самая правильная религия. Ты не боишься ада?
– Не боюсь, потому что в него не верю, – ответил Петр.
– Вот видишь, а я боюсь, потому что я мусульманин, – сказал принц. – Но вот когда я перестану быть мусульманином и обращусь к религии, которая позволяет человеку сомневаться в существовании ада, тогда и я не буду бояться. Как там у вас в Европе скликают на молитву? У вас есть муэззины?
– Нет, – сказал Петр. – Но у нас есть колокола, их звон слышен намного дальше, чем пенье муэззинов.
Принц огорчился.
– Странно и неприятно. А когда начинают звонить, все становятся на колени и молятся?
– Ничего подобного.
– Даже в Риме, где живет ваш папа?
Петр улыбнулся.
– По-моему, если бы на римской улице кто-нибудь вдруг грохнулся на колени и стал молиться, это вызвало бы всеобщее любопытство.
– Зачем же тогда у вас звонят?
– Собственно, цель колокольного звона, – сказал Петр, – созывать людей в костел.
– И каждый обязан туда идти, как только начинают звонить?
– Зачем же, – сказал Петр, – Посещение костела – дело, я бы сказал, добровольное. Хочешь – иди, не хочешь – сиди дома.
Принц Мустафа захлопал в ладоши, захлебываясь от восторга.
– Вот это вера, вот это мне по душе! – воскликнул он, и на его маленьком бледном личике вспыхнул яркий румянец. – Хочешь – иди, хочешь – сиди дома. А кому захочется, тот может сказать, как ты: оставьте меня в покое, я не верю ни в ад, ни в рай, и даже в Бога не верю. А наши должны все вместе повторять изречения из Корана, читать Коран и даже, когда справляют малую нужду, должны следить, как бы не капнуть на себя, ведь это значит – совершить смертельный грех и не попасть на небеса, так что мусульманство преследует нас даже в отхожем месте. Абдулла, окрести меня.
– Но отчего вы настаиваете на этом, принц, отчего? – почти в отчаянье воскликнул Петр. – Если вы не чувствуете себя правоверным мусульманином, то почему хотите стать христианином? Почему не атеистом?
– Что это такое – атеист?
– Ну, это, к примеру, я, – сказал Петр.
– Но ты христианин, – торжественно произнес принц. – Так скорее, скорее окрести меня.
– Я уже сказал вам, что я не священник.
Принц прищурил левый глаз, и лицу его сообщилось выражение пронырливого всезнайства и озорства.
– Не думай, что я совершенно ничего не знаю о вашей вере, – сказал он. – Наш капудан-и дерья, Главный адмирал Мехмед Али-паша, перед тем как перейти в нашу веру, был христианином, а дефтердар-эфенди, Хранитель сокровищ Абеддин – иудеем, и если даже он чего-то не знает о христианстве, значит – того и вообще не стоит знать. Я их обо всем расспрашивал, потому что мысль сделаться тайным христианином родилась у меня в голове вовсе не на пустом месте и никак не в тот момент, когда ты стоял перед братцем и распускал павлиний хвост. Ты только утвердил меня в том, что мое намерение правильное, но думать об этом я начал уже давно, много раньше, с той поры, когда узнал невероятное, а именно то, что ваши женщины ходят голышом.