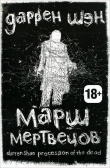Текст книги "Перстень Борджа"
Автор книги: Владимир Нефф
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
– Знаю, – сказал Петр. – Это мерзавец Марио Пакионе; папа наложил арест на наследство, оставленное ему дядей. И он убеждал меня, а я ему поверил, будто папа готов снять свой запрет при условии, если ему удастся склонить меня к освобождению из тюрьмы графа О** и его посольства. Теперь я вижу, что условие, которое отец христианства поставил перед ним, несколько иное: Пакионе обязан положить к ногам папы мою отрезанную голову.
– Мне нечего возразить тебе, – сказал отец Жозеф. – Но если это действительно так, как ты не без основания предполагаешь, то разве можно ручаться, мой несчастный Пьер, что упомянутый разбойник, у которого все поставлено на карту, не повторит своей попытки? Так вот, Пьер, оставь мне в качестве подаяния золотой или два, чтоб я мог расплатиться за постель и обильную еду, а сам, не теряя ни минуты, садись на коня и спеши, спеши туда, где тебя никто не станет искать, в Швейцарию или Италию, а оттуда морем – прямо в Турцию; ничего не стесняйся и беги, потому что на этот раз на подмену рассчитывать уже не приходится и теперь уже только ты будешь мишенью для стрел, пущенных из-за кустов. Я убежден, что тот негодяй, лицо которого на долю секунды мелькнуло в Оранже, рыщет сейчас где-нибудь поблизости от «Яблока Гесперид» и уже сколотил новую шайку головорезов – ее найти тем легче, что за твое убийство им не грозит виселица. Я долго отсутствовал, поэтому не знаю, о чем чирикают воробьи на крыше Лувра, но я слишком хорошо разбираюсь в тамошних делах, чтобы ошибиться, предположив, что твой недруг уже получил всемилостивейшее позволение отправить тебя на тот свет.
– Скажи мне, отче, правда ли, что лжекардинал Гамбарини сейчас духовник королевы-регентши и имеет серьезное влияние на ее политические действия и решения? – спросил Петр.
– Прежде всего Гамбарини не лжекардинал, а настоящий кардинал, – сказал отец Жозеф. – Правда и то, что королева, женщина нерешительная и не имеющая целостной политической концепции, всегда предпочитала искать советников среди своих земляков.
– Иными словами – все это правда, – сказал Петр. – Значит, мои сведения правильны, и это достаточное основание для того, чтобы, несмотря на ваши предостережения, несомненно добрые по намерению, я выполнил свою миссию до конца. Таких опасностей и таких ловушек, от которых вы меня предостерегаете, я видел за свою жизнь немало, и всякий раз мне удавалось унести шкуру более или менее в целости и сохранности, но даже если бы на сей раз мне не удалось выкрутиться – что ж, значит, не судьба, и тогда уж лучше лишиться головы, нежели собственного лица, которое я утратил бы, если бы принял близко к сердцу ваши слова и трусливо бежал из Франции. Увы, задача моя осложнена тем, что Гамбарини, конечно, знает о том, что я иду по его душу, и предпримет все меры предосторожности, чтоб сорвать мой замысел – взять его за горло и вышибить из него дух, как еще недавно я поступал с крысами в подземелье султанова сераля. Каким образом я этого добьюсь – не имею понятия. Знаю только, что я это сделаю.
– Горе тебе, – сказал отец Жозеф.
– Если бы ты знал меня лучше, ты сказал бы: горе Гамбарини, – ответил Петр.
– Горе тебе, – повторил отец Жозеф. – Ты упрощенно и неверно понимаешь свое положение.Не сознаешь, что находишься меж двух огней: с одной стороны – Пакионе со своими наемниками, с другой – кардинал Гамбарини, в распоряжении которого против тебя вся государственная мощь. По-человечески невозможно избежать этих двух гибельных, друг с другом не связанных обстоятельств, если не отступиться от своих намерений. Так что сейчас речь идет не о бегстве, сейчас речь уже только о том, кто из твоих неприятелей погубит тебя раньше – известный нам Пакионе или Его Преосвященство кардинал. Соберись с мыслями, Пьер, и рассуди сам: ворота еще не заперты, их запрут только через час. Это последний час, когда твоя жизнь имеет еще ту или иную цену, последний час твоей последней надежды. Воспользуйся им.
– Хорошо, я воспользуюсь им, чтоб поспать чуть подольше, потому что завтра я намерен двинуться дальше и так же рано, как и сегодня, – проговорил Петр и поднялся.
– В Париж? – спросил патер Жозеф.
– Да, в Париж, – сказал Петр.
Потом он положил на карниз камина несколько золотых монет, как о том просил отец Жозеф, пожелал ему спокойной ночи и удалился в свою комнату, которая помещалась в том же коридоре, что и комната отца Жозефа.
Оставшись один, святой муж, охваченный легкой лихорадкой, задремал, но вскоре был вдруг разбужен стуком в дверь. В комнату вошел хозяин гостиницы, явно раздосадованный и очень смущенный, а с ним, с саблей наголо, стражник из городской охраны. Увидев монашескую сутану, висевшую на спинке стула, стражник издал глухой, но явно победный звук, схватил сутану и, подняв ее в вытянутой левой руке, спросил отца Жозефа:
– Что это такое?
– Сутана святого ордена, к которому я принадлежу, – сказал отец Жозеф.
– А почему тут голубой шнур? – продолжал допрос стражник.
– Понятия не имею, – ответил отец Жозеф. Меж тем в комнату ворвались еще два стражника, и хозяин, извиняясь, объяснил отцу Жозефу, что в городе получено официальное известие, что из chateau d'If бежал опасный преступник и будто бы бродит теперь по провинции Дофинэ, переодевшись капуцином, с голубым шнуром вместо пояса. На вопрос официальных властей, не поселился ли в его заведении человек, отвечающий этому описанию, он, владелец гостиницы, как верноподданный гражданин своего королевства, не мог умолчать, что некто похожий у него и в самом деле поселился; пусть, однако, святой отец предъявит свои бумаги, и все образуется.
– За надлежащее исполнение обязанностей гражданина Франции, нашей славной страны, никто не должен извиняться, – сказал отец Жозеф. – И если кто заслуживает сейчас наказания, так это я, допустивший такую небрежность, до некоторой степени извинительную моим ранением: я ведь до сих пор не избавился от дьявольского голубого шнура, которым осквернил святую одежду. Что до моих бумаг, сын мой, то сунь руку мне под подушку и достань то, что там спрятано.
Хозяин протянул руку к изголовью отца Жозефа и вынул из-под подушки непромокаемый кисет из бычьего пузыря, перевязанный розовой ленточкой. Главный стражник вырвал кисет из рук хозяина с подозрительной гримасой человека, не привыкшего иметь дело с документами и подобной бумажной ерундой, и принялся разматывать ленточку толстыми неуклюжими пальцами; но уже первая бумага, которую он извлек из кисета, произвела действие: на его усатом лице появилось растерянное выражение, ибо это было письмо, удостоверенное личной печатью папы, на которой был изображен рыбарь в облике святого Петра.
– Я забыл взять очки, – пробормотал он, протягивая письмо хозяину гостиницы. – Что это такое?
Хозяин вынужден был сначала откашляться и облизать губы, прежде чем набрался духу ответить:
– Письмо, адресованное Ее Величеству королеве Франции.
– Там есть еще послание папскому нунцию в Париже, – сказал капуцин. – Но это не представляет для вас интереса, главное здесь – мое дорожное предписание, заверенное членом государственного совета и министром военных и иностранных дел Его Милостью епископом де Ришелье. Вам достаточно?
– Простите, преподобный отец, простите, я и впрямь понятия не имел, какой редкий гость вошел через ворота нашего города, – проговорил, чуть ли не переломившись пополам, главный стражник.
– Кроме того, что я уже сказал нашему храброму хозяину, ничего больше не могу добавить, сын мой, – промолвил отец Жозеф. – Француз не должен извиняться за усердное исполнение своих гражданских обязанностей, ибо это обязанности святые. А теперь напрягите ваш слух и запомните то, что я скажу вам обоим. За правдивость моих слов я, отец Жозеф, ручаюсь честью и спасением своей бессмертной души. Преступник, которого вы разыскиваете, мнимый беглец из chateau d'If, носит уже не монашескую сутану с голубым шнуром, а дворянский дорожный костюм испанского покроя из темно-фиолетового сукна и поселился он в этой же гостинице.
– Ох, страсти Господни! – запричитал хозяин. – Тот самый молодой человек, который вас, досточтимый отец, привез на своем коне?
Отец Жозеф кивнул и спросил:
– Где он теперь? Надеюсь, у себя в комнате?
– Да, достопочтенный отец, он точно в своей комнате и, по-моему, ужинает, – подтвердил хозяин. – Он заказал себе такой ужин, словно у него неделю во рту крошки не было, – печеночный паштет, огурчики, колбасу, телячью ногу, овощи и две бутылки кларета.
– Оставьте его, пусть насытится, ему это более чем необходимо, а вы меж тем приведите подмогу, – добавил после минутного размышления отец Жозеф. – Действуйте осмотрительно, потому что вы и представить себе не можете, насколько этот юнец опасен. Возьмите его живым, ибо это очень ценная добыча. Под окном поставьте стражу, чтоб он не убежал, пока вы будете взламывать двери. Сколько бы вам ни пришлось от него пострадать, на нем самом не должно быть ни царапинки. За это вы мне отвечаете головой. Ворота уже заперты?
Главный стражник подтвердил.
– Если же он от вас ускользнет и скроется, чего я не исключаю, – продолжал отец Жозеф, – тут же прикажите объявить по городу тревогу и предупредите жителей, что всякого, кто предоставит ему укрытие, ждет казнь. Если же господа чиновники в ратуше испугаются этой суровой меры предосторожности, то напомните им, что так распорядился я, отец Жозеф, заместитель министра военных и иностранных дел епископа де Ришелье. Но будем надеяться, что это не понадобится и дело обойдется без осложнений. А когда юноша окажется за надежными решетками, тут же отправьте гонца в Париж, в канцелярию Ее Величества, чтобы передать вот это письмо Его Святейшества, адресованное Ее Величеству королеве-регентше, а также сообщить, что здесь произошло; имя и фамилия арестованного, как написано в письме, – Пьер Кукан де Кукан. Пометьте себе это. Моего имени под этим сообщением не ставить. С арестантом обращайтесь учтиво, никакой жестокости, ни побоев, ни оков, ни подземелья, но зато тем более осмотрительно. Запомните и зарубите себе на носу – он один способен расправиться с несколькими здоровяками, вроде вас. А теперь, благословясь, ступайте исполнять свой долг. Он в высшей степени почетен.
Получив такие указания, стражники и хозяин гостиницы удалились, а отец Жозеф, по своему обыкновению, начал негромко и мелодично мурлыкать. Песенка его на сей раз не касалась ни вселенной, которую он хотел бы покорить, ни крови, в коей он желал бы утопиться, он пел о жаворонке, и первая строфа песенки звучала так:
На тысячи ладов, средь синевы небесной,
Пичужка, Божья тварь, сваи заводит песни.
Вскоре он уснул, а когда в его покойный сон святого и храбреца вторглись звуки недалекой битвы, звон оружия и крики, то не пробудился, ибо спал так крепко, что даже этот назойливый шум нашел себе место в его сновидениях. Он проснулся, когда уже рассвело, с удовлетворением выслушал от хозяина гостиницы, все еще не пришедшего в себя после бурных событий, сообщение о том, что вышеупомянутый Пьер Кукан де Кукан, несмотря на бешеное сопротивление, вчера вечером арестован по всем правилам и живым и здоровым доставлен в здание ратуши, в городскую тюрьму.
СТРАШНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ В «КРАСНОЙ ХАРЧЕВНЕ»
Тринадцать дней спустя, после двух часов пополудни, в город Баланс прискакал отряд мушкетеров, парней рослых, как сосна, рукастых и ногастых, блестящих острословов, наделенных легкостью движений, которая свидетельствует о физической силе и здоровье, самоуверенных и, само собой, бесконечно гордых своим одеяньем, которое они умели носить с небрежным изяществом и которое им очень шло. Командовалимикапитан, вероятно, лет на десять старше своих молодых подчиненных, высокий, усатый, с лицом до черноты иссеченным ветром и испещренным следами солдатской жизни, исполненной страданий и мытарств. В сопровождении эскорта он направился прямо в ратушу, где вручил дежурному чиновнику верительную грамоту, выданную канцелярией королевского дворца, скрепленную королевской печатью, подписанную собственной рукой Ее Величества королевы-регентши и удостоверявшую приказ о доставке узника, известного под именем Пьер Кукан де Кукан, в государственную тюрьму в Париже.
– Де Тревиль, – представился он со всей учтивостью, когда Петра вывели из карцера. – Мсье де Кукан, судя по вашему имени и внешнему виду, я полагаю, вы – дворянин, и прошу вас – в ваших собственных интересах – дать честное слово, что не окажете сопротивления эскорту и не предпримете попытки бежать.
Тринадцать дней пребывания за решеткой охладили ярость Петра, вспыхнувшую при аресте, однако – при том, что по требованию отца Жозефа в тюрьме с ним обращались вежливо и даже каждый день присылали брадобрея – это не улучшило его настроения. Бледный, безразличный, пренебрежительный, он в ответ на учтивое обращение капитана де Тревиля произнес:
– Это зависит от того, куда вы меня поведете, капитан.
– В Париж, в Бастилию, черт побери! – воскликнул де Тревиль.
Петр удивленно изогнул свои красивые брови.
– То есть – из тюрьмы в тюрьму?
– Да, именно так, – подтвердил де Тревиль. – Впрочем, быть узником Бастилии отнюдь не позор, но честь, поскольку за два с половиной столетия существования крепость повидала в своих стенах неисчислимое множество достойнейших особ, включая принцев королевской крови.
– Тем не менее я на таком гостеприимстве не настаиваю и свой арест считаю незаконным и необоснованным, потому что ни на земле Франции, ни где-либо еще я ничего противозаконного не совершал, и если я все же лелею в мыслях нечто, противоречащее сухой букве закона, то это, пока замысел не стал поступком, мое сугубо личное дело. Я протестую против насилия, которое по отношению ко мне совершено и к которому вы своим участием присоединяетесь, а потому заявляю, что удеру при первой же представившейся возможности.
Это заявление произвело на мушкетеров весьма приятное впечатление.
– Для иностранца, который говорит по-французски так же хорошо, как и по-итальянски, вы воистину gentilhomme, человек чести, каким он и должен быть, – сказал капитан де Тревиль. – Но как бы там ни было, в нынешних обстоятельствах мы вынуждены…
Покручивая ус, он немного подумал, преждечем добавить:
– …следить за вами с должным тщанием.
– Благодарю за мягкость и снисходительность этой меры.
– Не смейтесь, сударь, – сказал де Тревиль. – Когда королевский мушкетер заявляет, что вынужден следить за кем-нибудь с должным тщанием – это не означает ни мягкости, ни снисходительности. Извольте взглянуть.
Он вынул пистолет, подбросил в воздух медяшку и выстрелил. Монетка, настигнутая пулей, не упала на землю, но отлетела в сторону и впилась в кору старого платана, росшего посредине двора ратуши.
– Неплохо, – сказал Петр.
Капитан де Тревиль кивнул своим кадетам. Мушкетеры – их было девять – с пистолетами в руках построились в ряд.
– Можно мне выстрелить не в монетку, а в медную пуговицу? – спросил один из них. Капитан де Тревиль удивился.
– Это почему?
– Потому что у меня нет ни одной монетки, – сказал кадет, в ухмылке растягивая рот от уха до уха. Юноша был высокий и широкоплечий, но с лицом нежным, как у девушки, и прекрасными незабудковыми глазами.
– Так пусть вам кто-нибудь одолжит, – сказал капитан.
– Боюсь, мой кредит у приятелей уже исчерпан, – сказал кадет.
Капитан, нахмурившись, протянул кадету медяк.
– На сегодняшний вечер я заказал в «Красной харчевне» во Вьенне баранью отбивную, в целой Франции не подают ничего лучше, – заметил капитан. – Если вы, Арман, промахнетесь, вам придется положить зубы на полку. Итак, господа, вперед!
Кадеты подбросили медяки, и залп сразу из девяти пистолетов разразился как гром. Из девяти монеток на землю, не настигнутая пулей, упала только одна.
– Жан-Поль, Жан-Поль, от кого другого, но от вас такого сраму на свою голову я не ожидал, – скорбно произнес капитан де Тревиль.
– Вы ведь знаете, mon capitaine, что у меня ушиблена правая рука, – отозвался Жан-Поль, молодой человек с упрямым выражением лица и выступающим вперед подбородком.
– Нечего было ее ушибать, а если уж ушибли правую, стреляли бы левой, – сказал де Тревиль и обратился к Петру: – Что вы, сударь, скажете теперь?
– Тоже неплохо, – отозвался Петр.
– Сдается, большого впечатления это на вас не произвело, – сказал де Тревиль.
Петру послышался вдруг хорошо знакомый ему шепоток Искусителя, подбивавшего совершить невозможное, и он ответил:
– Увы, но это правда – большого впечатления это на меня не произвело. Когда я хочу показать свое искусство, я стреляю в две монеты сразу.
– Это невозможно, – сказал де Тревиль.
– Вы ничем не рискуете, утверждая, что это невозможно; ведь я, безоружный заключенный, не могу вас опровергнуть.
Де Тревиль поколебался и, подергав себя за бородку, произнес, вынув из кармана две монетки:
– Господа, подайте ему два пистолета, пусть покажет, на что он способен. Собственно, если смотреть в корень, то тут нет нарушения правил, поскольку о том, что командир эскорта не смеет доверить эскортируемому заряженное огнестрельное оружие, в служебных предписаниях ничего не сказано, очевидно, их составителям такая несообразность даже в голову не пришла.
Петр выбрал себе два пистолета, которые кадеты в восторге от предстоящей забавы поспешили передать друг через друга прямо ему под нос, сжал их правой рукой, а левой подбросил обе денежки как можно выше. Еще когда они летели вверх, Петр, перебросив один из пистолетов в левую руку, выстрелил из обоих одновременно – и монетки, резко изменив свой путь, расплющились о стену ратуши. И кадеты на глазах у изумленных писарей и служителей ратуши, которые, заслышав пальбу, приникли к окнам, кинулись к Петру и с восторженным воплем «браво!» вскинули его на плечи и принялись вышагивать по двору, распевая мушкетерскую песню, самую хвастливую из всех, которые когда-либо были сложены:
D'un pied je fais trembler la terre,
Et pour me rendre egal aiix dieux,
Je veux escalader les deux,
Pour у produire mon tonnerre.
А это означало приблизительно вот что:
Мой шаг бросает землю в дрожь,
И чтобы встать с богами вровень,
Мне влезть на небо невтерпеж,
Чтоб сверху разразиться в громе.
Потом капитан де Тревиль отобрал у Петра все движимое имущество, среди прочего и его пояс, набитый золотыми, и когда слуга привел из конюшни запряженную лошадь Петра, все вскочили в седла.
– Вперед во Вьенн, и да пусть не пережарится наша баранья отбивная в «Красной харчевне», – сказал капитан.
И они двинулись в путь. Когда они миновали ворота города Баланс и направились на север, вверх по узкой каменистой тропе, извивавшейся между рекой и откосами, где росли сосны и дубы, капитан де Тревиль спросил Петра, ехавшего от него по правую руку:
– А вы играете в пике, сударь?
– В свое время, когда случалось участвовать в этой хитроумной игре, меня считали сносным партнером.
Капитан де Тревиль выпрямился.
– Вы всерьез называете эту игру хитроумной или в насмешку?
– Пожалуй, всерьез, – сказал Петр. – Это игра не столь изощренная, как шахматы, но все-таки требует смекалки.
– Тогда хорошо, – сказал капитан де Тревиль. – Я надеюсь, что, пока мы доберемся до Парижа, мы успеем сгонять не одну партию; денег, как я сужупо толщине вашего пояса, у вас достаточно.
– Я твердо надеюсь, что партий мы сгоняем немного, – возразил Петр, – потому что, как вы уже слышали, я сбегу от вас раньше, чем вы думаете.
– С вашей стороны, господин де Кукан, неблагородно использовать во зло то, что мы обращаемся с вами не как с вульгарным преступником. Обратите внимание, я ведь даже не приказал надеть на вас наручники.
– Ну так обращайтесь со мной, как с вульгарным преступником, – сказал Петр. – Велите надеть на меня наручники, а я все равно сбегу.
– Quel homme! Quel hommet Какой человек! Какой человек! – восхищенно бросил безусый кадет с детским румянцем во всю щеку, ехавший справа от Петра. – Какая жалость, что он не француз.
– Оставьте свои замечания при себе, Гастон, – сказал де Тревиль. – А почему, тысяча чертей, вы хотите от нас сбежать? Ведь мы же вам объяснили, что заключение в Бастилию не означает ущерба для чести. Особенно если это делается по личному приказу Ее Величества. Или вы хотите нанести мне оскорбление, не доверяя моим словам? Этого, сударь, я никак не советовал бывам делать.
– Честь честью, господин де Тревиль, – сказал Петр, – но я не из тех, кто безропотно дает вести себя на смерть.
– А вы считаете, что мы ведем вас на смерть?
– Я не считаю, я знаю, – сказал Петр. – Я приехал во Францию с намерением убить одного высокопоставленного негодяя; увы, он прознал о моем намерении и теперь, когда я в его руках, поступит со мной так же, как я хотел поступить с ним.
– Это справедливо, – заметил де Тревиль. Теперь пришла очередь Петра возмущенно распрямиться.
– Справедливо?! – воскликнул он.
– Конечно, – подтвердил де Тревиль. – Когда я вызываю кого-либо драться, то в поединке либо я убью его, либо он меня, и это правильно.
– Но я не вызываю этого негодяя на поединок, – сказал Петр.
– В переносном смысле – вызываете, – сказал капитан де Тревиль. – Бывают поединки на большом расстоянии, и то, о чем говорите вы, смахивает на один из них.. Какое бы ни было расстояние – большое или нет, конец всегда одинаков.
– Вы правы, – согласился Петр. – С той только оговоркой, что мой противник, к которому вы меня ведете на смерть, преступник особо опасный, и как только он перестанет меня бояться – а я, наверное, единственный в мире человек, кого он боится, – то без помех продолжит дело, которое с успехом начал, и не остановится, пока не ввергнет в беду Францию, а вместе с Францией – и все европейские народы.
– Все европейские народы? – удивился капитан де Тревиль. – Сударь, мы, солдаты по призванию, привыкли преувеличивать, но ваше утверждение представляется мне преувеличением сверх всякой меры.
– Я не уступлю из своих слов ни буквы, – сказал Петр, – более того, добавлю, что вы, господа, этому злодею помогаете.
Кадеты все как один бурно запротестовали, а капитан де Тревиль, побагровев, словно его вот-вот хватит удар, обнажил было свою шпагу, но тут же всунул ее обратно в ножны.
– Сударь, – проговорил он, безуспешно пытаясь овладеть собой, – вы правы, говоря, что идете навстречу своей гибели, потому что, даже если вы чудом ускользнете из рук своего недруга, который, как вы твердите, намерен вас убить, то во мне, капитане де Тревиле, вы найдете врага во сто крат более непримиримого, который воспользуется первым мигом вашей свободы, чтобы проткнуть вас насквозь и вырвать у вас из уст ваш невоздержанный язык. То обстоятельство, что я не могу разделаться с вами прямо сейчас, причиняет мне самые нестерпимые муки, какие мне в жизни доводилось терпеть. Наверняка ни я, ни мои молодцы никогда еще не сносили оскорбления столь грубого и несправедливого. Вы что, сошли с ума? И как только вам, разумному человеку, пришло в голову заявить, что мы, королевские мушкетеры, помогаем какому-то преступнику, который хочет ввергнуть нашу родину в беду? Разве вам не известно, что мы служим лишь Ее Величеству королеве Франции, и только ей одной?
– Поздравляю вас с чувством чистой совести, – сказал Петр. – Вы служите лишь Ее Величеству королеве Франции, и только ей одной, – как трогательно, просто и благородно это звучит! И этого вполне достаточно, чтобы быть довольным собой! Вы служите королеве Франции – и баста! Вы – люди чести, и прикажи вам королева Франции разорить Париж, вы это сделаете, потому что служба есть служба и не ваше дело, например, задумываться над тем, как вышло, что среди первых личных советников королевы, направляющих ее политику, нет ни одного француза, или, скажем, над тем, полезны или вредны те решения и действия, на которые эти негодяи толкают королеву.
– Поистине забавно и любопытно слышать, как вы, чужеземец, возмущаетесь тем, что среди советников Ее Величества нет французов, – сказал де Тревиль.
– Да, я этим возмущен, больше того: в отличие от вас я настолько этим обеспокоен, что не могу спокойно спать. – ответил Петр. – Правда, сам я не француз, но европеец и, как таковой, не могу быть безразличным к тому, что происходит в стране, столь великой и столь влиятельной, как державная Франция. Так вот, господа мушкетеры, поскольку речь идет о вашей чистой совести, об этом вашем мужественном и трогательном «Мы служим Ее Величеству королеве Франции», то выслушайте вот что: вы действительно препровождаете меня в Бастилию по приказу Ее Величества. А знаете, почему Ее Величество издала такой приказ? По желанию своего фаворита кардинала Гамбарини. Кардинал Гамбарини и есть тот преступник, за которым Я отправился сюда, во Францию, чтобы вытряхнуть из него душу.
– Quel homme! Quel homme! Mon Dieu, quel homme! – снова зашептал краснощекий безбородый кадет, ехавший справа от Петра. Капитан де Тревиль использовал этот повод, чтоб излить свой гнев.
– Гастон! – рявкнул он. – Еще одно слово восхищения нашим пленным, и в Париже вы на месяц сядете под домашний арест!
И снова, обратясь к Петру, с уничижительным высокомерием продолжил:
– Господин де Кукан, вы оказываете нам великую честь, проявляя столь великую озабоченность судьбами нашей родины. Право, я не понимаю, каким образом такая жалкая, такая незаметная, такая убогая страна удостоилась внимания столь великого и благородного мужа, как вы.
– Если оставить в стороне иронию, господин капитан, – сказал Петр, – Франция не такая уж жалкая, неприметная и убогая страна, чтоб заслуживать быть ввергнутой в катастрофу таким хорьком, как кардинал Гамбарини.
– Ладно, шутки в сторону, поговорим о деле, – сказал де Тревиль. – Ваши сокрушительные аргументы, сударь, основаны на недобросовестных сведениях. И если мы отваживаемся говорить о том, что Ее Величество королева, возможно, и выслушивает советы кое-кого из своих земляков, то решающее влияние на нее имеет никак не ее духовник Гамбарини, но синьор Кончини. Наверное, вам не известно, кто такой Кончини, а раз так, то кончим этот разговор. Тот, кто путает Кончини с Гамбарини, не имеет права судить о современной политической жизни Франции, поскольку не знает о ней ровно ничего.
– Но я вовсе не путаю Кончини с Гамбарини, – сказал Петр. – Зато от вас, сударь, ускользнула та немаловажная подробность, что вышеупомянутый Кончини уже без малого два года как играет не первую, но вторую скрипку, поскольку первую перехватил Гамбарини. Это тем хуже и тем опаснее, что люди до сих пор мало о нем знают и ненависть французского народа все еще обращена на его устраненного предшественника.
– Действительно, мне это неизвестно, – признал де Тревиль.
– Мсье де Кукан прав, – сказал Арман, кадет, сидевший по уши в долгах, который собирался было стрелять в пуговицу, поскольку в его карманах не нашлось ни одного медяка. – Как вам известно, епископ Ришелье приходится мне неродным дядей, и он иногда жалуется моему отцу, что весь его упорный труд, который он приложил, чтоб убрать со сцены Кончини, пошел насмарку, ибо освободившееся место захватил Гамбарини.
Капитан де Тревиль хмуро произнес:
– Могу себе представить, как обрадовался бы Его Милость епископ, если бы узнал, что вы, Арман, во всю глотку трубите о том, чем он поделился с вашим отцом, без сомнения, строго конфиденциально…
Некоторое время он ехал молча, а потом промолвил, обращаясь к Петру:
– Ваши сведения весьма разносторонни, господин де Кукан, но поскольку вы иностранец, то выводы, которые вы из них делаете, неизбежно ошибочны. Мы, французы, глубоко сознаем величие своей родины и неколебимо верим в него; и это живое ощущение величия родины идет рука об руку с чувством любви и верности, которые каждый француз испытывает к своим правителям, а это чувство любви и послушания проистекает из нашей гордой веры в чудодейственную силу реймского святого елея, содержащего масло, через помазание которым французские короли делаются наместниками Иисуса Христа во Французском королевстве.
Петру это показалось занятным.
– Только во Французском королевстве?
– Да, только во Французском королевстве. И разумеется, во французских колониях, например, в Канаде, – добавил де Тревиль. – Франция может позволить себе роскошь иметь время от времени плохих или просто никудышных королей. Таких неудачных властителей мы не осуждаем, но окружаем их такой же любовью, что и хороших королей, справедливых и добрых, ибо какие бы они ни были, они французские короли, и ничего больше мы не желаем о них знать. Не наше дело – раздавать властителям ярлыки, верно служа лишь тем, кого мы отнесли к выдающимся, и отказываясь служить тем, кто нам не понравится, скажем, формой своего носа; это означало бы конец порядка и начало распада и гибели Франции, а тем самым – как вы верно заключаете – и всего мира.
– Я бы сказал, негодным властителям вы служите даже вернее, чем тем, кого относите к выдающимся, потому что одного из лучших королей, которого даровала вам судьба, Генриха Четвертого, вы убили, – заметил Петр.
– Я прощаю вам это высказывание только из-за плохого знания французского языка, – сказал капитан де Тревиль. – Как это – мы его убили?! Я, что ли, его убил? Или Арман? Или Гастон?
– Его убил француз, – сказал Петр, – а всякий француз, как вы говорите, верит в чудодейственную мощь реймского святого елея.
– Убийца ни во что подобное не верил, потому что был сумасшедший, – сказал де Тревиль. – Ибо француз, убивающий своего короля, не может быть в здравом уме. – Осознав слабость этого аргумента, капитан поспешно добавил: – Кстати, когда четверкой коней его разрывали на части, он, говорят, громко смеялся, что случается только с безумцами. А смерть от руки безумца – это то же, что смерть от клыков бешеного пса; так что король Генрих Четвертый – жертва не убийства, но несчастного случая. Ваши упреки, господин де Кукан, что мы якобы служим не Ее Величеству королеве-регентше, а ее итальянским фаворитам, просто-напросто неуместны. Как я уже сказал – не наше дело укорять свою королеву, наше дело – служить ей и исполнять ее приказы. И даже если порой нам кажется, что Ее Величество королева-регентша не всегда на высоте в решении великих задач, которыетяжким грузом легли на ее слабые женские плечи, мы говорим себе: всему свое время, и настанет день, когда власть возьмет ее сын, Людовик Тринадцатый, в чьих жилах течет кровь великого Генриха.
– Лишь бы день этот не настал слишком поздно, – заметил Петр. – И теперь, когда вы ведете на смерть меня, пришедшего с далекой чужбины вам на помощь, вы отодвигаете этот день в неопределенное будущее.