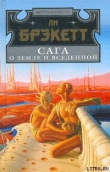Текст книги "Чужие тайны, чужие враги"
Автор книги: Владимир Моисеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Глава 5
1
Два года назад по настоянию Анны я купил в небольшой деревне пустующую избу. Теперь это наша дача. Свою дачу я не люблю. Из этого не следует, что где-то на свете существует сельский пейзаж, аккуратненький домик, ухоженные грядки, уютное озерцо, богатое рыбой, живописные грибные леса, которые выглядят для меня привлекательнее. Вовсе нет. Я человек исключительно городской. В красоте природы, в принципе, разбираюсь и ценю ее, но, как говорится, чем дальше от нее нахожусь, тем больше люблю. Сомневаюсь, что читатели дождутся от меня признания в тяге к земле-кормилице. «Новые охотничьи рассказы» я вряд ли напишу. А вот Анна по-настоящему любит нашу дачу. Забавно, но она называет ее изыскано – имение, вкладывая в это название какие-то глубокие личные переживания, недоступные моему пониманию. И произносит она это слово – имение – с неподражаемой теплотой.
Никогда не понимал тяги к деревенской жизни. Имение было у Льва Николаевича Толстого. И использовал он его по назначению. Припадал к земле. Косил. Фотографировался с лошадью. Обожаю фотографию «Лев Толстой и лошадь» – прекрасная фоторабота, блестящее название. Притяжение земли общеизвестно. Собственный клочок земли привязывает человека к себе сильнее веревки. Я улыбнулся – нет, нет, Анна обязательно вернется, она не сможет отказаться от нашего имения.
На своей старой «Ладе» я обычно добираюсь до дачи за полтора часа, если не попадаю в пробки. Это время словно специально предназначено для того, чтобы предаваться непрактичным размышлениям о литературе. Например, заниматься классификацией писателей. С некоторых пор мне представляется, что особенности психики писателей позволяют разделить их на две примерно равные части: эгоистов и эгоцентристов. Эгоцентристы глубоко уверены, что никакого другого мира кроме их собственного не существует. Ну и, понятное дело, все остальные люди точно такие же, как они, только не столь талантливы. Что совсем неудивительно, поскольку непослушны, безынициативны, ленивы и вороваты. Эгоисты, напротив, противопоставляют себя и мир. Мы, мол, сами по себе, мир – сам по себе... Мир жесток и несправедлив, но чего же еще можно от него ожидать? И те и другие погружены в свои внутренние переживания, и те и другие потакают собственному эго. И это, конечно, правильно. Как иначе писатели могли бы самовыражаться?
В подобном подходе нет ничего обидного. Было бы абсолютно проигрышным делом пытаться доказать, что писатели обычные люди. В свое время В. Сорокин (сам писатель!) доходчиво пояснил, почему это не так. Нормальному человеку, написал Сорокин, не придет в голову придумывать чужую жизнь, а потом описывать ее на листах бумаги или выстукивать на клавиатуре, зачастую теряя представление о том, какое существование более реальное – собственное или придуманное. А вот для писателя выдуманная жизнь книжных героев часто не менее важна, чем его собственная. Грань между фантазией и реальностью для него эфемерна.
По молодости это даже забавно. Но проходит время, и писатель вдруг замечает, что мир вокруг него изменился непредсказуемым, а, если сказать честно, самым что ни на есть паскудным образом. Может и не паскудным, а самым наизамечательнейшим, оценка в данном случае – это дело исключительно личных предпочтений. Впрочем, для настоящего эгоиста совершенно неважно изменился мир в лучшую сторону или худшую. Важно, что изменился. И стал непривычным. Чужим. Подозрительным. Враждебным. И вот бедняга писатель вдруг с ужасом отмечает, что на его глазах попираются фундаментальные принципы, еще совсем недавно составлявшие основу его существования. А на смену приходят другие принципы, придуманные новичками, принимать которые совсем неохота. Встает вопрос, как жить дальше, о чем писать, что сочинять?
В наше время, когда слова, принципы и представления с невероятной скоростью лишаются не только привычного смысла, но и смысла вообще, общественное положение писателя становится исключительно шатким. Любого из нас не покидает ощущение неминуемых кардинальных перемен. Я, например, давно морально готов к тому, что через несколько лет буду проживать в стране папуасов. Она будет не хуже и не лучше нашей нынешней родины. Она будет другой. А папуасов я приплел не потому, что люблю их или, наоборот, не люблю. Просто ищу подходящее сравнение, которое бы адекватно описало культурологический шок, который меня (точнее, всех нас) поджидает в самом недалеком будущем.
Уверен, что мое мировосприятие будет отличаться от мировосприятия молодых людей ничуть не меньше, чем у Миклухо-Маклая и папуасов. Что делать? Я могу продолжать писать о мире, в котором привык жить. Для сотни таких же бедолаг, как я сам. А могу сделать вид, что готов писать о новорожденном мире папуасов. Но думаю, что о своих проблемах папуасы сумеют написать лучше меня. Что еще остается? Можно описывать, как я пытаюсь примириться с прекрасным новым миром, опять обращаясь к ограниченной группе себе подобных.
Понятно, что читателя я потеряю в любом случае. Мои книги никогда, ни при каких обстоятельствах не будут нужны широким слоям населения. Что, кстати, хорошо. Вслед за Джеймсом Джойсом я заявляю, что пяти читателей мне вполне достаточно.
И все-таки, что же мне делать? Ответ очевиден. Жить в свое удовольствие, и стараться ни в чем себе не отказывать. Ни в чем, тем более в творчестве. Буду писать о том, что мне интересно, о том, что для меня важно. Потеряю читателей? И что с того? От меня убудет? Нет. Кстати, я не собираюсь помечать свои тексты предостережением «папуасам читать воспрещается». Отнюдь, я не возражаю, чтобы мои тексты читали, более того, советую их прочитать. Вреда точно не будет, а там, глядишь, и польза какая-нибудь отыщется. Кто знает? Но уговаривать людей читать мои книги и тем более подыгрывать своим читателям я не намерен. Какая мне от этого польза?
Я могу понять, когда писатель пытается воздействовать на разум потребителя своей продукции. Но когда анонимный читатель пытается воздействовать на мозги писателя – это перебор. «Писатель, старайся мне понравиться, а я тебе за это рубль дам». Сейчас, разбежался. Зачем мне твой рубль, дурачок? Ох, ребята, меньше надо думать о читателях, не сомневаюсь, что они о себе сами позаботятся. А я позабочусь о себе и своих книгах. Вот и будет толк. Вот и получится, что все мы будем окружены заботой. Красота! Будем взаимно вежливы.
Кстати, это классический пример рассуждений эгоиста. Мне настолько понравилось быть эгоистом, что я не удержался и дал протяжный гудок – надо же было поставить логическую точку в рассуждениях. К деревне я подъехал в прекраснейшем настроении.
2
В избе за время моего отсутствия, понятное дело, побывали мародеры. Вынесли практически все, что можно толкнуть на ближайшем блошином рынке. Даже дырявым ведром не побрезговали. И то верно – а вдруг в дырявом хозяйстве понадобится! Рукописи перевернули, разбросали, но оставили валяться на полу – бумага, она бумага и есть. В макулатуру ее не потащишь. Труда много, а выход копеечный. Могли, конечно, и костерок соорудить, но не стали. За что им отдельное спасибо. Это значит, что даже среди мародеров стали появляться рачительные люди. Вот, оставили дачу на разживу. Понадеялись, что хозяева-дураки скоро нового добра привезут.
Я попытался отыскать следы пребывания Анны, но безуспешно. Получается, что на даче она так и не появилась, иначе бы обязательно оставила для меня еще одну записку. Инстинкт, она у меня человек скрупулезный, заставил бы объяснять причину исчезновения снова и снова, пока причины, побудившие ее совершить свой неожиданный поступок, не стали бы понятны даже такому балбесу, как я. Но не случилось. А вот рассказ отыскался. Не в куче разбросанных мародерами рукописей, он лежал отдельно на полочке над лежанкой, куда я обычно складывал тексты, которые просматривал перед сном.
Любопытство переполняло меня, и я тут же перечитал рассказ несколько раз, пытаясь понять, за какой-такой надобностью меня сгоняли в такую даль, но не преуспел и в этом. Текст получился забавный, но явно не претендующий на уникальность, зачем он понадобился Пермякову, я так и не понял.
Все. Больше меня на даче ничто не удерживало. И я уже принялся разогревать мотор, рассчитывая, что успею вернуться в Петербург не слишком поздно, как вдруг услышал тихое и, вроде как, укоризненное:
– Здравствуйте, Иван.
Голос был вкратчивым, но настойчивым, и потому показался знакомым, пришлось вылезать из машины. Я не сразу узнал в пухлом бородатым мужике в камуфляже Николая Гольфстримова, широко известного писателя, прославившегося сочинением весьма своеобразных рассказов (мне они не понравились) и бесконечных фэнтези (не читал). Если бы не приметный голос, ни за что бы его не признал... Что ж, будет богатым.
– Здравствуйте, Гольфстримов. Что вы здесь делаете?
– Я живу здесь. Мое жилище располагается на соседней улице. Выходит мы с вами земляки.
– А я и не знал.
– Меня это не удивляет. Редко бываете в наших краях. Видите ли, на природу вас не тянет! И с соседями не общаетесь. Не интересуетесь простым народом! А ведь здесь не природа, здесь настоящая жизнь.
– Да, – вынужден был признать я. – Это вы меня тонко поддели.
Гольфстримова передернуло. Он уставился на меня с плохо скрываемым презрением. Но, как писателю, я был ему любопытен. Природа его интереса была мне понятна. Он искренне не понимал, почему откровение о месторасположении настоящей жизни не повергло меня в кромешный ужас. Если бы кто-то сказал нечто подобное ему, Гольфстримову, он бы немедленно сгорел со стыда. Принимая во внимание его нынешнее умонастроение, это было единственно возможной эстетически осмысленной реакцией на подобное оскорбление. Дело в том, что в последнее время он объявил себя квасным патриотом. Что это означает, честно говоря, я не понимаю. Наверное, что-то связанное с сохранением древних традиций и верований. Мне кажется, что и сам Гольфстримов не до конца отдает себе отчет в том, что излишне изощренная, на мой взгляд, игра, которую он затеял, а то, что это игра, сомнения не вызывало, до добра не доведет.
– Я, знаете ли, человек городской. Город люблю. Я на природе даже книжку писать не могу, раздражает меня все подряд, воздух одуряет, понимаете, он колышется, дует, чем постоянно отвлекает меня от работы, очень трудно сосредоточиться.
– А я в деревне прижился. Мне здесь хорошо. Община признала меня ходатаем по делам. Я справляю мужикам бумажки, жалобы пишу. Это дело настоящее, правильное. Так наши деды жили и нам завещали.
У меня появилась возможность съязвить, и упускать ее я не стал.
– Оказывается, квасной патриотизм передается через поколение. Отец-то ваш, я слышал, из профессоров? Забавно, не находите?
– Про отца ничего плохого сказать не могу. Это ведь он привил мне любовь к земле. А вообще-то вы правы в своем ехидстве. все беды от грамотности. Кто старших по званию не любит, тот и бедствует сильнее других. И это правильно. Не следует заумью своей сбивать мужиков с пути истинного. Справный мужик, он картоху посадил и на зиму прокорм родителям, жене и деткам обеспечил. Так испокон века было и, даст Бог, будет и дальше. А романами и рассказами прокормить народ нельзя.
– Представляете, дачу мою разграбили. Пришлые или местные сподобились, не слыхали? Неужели картохи для прокорма не хватило?
– Мне про то неизвестно.
– А что же ваша община терпит мародеров?
– Эту проблему мы решаем. Вот недавно организовали дружину самообороны. Патрулируем. Готовы добро свое защищать. Спуску врагам не дадим.
– А как же со мной так получилось?
– Избы дачников мы стороной обходим. Вы к нам без спроса понаехали. Знаться с нами не хотите. Община не желает нести ответственность за ваше имущество.
– Понятно. Ну, рад был повидаться. Я поехал.
– Бывайте. Слышал я, что издательство «Пятое измерение» отправляют на выселки. Это правильно, это хорошо. Человек должен в поте лица своего пищу растить, а не облыжно зубоскальничать. Взяли моду начальников ругать. Общество сильно своей структурой. Наши предки не зря придумали табель о рангах. Во всем следует искать повод для оптимизма. Предположим, произойдет жизнеутверждающее чудо – и забросят пацаны свои писания и начнут картоху растить или свеклу. Вот и будет польза. Придет время, и вы со мной согласитесь.
– Странно, – удивился я. – По вашим словам получается, что начальников ругать нельзя. Согласно табели о рангах, так? Но их нельзя и хвалить. Явно не Божиим промыслом их к нам занесло, если бы Божиим промыслом, то об этом обязательно бы объявили. Зачем скрывать такой красивый факт? А политики молчат. Официально принято считать, что начальники взялись неведомо откуда. Свалились на нашу голову яко коршуны. Некоторые горячие головы, вообще, считают их инопланетянами. А что? В таком подходе есть свой резон. Начальников никто не видел. Их вид таинственен, их способности загадочны. Почему мы считаем, что они обязательно должны быть людьми? А вы, когда говорите, что начальников нельзя ругать, еще более запутываете ситуацию. Вообще ничего непонятно.
– Опять игра смыслов! – после моих невинных, как я считал, слов Гольфстримов пришел в ярость. – Опять литературщина! Я говорил о почитании начальников в исконном смысле этого слова. О соборном почитании данных нам провидением руководителей: государственных и нравственных. Самозванцы, которых почему-то все называют славным титулом начальники, здесь явно не при чем. Мне действительно о них ничего неизвестно. И я ничего о них знать не желаю!
– что-то личное?
– А вот и да!
– Вы меня заинтриговали.
– Разве вы, Иван, не слышали о списке нерентабельной литературы?
– Признаться, нет.
– Как я посмотрю, вы и собственные интересы ленитесь защищать, – произнес Гольфстримов с грустью. Он уже не упрекал, он констатировал. – Полгода назад по указанию начальников этих самозваных был утвержден список запрещенной литературы, попавшие в него книги не могут быть опубликованы ни при каких обстоятельствах.
– Вы говорите о списке экстремистской литературы?
– Если нежелательные книги могут быть квалифицированы как экстремистские, они попадают в список экстремистских. Если же это затруднительно, они включаются в список нерентабельных. Публикация книг из списка нерентабельных карается строже, чем публикации из списка экстремистских. Это проверено.
– И ваша книга попала...
– Именно. Отныне я автор нерентабельного рассказа. Какая гнусность! Кстати, слышал, что в списке значится и ваше новое сочинение, которое вы самокритично называете текстом. Пермяков уже объявил, что ваше творение вылетело из плана?
– В общем, да, – признался я. – И что теперь делать?
– Сухари сушить и переходить на домашний квас. А еще лучше прибиться к нашей общине и... Приезжайте с чистым сердцем, попросите народ, они вас примут.
– Боюсь, что тогда мне придется выращивать картоху.
– Совсем не обязательно. Вот я, например. Проснувшись утром, сажусь писать рассказ. А когда голова станет тяжелой, отправляюсь на пашню: перекапывать грядки, окучивать картошку, вносить навоз под будущий урожай. Урожай – это важно, но мой рассказ важнее.
– А если попробовать сунуть им взятку? Начальникам этим новоявленным. Наверняка возьмут. Почему бы им не взять? Начальники приходят и уходят, а размер взятки во все времена зависит только от цены нефти на бирже.
– Вы считаете себя самым умным? Этим вопросом серьезные люди озаботились. Пытались. Но не прошло.
– Почему? – в своей гордыне я давно считал, что новыми рассказами о начальниках меня удивить нельзя, но жизнь, как всегда, оказалась сложнее любых представлений. Чтобы начальники взяток не брали, это, знаете ли...
– А потому, Ваня, что деньги начальников давно уже не интересуют. Тем более, те жалкие гроши, которые вы способны собрать, отказавшись на пару месяцев от пива. У них этих денег – выше крыши. Понимаете, Иван, они сами их печатают. По мере необходимости.
Однако. Я вспомнил, что недавно уже слышал подобные рассуждения, практически слово в слово, от Пермякова. Выходит, они черпают информацию из одних источников? Никогда бы не подумал!
– А как насчет борзых щенков?
– Пробовали и с подходцем. Но и тут конфуз вышел. Удивительно, но начальники ничем не интересуются и ни в чем не нуждаются, я о таком стойком состоянии духа прежде не слышал. Так, глядишь, борцы с коррупцией останутся без работы.
– Странные и непонятные вещи вы рассказываете. Обязательно должно быть что-то. Плохо ищете.
– Есть, есть, но нам от этого не легче. Гротавич. Им нужен гротавич.
– А что это такое?
– В том-то и загвоздка. Никто не знает, что это такое. Известно только, что начальникам нужен только он. Вот, как только узнаю, что такое гротавич, сейчас же раздобуду достаточное количество и сделаю так, чтобы оставили начальники нашу общину в покое. Чтобы жили мы по своим законам, согласно народным традициям.
Честно говоря, думать, анализировать и сочинять тексты мне нравится гораздо больше, чем общаться с людьми. Означает ли это, что я не люблю людей? Может быть, но только самую малость.
Некоторое время я смотрел, как Гольфстримов, закинув на плечо лопату, бредет по дороге в сторону своего огорода. Страсть к земледелию у меня так и не возникла.
3
Мелкие крупинки снега падали на лобовое стекло и, не успевая растаять, аккуратно сгребались щетками стеклоочистителя. По краям стекла, возле передних стоек, уже образовались два небольших сугробчика, однако асфальт все еще оставался черным. Лишь замерзшие лужи тускло отсвечивали в лучах автомобильных фар, да обочины заметно побелели.
Дорога была пуста, что неудивительно для столь позднего часа – в конце ноября в этих краях и днем не часто встретишь машину. Автобусы с окончанием дачного сезона почти не ходят; мимо проносились лишь редкие грузовики со щебенкой да легковушки со случайными дачниками – вот и весь транспортный поток.
И чем ближе был Петербург, тем лучше я себя чувствовал. Что ни говори – а я, Иван Хримов, человек сугубо городской. Странно, но стоит выбраться «на природу», со мной происходит одна и та же неприятная история – голова словно бы наливается тяжестью и перестает работать. Мысли путаются, думать удается с большим трудом. Я этого страшно не люблю. Друзья утверждают, что виновато «кислородное отравление», но что-то не верится. Не люблю деревню, вот и все. Для правильного функционирования организма мне подавай каменные джунгли.
Голова, ты моя головушка, что же ты меня не слушаешься! Это неправильно. Вполне благодушный разговор с Гольфстримовым оставил самое неприятное впечатление. Я не мог отделаться от навязчивой мысли, что от меня ускользнуло что-то по-настоящему важное. А подсознание не обманешь. Дело было не в начальниках. что-то другое развело нас по разные стороны баррикад. что-то более важное и неотвратимое. Ну, это я, конечно, загнул! Какие баррикады! Ерунда. Делить нам нечего, как, впрочем, и совместно приумножать. Вот это уже ближе к сути. Оказалось, что мы настолько разные, что об этом ни в сказке сказать, ни пером написать. Наша встреча закончилась со счетом ноль – ноль. Проблемы Гольфстримова оставили меня равнодушным, а мои проблемы оставили равнодушным его. В животном мире так преисполненная равнодушия белка пробегает мимо в упор ее не замечающего зайца. Не могу сказать, что ситуация кажется мне ужасной, нет, правильнее назвать ее странной.
А виноват, естественно, во всем только я.
Анна обычно переживает, когда у меня не получается глава. Представляю, что бы она сказала, услышав рассуждения о пяти причитающихся мне читателях, о неумолимо надвигающемся будущем – мире, где будут обитать новые папуасы, о полнейшей бесперспективности дальнейших занятий литературным трудом и, наконец, о неизбежной смерти самой литературы. Надеюсь, что она не догадывается о том, что я пишу только для собственного удовольствия, потому что, как случайно выяснилось, благополучно попал в список сочинителей нерентабельной литературы, освободив фронт работ, а следовательно, и возможность получать гонорары более расторопным собратьям по перу. Или уже догадалась, потому и ушла. Я почувствовал, как у меня загорелись щеки. Нормальный человек на моем месте давно бы с литературой завязал. Но, как верно отмечено, нормальные люди крайне редко становятся писателями. Сочинительство – это ведь своего рода мания. Психическое расстройство, точнее, психологическая предрасположенность. Человеческие обоснования «неписания»: катастрофическое сокращение числа читателей, бесперспективность бесплатной работы, невостребованность и низкий социальный статус – такие веские и ясные для нормальных людей, лично мне кажутся несерьезными.
Нет, нет, они бы и для меня выглядели убедительными, если бы не одна малость. Я больше не считаю себя частичкой общества или, бери выше, человечества. Застарелый эгоизм, а что же еще, как ни эгоизм, заставляет меня держаться в стороне от мира нормальных людей. По счастью, не я первый пришел к подобной мысли. Можно привести огромное количество примеров поведения более чем достойных писателей, вынужденных однажды сделать свой выбор не в пользу человечества. Как справедливо сказал однажды мой знакомый: «Я хотел отдать свою работу людям, но она оказалась им не нужна. Что тут поделаешь. Не хотите – и не надо! Как-нибудь обойдусь». Признаться, в мире идей мне приятнее жить, чем в мире людей.
Вот тут у нас с Гольфстримовым расхождение и вышло. Он про будущее знает ничуть не меньше меня. Чувствует наступление эпохи папуасов. И вывод делает точно такой же, как и я – нужно продолжать жить в свое удовольствие и по собственным правилам. Беда лишь в том, что правила у нас оказались абсолютно разные. Гольфстримов рассчитывает с помощью общины остановить будущее, раньше про таких любили говорить: «пытался встать на пути прогресса», а я сопротивляться наступлению нового мира не готов. Довод, что он враждебен, представляется недостаточно веским. К одним враждебен, а к другим, наоборот, дружественен, обычная история. В отличии от Гольфстримова я отказываюсь считать привычный мне образ жизни единственно возможным образцом для подражания. Нам будет очень сложно договориться. А жаль. Но, конечно, в его народную дружину я записываться не собираюсь.
Мои размышления были неожиданно прерваны. Из-за небольшой горки, ослепляя меня фарами, на шоссе выполз огромный грузовик. Через пару минут, тяжело урча дизельным двигателем, грузовик прошел мимо, таща за собой длиннющие бревна. Шум дизеля вскоре растаял в ночи, и вновь тишину нарушало лишь убаюкивающее шуршанье колес. Я попытался мысленно вернуться к анализу разговора с Гольфстримовым. Ощущение, что я упустил в его словах что-то важное, осталось. Но что конкретно – сообразить не удавалось. Вспомнил все: слова, жесты и гримасы, которыми он их сопровождал, даже интонацию. Но все впустую. И в этот момент меня опять ослепили автомобильные фары.
На этот раз свет шел сзади, отражаясь в зеркалах моего автомобиля. На огромной скорости меня нагоняла крупная машина, далеко вперед высвечивая шоссе мощными фарами. Подчиняясь мальчишескому азарту, я надавил на газ, но машина неуклонно приближалась. Уже было видно, что это внедорожник, и по мере приближения от дальнего света фар, который водитель внедорожника почему-то не выключил, у меня пошли круги перед глазами.
Я подвинул кресло немного вперед. Колени уперлись в руль, и раздражающий свет сзади исчез. Эти отморозки на дорогах потому себя так и ведут, что никто не хочет с ними связываться. Может быть, он думает, что я заторможу и прижмусь к обочине? Черта с два. Если ему так хочется обогнать меня – пожалуйста, встречная полоса свободна. Расстояние сократилось до нескольких десятков метров. Давя широкими шинами свежий снежок, внедорожник добавил скорости и пошел на обгон, влетая на очередную горку. Соревноваться с ним в скорости не было никакой возможности, и чтобы не выслушивать порцию грязных ругательств, я поплотнее закрыл форточку, включил радио громче и подвинул кресло в прежнее положение.
Подняв взгляд на шоссе, я обомлел. На вершину горки навстречу нашим мчащимся машинам, медленно вполз тяжелый грузовик. Мои руки, судорожно вцепившиеся в руль, повлажнели. Тормозить нельзя – немедленно улетишь в кювет или на встречную. Видимо, так же думал и водитель внедорожника, отжавший, судя по всему, педаль газа до пола. Чудо японской техники рвануло вперед со страшной силой, летя навстречу грузовику. Чтобы избежать лобового столкновения, водитель внедорожника взял резко вправо, подрезав меня. что-то неприятно звякнуло, машину резко толкнуло вправо, я с трудом сумел удержаться на дороге. Страх пришел, когда все уже было позади. Неужели пронесло?
Медленно отпуская педаль газа, я увидел в зеркале удаляющийся тягач, а впереди стремительно уменьшались в размерах габаритные огни внедорожника.
Долго не мог успокоиться. Руки тряслись, в голове шумело, в висках словно молот стучал, неудивительно, ведь мой организм только что получил недельную порцию адреналина. Пришлось остановиться. С трудом вылез из машины, отошел в сторонку, справил малую нужду. Вот вам и вылазки на природу! Воздух, птички, зайчики и кабаны. Терпеть не могу придурков за рулем. Хорошо еще, что все обошлось.
Минут через десять я успокоился и смог продолжить путь. Но приключение, что там ни говори, на мою долю выпало не из приятных. К сожалению, оно не закончилось. Вдали засветились огни. Подъехав ближе, я увидел ужасную картину. В кустах возле дороги, уткнувшись мордой в заснеженный валун, на боку лежала машина. Тот самый внедорожник. Теперь уже можно было разглядеть, что это серебристый Тойота Лендкрузер.
Возле открытой дверцы на снегу сидел человек с окровавленным лицом. В левой руке он держал трубку мобильного телефона и пытался говорить, но сил не хватало. С трудом подняв голову и, вероятно, увидев меня, он сделал неловкое движение и уткнулся лицом в снег. Я услышал, как что-то просвистело над головой.
Господи! Да он же в меня выстрелил! Вот урод.
Я подошел ближе. В правой руке у водителя был зажат пистолет, вроде бы, «Вальтер». И эта сволочь могла сейчас меня пристрелить. О покойниках плохо говорить нехорошо. А что хорошего можно сказать про этого человека? Я осторожно приподнял его за плечи. Это был упитанный мужчина лет пятидесяти. Крепкого телосложения, среднего роста, без особых примет. Он был бесповоротно мертв.
Из телефонной трубки доносились какие-то звуки. Я поднес трубку к уху. «Михалыч… Борис Михалыч, ты где? Скажи, где ты? Мы сейчас выезжаем». Было слышно, что на другом конце несколько человек вырывают друг у друга трубку, кричат и ругаются. Какая-то женщина плакала и просила: «Да сделайте же вы хоть что-нибудь!». Я не сдержался и выкрикнул: «Выезжайте на Скандинавскую трассу. Третье шоссе направо сразу после зеленогорской развилки». Затем выключил телефон, аккуратно вытер его, чтобы не осталось отпечатков пальцев, и аккуратно положил рядом с мертвым хозяином.
На миг мне показалось, что машина отказывается заводиться. От одной мысли, что друзья Михалыча появятся здесь прежде, чем я успею убраться восвояси, у меня перехватило дыхание. Впрочем, машина, слава Богу, завелась, и понесла меня прочь от серебристого Лендкрузера, покрывавшегося тонким слоем таких же серебряных снежинок.