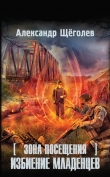Текст книги "Избиение младенцев"
Автор книги: Владимир Лидский
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Работа закипела, забегали люди, загрохотали в дверях цейхгауза винтовочные ящики, зазвучали короткие командные вскрики…
Евгений с Никитой и Сашей, улучив минуту, подошли к Дорофееву.
– Господин полковник, – подпоручик Гельвиг! Позвольте без околичностей? Мы – вестовые первого кадетского корпуса, со мной кадеты второй роты пятого класса Волховитинов и Гельвиг-младший. Оборону корпуса держит полковник Рар с кадетами первой строевой роты. Передаю просьбу Владимира Фёдоровича: в корпусе очень мало оружия, только старые «берданки», совсем нет патронов. Помогите, нечем сражаться!
– У нас тоже мало оружия, – отвечал Дорофеев. – Сейчас мы подготовляем экспедицию в арсеналы Симонова монастыря; там засели большевики, но надо попытаться обманным путём во что бы то ни стало завладеть хоть малой толикой винтовок и боеприпасов. С минуту на минуту прибудет курьер из «Дрездена», он должен привести украденные там бланки «Совета депутатов». Составим подложные ордера и с Богом!
Дорофеев чуть повернулся и крикнул в сторону:
– Князь! Пожалуйте сюда!
Немедленно подошёл, козырнув, стройный, подтянутый молодой человек, одетый как рабочий – в кожаной тужурке и с суконным картузом набекрень.
– Знакомьтесь, господа…Старшим в экспедиции будет лейб-гвардии Литовского полка поручик Бельский. С ним едут юнкера Забелин и Сергеев. Присоединяйтесь к их команде. Но кадет, пожалуйста, оставьте, дело опасное…
Евгений поднялся наверх, где в одном из училищных классов было свалено в кучу обмундирование и цивильная одежда. Быстро переодевшись в солдатское, нахлобучив на голову папаху, он спустился во входной вестибюль, где его уже ждали Бельский и Забелин с Сергеевым.
Через полчаса поручик со своей командой сел в грузовик, стоявший на Знаменке возле входа в училище. В кабине автомобиля не было стёкол, зато на пассажирском месте слева был установлен пулемёт и за ним устроился Бельский. За руль сел Забелин, а Евгений с Сергеевым расположились в кузове.
Уже в сумерках выехали на Арбатскую площадь. В преддверии бульвара стояли баррикады. Здесь же были установлены два пулемёта и два лёгких орудия.
– Выкрали у большевиков! – сказал Евгению Сергеев, указывая на орудия. – Только что с Ходынки привезли!
Возле батареи Евгений разглядел в белёсом предвечернем свете знакомого ему подполковника Баркалова, стоящего возле орудия и что-то объясняющего юнкерам…
У Манежа сильно стреляли, поэтому решили двинуться по бульвару и на Никитских воротах свернуть направо в сторону Кремля. В районе Тверской на самом углу попали в засаду. С верхних этажей гостиницы и Дома городского самоуправления посыпались выстрелы, но, слава Богу, быстро проскочили опасное место. Помчавшись по Охотному ряду, увидели впереди толпу красногвардейцев, стоявших прямо посреди улицы. От толпы отделились трое и, взяв винтовки наперевес, стали в сторонке. Грузовик наддал. Сквозь вой двигателя Евгений услышал металлический лязг и в ту же минуту из кабины загрохотал пулемёт. Люди бросились врассыпную. Один стал на колено и начал стрелять в сторону приближающегося грузовика. Бельский, не прекращая стрелять, диким голосом закричал. Пуля ударила в борт грузовика, и кусок щепы вылетел на дорогу. Тут пулемёт умолк…
– Поворррачивай! – закричал вдруг Бельский, и грузовик сходу, не снижая скорости, резко вывернул в сторону небольшой кучки красногвардейцев, отбежавших под стены домов и уже поднимавших оттуда свои винтовки. Мокрая грязь из-под колёс и резиновый чад обдали автомобиль со всех сторон.
Бельскому мешала левая стойка кабины, пулемёт упирался в раму, но когда машина повернула, фронт открылся и поручик вновь начал стрелять. Люди в панике понеслись прочь. Двигатель ревел и колёса визжали, однако, эти звуки не перекрывали звуков, отражающихся от стен домов – звенели выбитые стёкла, что-то ухало, раздавались вскрики и ругательства. Грузовик наехал на мёртвое тело одного из красногвардейцев и всех пассажиров сильно тряхнуло. Машина сделала полукруг и помчалась по Охотному ряду, набирая скорость…
В полной темноте подъехали к Симонову монастырю. Ворота артиллерийских складов были закрыты. Бельский, выйдя из машины, принялся рукояткою револьвера стучать в металл ворот. Из калитки выглянул взъерошенный человечек в железнодорожной фуражке.
– Коменданта давай, мать твою! – с ходу заорал поручик. – Где комендант? Ты комендант?
– А вы кто, товарищи? – робко спросил человечек.
– Сейчас узнаешь! – многозначительно пообещал Бельский.
Человечек открыл ворота, и гости увидели орудие, направленное прямо на них, а вокруг – красногвардейцев караула. К поручику тем временем присоединились Сергеев с Забелиным и Евгений. Бельский лихорадочно соображал, оценивая силы орудия и караула. «Силой не взять, – тоскливо подумал он. – Но, положим, с орудия не станут палить, а вон пулемётик-то стоит на углу…»
От арсенальных складов бежал через двор рослый пожилой человек рабочего вида в овчинном полушубке.
– Сейчас, товарищи, сейчас… Я – комендант. Не волнуйтесь!
Бельский принялся чудовищно материться и Евгений подивился его виртуозному умению.
– Товарищ, товарищ! Успокойтесь! – оробел комендант.
– Я тебя самого сейчас успокою, – нервно прокричал поручик. – Юнкера прут стеной, патроны кончились, винтовок не хватает, а он тут меня успокоить хочет! Патроны давай, мать твою!
– А ордер у вас, товарищ, позвольте полюбопытствовать, имеется?
Бельский снова начал громогласно материться. Этот нервный напор добавлял сил и утишал страх, ему казалось, что стоит только в чём-то ошибиться, сделать какое-нибудь неверное движение или сказать неправильное слово, как всю его команду мигом разоблачат, арестуют, а то и постреляют, потому он орал всё громче и громче, перемежая мат с простонародными словами, которые сами собой всплывали в его в памяти, размахивал руками и всё норовил сунуть свой пахнущий пороховой гарью кулак под нос коменданту. А комендант принял крик неведомого гостя за начальственный раж, за праведный гнев, похожий на тот, который изливал на него совсем недавно цеховой мастер за испорченную заготовку, и, упреждающе выставив впереди себя здоровенные рабочие ладони, пытался успокоить пришельца. Но поручик заводился всё больше, и нервное напряжение его спустя всего несколько минут от начала разговора достигло такого градуса, при каком он не мог уже остановиться и только с выпученными глазами орал и орал, брызгая слюной на перепуганного коменданта.
– Тебе ордер, сука конторская! – гремел Бельский. – А хрен собачий не хочешь отсосать?! Мы на Дорогомиловском мосту дохнем, нас крошат на Пресне, наши товарищи кровью истекают на Моховой, а тебе ордер надоть! Уж я на тебя управу найду, дай мне тока до тебя добраться! Я тебя лично на Скобелевскую сведу, перед Советом будешь у меня отвечать! Вот тебе ордер, крыса казематная! Сей же час грузи мне патроны!
С этими словами поручик достал фальшивый ордер и, изо всех сил впечатав его в грудь коменданта, повернулся, чтобы залезть в кабину грузовика. Сергеев с Забелиным и Евгений вошли, между тем, во двор арсенала.
– Что ж вы сразу не сказали, товарищи! – залебезил комендант вслед вошедшим. – Сейчас, сейчас погрузим!
Бельский загнал машину во двор.
Тут забегали какие-то люди, хлопнули двери складов и к грузовику стали подносить длинные винтовочные ящики, а следом обычные прямоугольные – патронные. Комендант сам в паре с помощником поднимал винтовки в кузов грузовика.
– Гранаты ещё давай! – напоследок сказал Бельский. – Да новую партию приготовь – я тебя утром снова попроведаю!
Вскоре машина была полна, все расселись по своим местам, только Евгению с Сергеевым пришлось громоздиться в кузове уже без удобств – на ящиках, составленных в три ряда.
Проехав пару улиц, машина немного снизила скорость. Евгений постучал в крышу кабины и попросил остановиться.
– Поручик, не сможем ли мы прежде проехать в Лефортово? Там наши младшие товарищи совсем без оружия…
Бельский задумался. Он ещё не остыл от возбуждения схватки и страх покуда не отпустил его. Он с трудом понял смысл слов Евгения, но, поняв, стал припоминать приказ Дорофеева, который не детализировал доставку оружия. Ему и его команде было приказано просто добыть и привезти оружие, а когда и как это будет сделано, отдельно не оговаривалось. Успех окрылил его, и он собирался повторить опасный рейд. Кровь понемногу успокаивалась, кипение её делалось всё тише, и вот она уже совсем вошла в берега своих вен. Напряжение отпустило, на смену ему пришло блаженное спокойствие.
– Извольте, – сказал он. – Для юнкеров и офицеров оружие добудем вторым разом. Тем более, новую партию нам нынче уже приготовляют… А комендант, господа, похоже, со страху обмочился!
И вся команда загрохотала среди пустынных улиц вольготным смехом.
Усталые Саша и Никита глубокой ночью уснули в одном из спальных помещений училища вместе с юнкерами. Утром, проснувшись и не обнаружив нигде Евгения, посовещались и решили возвращаться в корпус. Может, с командой что-то случилось, может, она ещё просто не выполнила приказа, выжидая где-нибудь в укромном месте удобных обстоятельств, может, ищет обходные пути к решению задачи… Вернётся Евгений, не вернётся, а если вернётся, то когда? Ждать не будем, там наши товарищи без нас не обойдутся!
Они потихоньку выскользнули из-под присмотра юнкера, приставленного к ним, что, впрочем, было и нетрудно в той неразберихе и суматохе, которые царили в училище, и вышли на замороженную Знаменку. Вдоль улицы вился лёгкий снежок. Путь был знаком, но опасностей на улицах поприбавилось: бои уже шли нешуточные. Юнкера вытеснили красногвардейцев с Никитского и Тверского бульваров, заперли Арбат со стороны Смоленского рынка, заняли часть Большой Никитской до Университета и Кремля. По улицам свистели пули, со стороны Воробьёвых гор с лёгким шелестом проносились снаряды и рвались где-то вдалеке. Рабочих отрядов Саша и Никита не боялись, – в училище они переоделись в цивильное, с трудом, правда, подобрав себе одёжку по размеру, и теперь выглядели как обычные уличные мальчишки. Если б они шли по городу в кадетских шинелях, то тогда им, конечно, не поздоровилось. Уж больно не любили красногвардейцы кадетов и юнкеров! Своё обмундирование кадеты завернули в найденный среди куч хлама кусок брезента и запрятали в одном из классов училища за огромную кафельную печь. Опасаться следовало случайных пуль, шрапнели, кусков стекла и кирпичей, летевших при обстрелах с верхних этажей зданий.
– Может быть, домой? – робко спросил Саша.
Никита посмотрел на него смущённо, – он сам хотел предложить другу добежать до дома, тем более что они были совсем рядом от Кудринки. Но вслух он сказал:
– Нет, Саша, нас товарищи ждут…
Миновав Никитские ворота и выйдя на бульвар, мальчишки повернули влево, на Малую Бронную, и прошли её почти до конца, но в преддверьи Патриарших заметили какую-то возню – поодаль виднелась баррикада, перекрывшая выход на Садовое кольцо. Они благоразумно свернули в переулок и резво побежали, намереваясь попасть на Спиридоньевку. Вдалеке неизвестно за каким чёртом навстречу им брела беременная баба, опасливо прижимаясь к стенам домов и поминутно крестясь, ещё дальше, на пересечении переулка и улицы крался дворник в белом фартуке поверх тулупа и втягивал голову в плечи всякий раз, как шальные пули цокали по фасадам домов. Кадеты пробежали уже половину переулка, и тут из подворотни недалеко от перекрёстка вывернул матрос.
Балтийцев в городе было уже много, они прибывали из Питера группами, кое-кто и поодиночке, и творили всё, что хотели, потому московская публика их знала и боялась.
Этот, появившийся из лёгкого снежка матрос, был худой, низкорослый, весь какой-то белый, хотя и в чёрном бушлате, а главное, – разболтанный, словно пьяный, – шёл, покачиваясь, балансируя на скользкой дороге, и видно было, что сохранение равновесия даётся ему с большим трудом. От него исходила внятная опасность и хоть лица его пока что не было видно, кадеты поняли, что лучше им в этом узком переулке с ним не сходиться. Они нырнули во двор и быстро огляделись. Справа и слева громоздились стены внушительных пятиэтажных зданий, впереди виден был дощатый забор, закрывавший проход во дворы соседнего переулка, расположенные зеркально; несколько чахлых голых топольков, посаженных, видно, год или два назад, жались по сторонам, а посреди почти пустого пространства была насыпана небольшая кучка уже умявшегося песка, в которой, очевидно, летом копались дети. Окна домов не подавали признаков жизни, обыватели предпочитали прятаться в своих норах, а выглядывать наружу в такое время им было просто страшно. Мальчишки озирались по сторонам. Во дворе стоял какой-то морозный воздух, похожий на тот, которым ты начинаешь дышать, спустившись за прошлогодними яблоками из жаркого весеннего дня в ещё не согревшийся после долгой зимы ледяной подвал, и им казалось, что этот воздух намного холоднее внешнего, находящегося в переулке, где они только что были. С улицы слышались выстрелы и гул далёкой артиллерийской канонады, но всё это оставалось где-то за пределами их внимания; этот двор словно бы стал для них неким обособленным местом, берлогой, убежищем или замкнутым кругом, очерченным мелом от сатанинских сил, в котором, казалось, опасности если и не исчезают, то хотя бы преуменьшаются, – они погрузились в этом дворе в свой отдельный мирок, относительно тихий и далёкий от убийств, крови и насилия, ставших такими обычными на московских улицах в последние два-три дня… Они стояли, пытаясь отдышаться, тихий снежок с лёгким шуршанием падал в проём двора… стояли, поворотившись друг к другу, – спиной к забору и лицом к переулку, – пытались согреть пальцы своим горячим прерывистым дыханием… и вот в арку двора медленным командорским шагом вошла затмившая свет фигура – огромная, могучая, тёмная, хотя и одновременно какая-то странно белая: вот этот командорский шаг – из-за угла подворотни показывается массив чёрной ноги в чудовищном, развевающемся на ветру клёше, нога бухает ботинком в обледенелый асфальт и весь двор содрогается от этого удара… кадеты медленно поворачивают головы и поднимают глаза, а из-за угла подворотни тем временем выпрастывается неспешно поднимающаяся рука в чёрном рукаве бушлата, замороженная, скрюченная, несущая ледяной вихрь и мелкие острые осколки не то стекла, не то льда… выносится необъятное туловище, закрывающее серые сумерки едва видного впереди переулка и во дворе становится заметно темнее… кадеты в ужасе, заворожённые гипнотическим, сатанинским обликом входящего, продолжают неотрывно смотреть на него, а он приближается, надвигаясь, и хотя от арки двора до двух сиротливо стоящих на ветру фигурок всего несколько шагов, кажется, что эти шаги – огромный путь, нескончаемое путешествие, которое длится и длится, которое не может окончиться, он идёт, а они смотрят, он идёт, а они смотрят, и их сердца готовы уже разорваться от страха… но тут Никита, словно очнувшись, словно стряхнув морок, конвульсивно дёргается, подобно механической игрушке, потерявшей завод, резко разворачивается и стремительно бежит к забору, за которым – спасительный соседний двор, а следом за ним, тоже очнувшись, несётся Саша… они почти одновременно вспрыгивают на забор и Никита ловко переваливается через него, но Саша, Саша… – Саше не хватает силёнок подтянуться, он и ростом поменьше друга… и тут цепкая и властная рука хватает его за шиворот и стаскивает на землю…
Прижимаясь щекой к замороженному песку, который оттаивает под нею и становится мокрым, Саша смотрит вперёд и видит прямо у своих глаз гигантские кожаные ботинки с толстенным рантом, прикрытые влажными расклёшенными штанами, поднимает голову и всматривается в фигуру, нависающую над ним. Фигура грозно покачивается, потом из её глубин высовывается длинная рука, снова хватающая Сашу за шиворот и грубо поднимающая его с земли. Перед ним стоит худой, если не сказать тщедушный, матрос небольшого роста и, крепко ухватив воротник сашиного полушубка, с ухмылкой смотрит на него сверху.
– Дяденька, пустите, – шепчет перепуганный мальчишка.
Матрос покачивается и, не отпуская воротника, продолжает смотреть. Глаза у него красные, гноящиеся, брови и ресницы – белые, на подбородке – грязный серый пушок, на щеках – размазанные и застывшие на морозце сопли. Грудь его украшена грязным алым бантом, приколотым к бушлату декоративной драгоценной булавкой, усыпанной сапфирами и бриллиантами. Лицо матроса кажется Саше странно знакомым. Вид его страшен, хотя и не грозен, он не выражает собой никакой угрозы, вполне мирно стоит и разглядывает мальчишку. Но разит от него могилой, влажным холодом смерти, острым запахом только что перерубленных в глубине земли запутавшихся корней и самой землёй – прелой, источающей ледяной парок, шибающей в нос кислятиной тления… Матрос открывает рот и Саша нутром, желудком чувствует ещё и гнилостную вонь его слюнявого рта:
– Попался, попался… – говорит он радостно.
Саша съёживается. Свободную руку матрос слегка отводит в сторону и лупит Сашу ладонью по уху. Шапка мальчишки падает на землю. Матрос отпускает воротник его полушубка, берёт Сашу за грудки и придвигает к себе поближе. Всматриваясь в голову подростка он с удовлетворением, словно получив доказательство давно мучившей его догадки, тянет:
– Рууубчик… рууубчик… попался, волчонок…
На сашиной голове, на коротком волосе – рубчик от форменной фуражки, такие есть только у гимназистов и кадет.
– Белая кость…белая косточка, – довольно бормочет матрос.
Он отпускает Сашу и шарит рукой по своему правому боку, ища пистолет, надёжно спрятанный в деревянной кобуре. Вынув его, он поднимает оружие на уровень плеча, стволом кверху и молча любуется Сашей.
– Кадетик… – почти нежно говорит он.
В эту минуту под аркой двора появляется беременная баба, которая несколько минут назад шла по переулку от Спиридоньевки.
– Что ж ты делаешь, ирод? – тихо говорит она. – Это же дитё…
Матрос оборачивается и отвечает:
– Уйди, тётка… хуже будет…
– Оставь, оставь, ради Христа, – умоляет она и начинает всхлипывать. – Что он тебе, сатане, сделал?
– Уйди, тебе говорят, – уже с просительной интонацией говорит матрос.
– Не бери грех на душу, – не унимается баба, – сдаётся мне, и без того на тебе грехов многонько…
Но матрос, дёрнув пистолетом, словно отмахиваясь от назойливой мухи, вдруг направляет его ствол прямо в лицо Саше и, идиотически улыбаясь, почти с нежностью говорит:
– На колени…Предки Кирсана Белых были крепостными Волховитиновых, а после 1861 года, когда все крестьяне были выведены из крепости, дед и бабушка его ещё долго жили под покровительством бывших владельцев в господском доме, выполняя несложные хозяйственные обязанности. Отец Кирсана – Кирьян, вернувшись после армейской службы в родное село, не захотел оставаться при господах и стал жить отдельно. Из соседнего Струкова взял себе в жёны работящую девушку Анисью, завёл хозяйство, скотину, огород. Жена его долго не могла забеременеть, а Кирьян хотел много детей. Сначала ходил в церковь, молился, подолгу разговаривал с батюшкой, а потом как-то в одночасье сорвался и стал пить. Был нормальный, хозяйственный, положительный мужик, а тут вдруг словно подменили человека. Напивался в смерть, бил жену, проклиная её за пустоту.
– В испытание ты мне дана, порожняя… – плакал он пьяными слезами.
Года через три-четыре – то ли Бог услышал их, то ль судьба переменилась – Анисья зачала. Но Кирьян не бросил пить, и озлобление его не сгинуло, наоборот, ещё больше озверел и бил жену, уже беременную. Анисья думала, что выкинет, уж больно злобен был мужик, всё норовил по животу ударить, но обошлось, и в срок родился мальчик – здоровый, только слабенький. Позже, правда, обнаружилось, что он бесцветный, белый да с красными глазами, но на его здоровье это никак не отражалось, родители и сверстники быстро привыкли к его необычайности и никто на это не обращал особого внимания. В свой срок определили мальчика в церковно-приходскую школу, и он окончил двухгодичный курс. Семья и хозяйство приходили, между тем, в упадок, Кирьян всё пил, Анисья чахла, скотину постепенно извели, огород уж и не сеяли.
Тринадцати лет Кирсан ушёл из дому, добрался до Москвы, поступил смазчиком в паровозное депо на Николаевской дороге, потом – на вагоноремонтный завод, а через три года стал помощником машиниста. Самой ненавистной была работа на заводе, где он в паре с помощником несколько месяцев клепал вонючие нефтяные цистерны, сидел внутри холодной ёмкости, удерживая молотом огромную заклёпку, а напарник лупил по её шляпке снаружи. Паровозное хозяйство, как и вообще любое хозяйство, где есть большие механизмы, увлекало его, но он мечтал о море, хотел ходить на кораблях и как приспел возраст, попробовал поступить в мореходную школу в Питере, но знаний было мало, и он не выдержал экзаменов. Тогда он пошёл кочегаром на судно торгового флота, а с началом войны вернулся в свою деревню. Потом его призвали в Пятый Балтийский флотский экипаж и определили сначала учиться в минно-машинную школу, а позже, по окончании её – служить – на миноносец «Стремительный». На миноносце отчасти сохранялись старые драконовские порядки; офицеры хоть и по-иному, нежели в прежние времена, относились к нижним чинам, но матрос всё же не считался вполне человеком, а уж средний комсостав, чуть что, сразу предлагал своротить скулу. Впрочем, многие и не утруждали себя предложением, за малейшую провинность лепя кулаком и в бровь, и в глаз. Кирсан не был проворным матросом, считался тугодумом и за свою медлительность, недопустимую на флоте, частенько огребал по зубам. Особенно не любили его боцманы и кондуктора, которым теснее, чем офицерам, приходилось общаться с матросами. От них Кирсан всегда получал по полной, его гоняли и в хвост и в гриву, пытаясь добиться чёткого исполнения приказов, а когда он не успевал, не справлялся или не понимал чего-то, отправляли чистить гальюн или драить палубу. Боцман Клюев ненавидел его и всегда искал случая придраться. Именно Клюев в самом начале службы на «Стремительном» выбил Кирсану зуб за то, что тот проявил мало прилежания, затачивая напильником якорные клешни. Кирсан тогда, не умея сдержать слёзы, поспешил спуститься в машинное отделение, забился там за какие-то механизмы, размазывал кровь по подбородку и, осторожно трогая разбитые губы, горько плакал до тех пор, пока к нему не пробрался машинист Евдохин. Положив нестерпимо горячую руку на голову Кирсану, он пообещал:
– Ничё, сынок, скоро и мы им пустим кровушку в ответ…
Евдохин был из питерских работяг, которых в силу технической грамотности, опускали обычно в машинное отделение. Заводские умели управляться с котлами, механизмами, чувствовали душу трудового металла, на них можно было положиться. А поскольку на своих заводах ещё до призыва они успели вкусить горькую сладость сметающей мозги большевистской пропаганды, то и здесь на судне они быстро организовались в партийную ячейку. Евдохин и ещё трое были членами РСДРП, вокруг этого ядра сплотились десятка полтора матросов. Постоянно проводили они у себя в машинном отделении тайные заседания да совещания, потихоньку вовлекая в свой круг всё новых приверженцев «справедливого» уклада. Этому способствовала и в некотором роде сонная жизнь на корабле. Война длилась уже три года, а команда знать не знала о существовании неприятеля и, само собой, в глаза его не видела. «Стремительный» без дела стоял в шхерах, а потом перешёл в Ревель, к другим беззаботным судам, уже не первый месяц томящимся здесь на якорях в бездельи и праздности. К тому же многие матросы миноносца призыва девятого-двенадцатого годов, совсем недавно отбывшие свои пятилетние сроки, в связи с началом войны были призваны вновь. Это добавляло им опасной тоски. Кроме корабельной службы они ничего не видели, ели, спали и лишь изредка сходили на берег, чтобы отвлечься в холодных объятиях проституток. В четырнадцатом году появился кокаин. Он был и раньше, но, во-первых, считался принадлежностью богемы, а во-вторых, с началом войны в стране был введён сухой закон, вследствие чего интерес к марафету стал массовым. Народу был нужен заменитель алкоголя. Поэтому очень скоро массовое заражение коксом и морфием накрыло все слои российского общества. Кокаин был доступнее, проще и демократичнее, чем морфий, для его потребления не требовались шприцы. В столицу чистый германский марафет поступал из Финляндии через Кронштадт, другим путём, более сложным и менее удобным – из оккупированных областей, – сквозь прифронтовую полосу прямиком в Питер и Москву.
Не миновал кокс и команды многих линейных кораблей, стоящих на якорях в Балтийском море. В одном только Гельсингфорсе маялась целиком первая бригада и часть второй, а в Ревеле пребывало и того больше. Каждый матрос знал, что добыть дурь можно в десятом доме по Щербакову переулку, где шакалы прожжённого барыги Вольмана торговали в грязной лавчонке не только марафетом, но и морфием, опиумом, анашой и даже эфиром. Можно было пойти в меблированные нумера на углу Невского и Пушкинской, – там была настоящая «малина». Заправлял в нумерах некто Смирнов, разбойник и убийца, сколотивший на «гоп-стопе» недурной капиталец и менявший кокаин в таблетках на краденые вещи и драгоценности, срезанные в тёмных петербургских подворотнях с буржуйских марух. Ещё проще было добыть заветный порошок у беспризорников на Николаевском вокзале или у любой уличной проститутки. Чаще всего матросы, отдолбив продажных девок, платили до кучи и за кокаин, а иногда и вместе с девками впарывались через гусиное перо.
На «Стремительном» кокс был повсюду, не брезговали им и офицеры. Кирсан впервые попробовал волшебный порошок в тот день, когда боцман Клюев выбил ему зуб. Утешая «братишку», машинист Евдохин сыпанул ему на ноготь толику лекарства, показал, как вмазывать, и Кирсан забылся. Разбитая морда больше не болела, обида на боцмана ушла, желание мести испарилось, а вместо этих радостей явились другие – гигантские фантастические розы, расцветающие среди горячих судовых машин и разноцветные шутихи, взрывающиеся в раскалённом мозгу. Он беспричинно хохотал, сладко плакал, пускал слюни и более суток потом находился в таком нескончаемом и неистощимом возбуждении, что не мог спать, не мог спокойно находиться на одном месте и всё бегал по кораблю, размахивая руками, цепляясь к матросам и рассказывая им какие-то бессвязные истории.
С тех пор кокаин стал его забавой, он снимал чувство усталости, боли, тоски, под дозой можно было не есть и не пить, не нужен был сон, не ощущалось ни жары, ни холода, словом, гнойная муть корабельной службы с помощью марафета отступала куда-то на второй план, а то и вовсе исчезала из жизни. Правда, нужно было выбирать время для сеанса, в противном случае существовала реальная опасность попасть под раздачу, и уж тогда гальюн светил неминуемо.
Денежное содержание матросов было неплохим, и потому Кирсан, как и другие его сослуживцы, мог многое себе позволить. Начальство, понимая, что команду нужно отвлекать от революционных влияний, не препятствовало её стороннему отдыху и даже поощряло увлечение вечеринками, танцами, спортом, для чего хотя бы время от времени старалось отпускать матросов на берег. В мирное время такие вечеринки с танцами, а зимой ёлки и Рождественские посиделки разрешалось устраивать прямо на кораблях, куда можно было даже приглашать дам, но с началом войны все эти увеселения перенесли в город. Матросы среди низших военных чинов сухопутных родов войск считались элитой; прослужив на своих судах год-другой, они приобретали внешний лоск, с особым шиком носили флотское обмундирование, гордились своей принадлежностью к флоту и постепенно начинали презирать всех, кто служит вне моря, даже и своих деревенских или городских земляков, попавших по призыву в солдаты. Выходя в город, эта элита и вела себя по-особому. Кирсан, покидая палубу миноносца и становясь на питерскую мостовую, позволял себе в компании сослуживцев развязность и хамство, граничащие с хулиганством, сорил деньгами, задирал барышень. Очень скоро выдаваемых ему денег стало не хватать. Вместе с Евдохиным и Жуковым, который тоже входил в круг партийных товарищей, Кирсан умудрялся находить в питерских притонах подпольный самогон, покупал кокс, сладости для проституток. Однажды наступил день, когда он проснулся в своём корабельном гамаке от мучительной дурноты и дикой головной боли. Тело ломило, каждый шаг давался с трудом, и штормило так, будто бы его судно находилось не на спокойной воде, а в открытом море. Он понял, что нужно вломить, но дозы не было. Уже один из корабельных офицеров подозрительно посмотрел на него на палубе, и боцман Клюев со злобой покрыл его виртуозным матом, уже затуманенный горизонт показался ему накренившимся вбок, а свёрнутые в бухту канаты на юте представились толстыми коварными змеями, уже он слышал в голове какие-то грубые голоса, зовущие его убить хоть кого-нибудь… Он спустился в машинное отделение, нашёл Евдохина, спросил кокаину… Тот, как-то странно ухмыляясь, потребовал денег… Денег не было… Тогда Евдохин предложил Кирсану расплатиться собой… Кирсан не понял его и ушёл… Надо было служить, но он не мог… Пошёл к судовому доктору, тот, хмурясь, осмотрел его, заставил показать язык, долго вглядывался в зрачки, дал какой-то белый порошок… Кирсан почему-то подумал, что доктор дал кокс, вынюхал его, но спасение не приходило, наоборот, мутить стало ещё сильнее. Он снова побежал на ют, сломал своё тело пополам на ограждении и стал пугать слегка качающуюся мутно-серую воду трубным рыком весеннего марала, учуявшего течную олениху. Горькая желчь уже исторгалась из него, мозг начинал кипеть, – ему не хватало воздуха, и он чувствовал, как шевелится внутри его головы какая-то мерзкая скользкая гадина, покрытая чёрными волосками, а властный голос, звучащий прямо в ушах, всё твердил и твердил: «Убей, ну, убей хоть кого-нибудь…»
Он снова пошёл в машинное отделение, кое-как спустился, и тошнотворный запах ветоши, пропитанной маслом, солярки, солидола и работающих механизмов опять вызвал у него рвотные позывы. Евдохин, голый по пояс, потный, стоял возле кучи замасленных деталей, сам замасленный от высокого лба с залысинами до слегка выпуклого живота, перемазанный машинной копотью и широко улыбался. Рядом стоял Жуков и тоже улыбался.
– Я согласен, согласен, – сказал Кирсан.
Евдохин улыбнулся ещё шире, отошёл к бачку с водой, взял алюминиевую кружку на цепочке, хлебнул из неё… Остаток воды плеснул себе на ладонь, мимолётно умылся… Кирсану, глядя на него, захотелось пить… Евдохин успокаивающим жестом показал: «Сейчас…», скрылся за турбиной, недолго повозился там и вынес бумажку с завёрнутой в неё дозой. Порошок он высыпал на коробку папирос, а из бумажки свернул трубочку и дал её Кирсану. Через несколько минут Кирсан поплыл. Но Евдохин растолкал его, пару раз хлопнул по щекам и сказал: