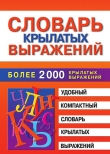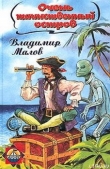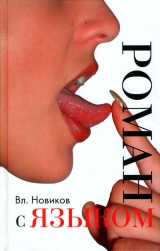
Текст книги "Сорок два свидания с русской речью"
Автор книги: Владимир Новиков
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
Я все вопросы освещу сполна…
Интересные письма получаю от читателей.
Зинаида Григорьевна Высоцкая, библиотекарь, с пятидесятилетним стажем, совершенно справедливо считает, что грамматический род аббревиатур определяется по главному слову. БАН (Библиотека Академии наук) и БЕН (Библиотека по естественным наукам) – женского рода, а ВИНИТИ (Всесоюзный институт научно-технической информации) – мужского. Но, как отмечает читательница, «во многих публикациях и в устной речи чаще всего о БАН и БЕН говорят „он“, а о ВИНИТИ пишут „оно“». Да, в публикациях стоит держаться нормы: «БАН получила новые издания». Но в неформальной речи не грех и приспособить грамматический род к фонетическому облику аббревиатуры: «выхожу из БАНа, а навстречу мне Петров». Порой разговорный язык влияет на норму: так, в порядке исключения ТАСС некогда сделался словом мужского рода, а не среднего, как того требовало ключевое слово «агентство».
Читательница В. В. Кочеткова (не указавшая своего имени и отчества), предлагает все-таки вернуться к былым формам обращения «сударь» и «сударыня». Дескать, пресса должна «развернуть кампанию» по этому поводу. Нет, это не выход. Попробуйте, сударыня, для начала внедрить старинные именования в кругу своих знакомых, и, если, «процесс пойдет», то мы присоединимся.
Сразу несколько существенных вопросов ставит Лев Андреевич Кобяков, инженер-строитель и, как он сам себя называет, «филолог-расстрига»: некогда учился на филфаке МГУ и жил в одной общежитской комнате с Венедиктом Ерофеевым. Своим любимым писателем Лев Андреевич считает Владимира Ивановича Даля, чей четырехтомный словарь взял бы с собой и в космос, и на необитаемый остров.
Поклонника Даля беспокоит «неумение многих публичных людей склонять числительные». Да уж, в этом болоте ораторы тонут один за другим. Например, большинство думских депутатов живет в «двухтыще-седьмом» году, хотя правильно выговорить сочетание «две тысячи седьмой» – невелик труд. Эти господа вообще работать не любят и безбожно прогуливают заседания. Потому и по русскому устному у них двойка. А ведь с составными порядковыми числительными все так просто: изменяйте только последнее слово, а предыдущие не трогайте.
Сложнее с числительными количественными: там надо «склонить» каждое слово, и не абы как, а с толком. Ну-ка, прочитайте вслух: «кошелек с 888 рублями». Даже если вы произнесете правильно: «восемьюстами восемьюдесятью восемью», то и сами вымотаетесь, и собеседника утомите. Рекомендую такую уловку – искать синонимичную конструкцию, где числительное стоит в именительном падеже: «денег в кошельке – восемьсот восемьдесят восемь рублей». Все-таки полегче!
Льву Андреевичу также не нравится подмена устойчивого выражения «принять меры» некорректным сочетанием «предпринять меры». Мне тоже! Глагол «предпринять» означает «начать делать что-нибудь, приступить к чему-либо». Предпринять можно действия, шаги. Однако в последнее время предпринимается бюрократическая агрессия на языковую норму. Чиновникам приятнее не короткий деловой глагол «принять», а солидное «предпринять»: добавляя приставку, они хотят затянуть принятие мер. Помните знаменитую формулу Ильфа и Петрова: вместо «подметайте улицы» – «позор срывщикам кампании по борьбе за подметание»? Заглянул я в Яндекс: на грамотное «принять меры» – четыре миллиона документов, на неграмотное «предпринять меры» – один миллион. Счет в нашу пользу!
Ну, и наконец проблема географических названий типа «Бородино», «Свиблово», «Переделкино». Пока по существующей норме они должны склоняться. Спасибо Лермонтову за хорошую рифму, благодаря которой «помнит вся Россия про день Бородина!» И побывать хочется в Бородине, а не «в Бородино». Заядлым москволюбам режут слух «магазин в Черкизово» и «аэродром в Тушино». Они хотят жить в Щукине и в Выхине, смотреть телепередачи, сделанные в Останкине.
Несколько иначе обстоит дело в Питере. Там даже от интеллигентных людей можно услышать: «Ахматова жила в Комарово» (а не «в Комарове», как настойчиво рекомендуют московские словари). Может быть, это из северной столицы ветер дует в нашу сторону? В большом коллективном труде «Русский язык конца XX столетия» Н. Е. Ильина еще десять лет назад отмечала, что «несклоняемые существительные на – ино, – овопостепенно захватывают позиции в средствах массовой информации». И не только в них. Тенденция к «несклоняемости» нашла красноречивое отражение в названии детского бестселлера Эдуарда Успенского «Каникулы в Простоквашино». Вспомнят будущие составители словарей любимый с детства мультфильм, да и узаконят такую форму. А что? С недавних пор лингвисты признали допустимыми «сто грамм» и «пять килограмм», хотя лично я никак не могу обойтись без «граммов» и «килограммов».
Попробуем побороться. Способ только один – держаться традиционной нормы, показывая личный речевой пример детям, внукам, коллегам и приятелям. Будем упорно склонять наши любимые топонимы (от Абрамцева до Ясенева) – и чаша языковых весов склонится в нашу сторону.
Самые интимные слова
У выхода из станции метро мне вручили брошюру «Спросите „Родину“!». Страниц в ней всего шестнадцать, зато тираж – полмиллиона. Таких цифр, кажется, не бывало со времен «Политиздата» и отчетных докладов товарища Леонида Ильича Брежнева. Приношу домой, открываю и нахожу на четвертой странице следующее определение: «Национализм – это особенное, обостренное чувство любви к своему народу».
Что-то, думаю, не так. Любовь к своему народу – чувство высокое и благородное, даже если оно обострено – как у Блока или Есенина. А слово «национализм» в русском языке имеет негативную окраску. Откроем словарь Ожегова: «1. Идеология и политика, исходящая из идей национального превосходства и противопоставления своей нации другим. 2. Проявление психологии национального превосходства, национального антагонизма, идеи национальной замкнутости». Как видите, ни малейшего намека на любовь. Имеется «национализм» и в «Словаре иностранных слов» Л. П. Крысина, поскольку слово-то французского происхождения. И тут никаких амуров: «Идеология и политика, направленные на разжигание национальной вражды путем утверждения превосходства одной нации над другими».
В чем неоспоримое достоинство толковых словарей? В том, что они толкуют значения слов исходя только из духа языка. А язык по-хорошему консервативен и не сгибается в угоду политической конъюнктуре или пожеланиям авторитетныхлиц. Были некогда попытки говорить о «хорошем» национализме, но русский язык их не принял, не развернулся в почтительном поклоне на сто восемьдесят градусов. Как ни уговаривайте, а черное белым называть он не станет. Можно с уверенностью сказать: слово «национализм» никогда не приобретет в русском языке положительной оценочной окраски.
Заглянем в толковые словари английского, французского и немецкого языков. И там «национализм» трактуется в целом негативно. Указывается, правда, второе значение этого слова: стремление колониальных народов к независимости и созданию собственных государств. В нашей стране это предпочитали называть «национально-освободительным движением». Слово «нация», восходящее к латинскому глаголу «nascere» (рождать) – лексический интернационализм, имеющийся во многих языках. У него два значения. Во-первых, это этническая общность людей. Во-вторых, «нацией» именуют государство (например, Организация Объединенных Наций). В языках эти два значения уживаются, в социально-политической реальности – не всегда, чему свидетельство – последние события во Франции.
Слово «национальный» в нашем языке по аналогии со всемирным словоупотреблением все чаще стало означать «государственный». Скажем, знаменитая питерская «Публичка» теперь именуется Российской национальной библиотекой. Слово «государственный» постепенно оттесняется как связанное с советским прошлым. Но всегда ли уместно определение «национальный» применительно к стране, которая все еще остается многонациональной? Это проблема, конечно, не только словесная. Выбор прилагательного – дело второе. Предстоит серьезно разбираться с существительными, с реальными сущностями.
Впрочем, мудрость, отстоявшаяся в родной речи, дает нам некоторые нравственные ориентиры. Русскому языку свойственна повышенная деликатность в вопросах народности и патриотизма. Само слово «патриот» наша литература воспринимала как слишком громкое. Пушкину оно казалось экзотичным и не совсем русским: «Чем ныне явится? Мельмотом, космополитом, патриотом… Иль маской щегольнет иной…» Заметьте: «патриот» для Пушкина – это не более чем маска. Над этим словом подшучивал и Грибоедов. Помните, как Фамусов говорит о московских девицах: «К военным людям так и льнут, а потому, что патриотки». Потом Лев Толстой в «Войне и мире» показал всю пустоту псевдопатриотической риторики и обозначил как истинную ценность «скрытую теплоту патриотизма», присущую простым русским людям.
«Люблю отчизну я, но странною любовью» – эта лермонтовская строка остается нашим духовным камертоном. Что значит «странная любовь»? Это чувство целомудренное, интимное, стесняющееся громких слов и деклараций. А песни типа «Россия, Россия, Россия – родина моя!» – это слишком легкая музыка, не наполненная ни глубокой мыслью, ни реальной гражданской ответственностью.
Традиционный образ мировой поэзии – Родина-мать. А в отечественной лирике есть еще и смелое блоковское «Русь моя, жена моя». Истинное сыновнее чувство, подлинная супружеская любовь не выставляются напоказ.
Наши поэты умели говорить о своей привязанности к России как чувстве неожиданном и парадоксальном:
Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси?
Это Есенин. Обратите внимание на синтаксический сдвиг. Вроде бы нельзя так употреблять деепричастия. «Радуясь, свирепствуя и мучась» не сочетаются с безличным глаголом «живется». Шероховатость по модели «проезжая мимо станции, с меня слетела шляпа». Но эмоционально этот речевой изгиб работает. И что еще важно: «у всех у нас такая участь». У всех, а не специально назначенных патриотов.
Спросите Родину. Не «Родину» в кавычках, не скороспелую и быстро увядшую партию, а нашу многострадальную и для всех общую отчизну. Какая любовь ей самой нужна? И она ответит: только молчаливая и сдержанная, без громких признаний и демонстраций. Такова наша национальная традиция, от которой нет надобности отступать.
Нельзя ли помягче?
Жизнь жестка, порой жестока. Очень нам всем не хватает мягкости. О ней и пойдет сегодня речь – в буквальном смысле и переносном.
Что согласные звуки бывают твердые и мягкие – ведают уже школьники младших классов. Но, подрастая, об этом благополучно забывают. А между тем различение мягкости и твердости в некоторых случаях – это принципиальный вопрос речевой культуры.
– Опубликована рецензия на мою работу! – радостно извещает некто, произнося заветное слово не с мягким «н» – «реценьзия», (именно так велит норма!), а с противно твердым. Ну, прямо железом по стеклу! Это ошибка не менее грубая, чем пресловутое «ложить». Носитель такого произношения заслуживает только отрицательной рецензии. Тем более что само это слово – из лексикона людей, претендующих на причастность к науке и культуре.
По сути все довольно просто. Зубные согласные перед мягкими зубными, как правило, произносятся мягко. Вам уже скучно стало? Хорошо, не стану морочить вам голову и объяснять, какие согласные относятся к зубным. Проще указать конкретные слова, в которых чаще всего допускается подобная ошибка. Вот вам, к примеру, три важных слова, в которых для наглядности мы выделяем те самые мягкие звуки: беНЬзин, пеНЬсия, пеСЬня. Во всех трех случаях произнесение твердых согласных в указанных местах крайне нежелательно.
Кто-то скажет: а я и так все эти слова правильно произношу, без всяких инструкций. Что ж, очевидно, у вас хороший слух, да к тому же вы с детства вращались в высококультурной среде, усвоив там орфоэпические навыки. Но не у всех со слухом благополучно. Алексей Герман как-то поведал телезрителям самую главную тайну Андрея Миронова. Да нет, не про амуры, про другое. Оказывается, у прославленного актера, так часто певшего на сцене и в кино, просто не было музыкального слуха. Ему приходилось каждую песню («песьню»!) разучивать по нотам. Или вот такая аналогия: иная счастливая женщина съест одно за другим пять пирожных, а талия у нее от этого ни на миллиметр не увеличится. Зачем ей знать про какие-то там калории? А другим приходится даже ломтик жареной картошки строго оценивать с точки зрения калорийности. Так и с речью обстоит дело: у кого-то она естественно безупречна, а кому-то надо себя контролировать, сомневаться, справляться в словарях.
«Осторожно, двери закрываются!» – звучит голос диктора. Спокойный темп, мягкий бархатный тембр, да еще к тому же еще ласкающее слух слово «дьвери». Хороший диктор, он и перед губными звуками зубные мягко произносит. С благородной традиционностью. Но это уже по нынешним временам роскошь, это прямо-таки «от кутюр», а нам бы для начала речевое «прет-а-порте» надо освоить как следует.
В русском языке много заимствованных слов. В некоторых из них перед «е» звучит мягкий согласный, в некоторых – твердый. Иногда позволяются два варианта: можно говорить «рЕтро», а можно «рЭтро» – по вкусу. Но часто норма бывает жесткой и однозначной. Например, «текст» и все от него производные слова произносятся только с мягким «т». Тот, кто, защищая диссертацию, начнет говорить о «тЭксте» и «контЭксте» рискует получить «черный шар» от строгого ревнителя орфоэпии. Так получилось, что иные научные термины, да и само слово «термин» требуют мягкого «т». А вот сугубо бытовые слова «бутерброд» и «свитер» произносятся на солидный манер: «бутЭрброд», «свитЭр» – и никак иначе. Общей закономерности нет. К тому же нормы непрерывно меняются. Писатель Юрий Тынянов в 1930-х годах морщился, слыша, слово «тенор» с мягким «т»: «Это какой-то кенарь», – говорил он. Люди его круга тогда признавали только «тЭнора», а теперь такое произношение считается неправильным.
Как тут быть? Выход один – с каждым проблемным словом разбираться персонально. Скажем, авторитетные словари рекомендуют говорить: «бизнЭсмЕн» и «мЕрсЭдЭс». Не надо уж все-то согласные делать здесь твердыми и с лакейской манерностью лебезить: «БизнЭсмЭн» сел в «мЭрсЭдЭс».
Хорошо бы нам всем миром составить список на сотню подобных слов: один столбец – на мягкое произношение («тЕрминал»), второй – на твердое («компьютЭр»), а третий – где можно и так и так («тЕррор» и «тЭррор»). Какие слова из этого ряда – самые важные и нужные? Тут без читательского обсуждения не обойтись.
Но помимо мягкости фонетической, есть еще и мягкость смысловая. Особенно она необходима при сообщении малоприятных известий. А наши информационники слишком склонны ударять нас по голове самыми страшными и жестокими словами. Входишь в «Яндекс» – и читаешь в новостях: «Расстреляны три сотрудника ГАИ». Что, снова введена смертная казнь? (Именно с ней связывают толковые словари и существительное «расстрел», и глагол «расстрелять»). Да нет, речь о том, что сотрудники застрелены бандитами. Есть разница. Не менее чудовищно, когда вслед за сообщением о том, что некий генеральный директор «расстрелян», добавляют: «и госпитализирован». Оказывается, он только ранен. А что если это прочитают его друзья или близкие? Нам, гражданам страны, так пострадавшей от массовых расстрелов, стоит быть тактичнее в выборе слов.
Мягкая, деликатная речь отличается и комфортной для собеседников акустикой. Не слишком ли мы глушим друг друга пронзительно-звонкими реляциями? В сказке «Джельсомино в стране лжецов» главный герой своим голосом разбивал стеклянную посуду и даже мог вогнать футбольный мяч в ворота. Есть на телевидении один такой Джельсомино – Андрей Малахов. Кричит как на пожаре, привлекая внимание к социальным язвам. Пускай. Но если все начнут так вопить – мы же просто с ума сойдем! А как терзает наш слух грубая, отрывистая, лающая интонация речей многих народных избранников…
Прислушайтесь к тому, как вы говорите. В Евангелии от Луки сказано: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». А наша речь пусть будет такой, какую мы хотим слышать от других.
Наш старый новый язык
Все-таки мы не совсем еще разучились радоваться жизни. Живет в наших душах «праздник ожидания праздника», по удачному выражению Фазиля Искандера. Особенно этот феномен ощутим в период с 25 декабря по 14 января, когда, отгуляв за одним столом, мы уже предвкушаем следующее застолье.
Давайте только разберемся, как правильно именовать дату, отмечаемую двадцать пятого января. «В прошлом году на католическое Рождество мы решили поехать в Таиланд», – рассказывает с телеэкрана молодая дама. Поначалу даже удивляешься: при чем тут католичество, если в Таиланде господствует буддизм? Ладно, не будем придираться. Слава Богу, что эта женщина и ее семья уцелели во время нагрянувшего тогда страшного цунами и вернулись в Москву. А часто повторяемое выражение «католическое Рождество» неточно потому, что 25 декабря рождение Христа отмечают не только католики, но и протестанты, а также представители некоторых православных церквей. Правильно будет сказать: Рождество по новому стилю, или Рождество по григорианскому календарю. Русская же православная церковь отсчитывает время по старому стилю, по юлианскому календарю. Дадим себе труд запомнить, придумав что-нибудь вроде такой присказки: у них Гриша, у нас – Юля.
В советское время Рождество было вычеркнуто из календарей и словарей, но потом оно вернулось, став государственным праздником 7 января, да еще и в обрамлении общенациональных каникул. Гуляют истово верующие, и полуверующие, и откровенные атеисты. И нет пока, к счастью, занудных претензий насчет ущемления других конфессий. Думаю, еще и потому, что в России существует такая всеобъединяющая религия, как Поэзия. Рождество – яркий поэтический символ. «Вдруг Юра подумал, что Блок – это явление Рождества во всех областях русской жизни…», – читаем в романе «Доктор Живаго». Есть вера в Бога, есть вера в Блока. И живую душу не может не тронуть один из шедевров нашей поэзии – стихотворение «Рождественская звезда»:
И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.
Так писал Пастернак в январе 1947 года. А еще вспоминается, что Иосиф Бродский с начала 60-х годов и до конца жизни в каждый канун Рождества слагал стихи на эту неисчерпаемую тему, находя для нее все новые слова и повороты мысли.
Рождество в православном календаре относится к «двунадесятым» праздникам, то есть к двенадцати важнейшим датам. А первого января (по новому стилю – четырнадцатого) один из «великих праздников» – Обрезание Господне. Такой операции младенец Христос по иудейскому обычаю был подвергнут, когда достиг недельного возраста, на эту тему есть картина у Рембрандта. Кстати, до некоторых пор словари требовали называть сей ритуал с особым ударением – «обрЕзание», но теперь этот вариант постепенно становится устаревшим. Лучший, на мой взгляд, русский церковный писатель Феофан Затворник, мастер эмоционально-доходчивой метафоры, говорил об «обрезании сердца», призывая в этот день христиан отсекать от своих душ все недобрые и темные страсти.
Христианское Рождество и светский Новый год вполне гармонично соединились в нашей жизни и в нашем языке, на поздравительных открытках и на почтовых марках. Циферблат кремлевских часов и бокал шампанского рождают в человеческих душах трепет, подобный религиозному. Звон курантов – знак надежды на новое счастье, и в этом смысле верующие – все.
Хочется повторить это ощущение еще раз, и разнобой календарных стилей дал нам возможность вступать в новую жизнь еще и в ночь с 13 на 14 января, то есть на первое января по юлианскому календарю. Мне кажется, что это традиция сугубо московская: в Сибири, где я провел детство, такого обычая раньше не было; может быть, теперь появился. Специфическим московским колоритом отмечена комедия Михаила Рощина «Старый Новый год». Она шла во МХАТе, и, приветствуя Олега Ефремова в день его юбилея от имени Театра на Таганке, Владимир Высоцкий пел:
Во многом совпадают интересы:
Мы тоже пьем за старый Новый год…
Само это сочетание «старый новый» достойно изумления: эпитеты с противоположным значением мирно встали рядом. Что до Высоцкого, то он, как известно, закончил Школу-студию при МХАТе, где усвоил навыки традиционной сценической речи, а работал потом в самом авангардном по тем временам театре Юрия Любимова. И в языке Высоцкого трогательно сочетались старина и новизна. К примеру, слово «поэт» позволительно произносить «паэт», но Высоцкий держался за мхатовскую орфоэпическую норму. Он говорил и пел только «поэт», подчеркивая тем самым страстную веру в чудо стиха. А в своей легендарной песне «О фатальных датах и цифрах», размышляя о судьбах Пушкина, Лермонтова, Маяковского, он произносит на старинный манер: «Маяковскый» – и эта фонетическая краска помогает органично включить советского поэта в классически-трагический ряд.
Такой баланс старого и нового, традиционного и ультрасовременного – это идеал живого поэтического языка. Да и обыденная наша речь становится живее и выразительнее, когда в ней мелькнет, как драгоценный камешек, редкий славянизм или евангельское изречение. «Влечет меня старинный слог» – признавалась еще в шестидесятые годы Белла Ахмадулина, будучи поэтессой новаторского почерка. Успех ее стихов крепко поддержан элегантным речевым поведением на сцене, на телеэкране. И такая роскошная манера в принципе доступна не только поэтам, но и всем желающим высоко держать голову, блюсти достоинство личности.