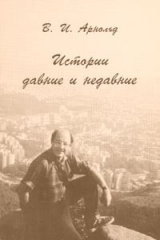
Текст книги "Истории давние и недавние"
Автор книги: Владимир Арнольд
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Арнольд В. И
Истории давние и недавние
Предисловие
Весной 1998 года парижская полиция подобрала меня, лежащего без чувств с пробитым лбом рядом с моим велосипедом, и доставила в больницу. За несколько недель французские врачи вытащили меня из бессознательного состояния. Но я не узнавал сына и сказал о жене:
– Эта женщина утверждает, что она моя жена.
Врач поинтересовалась:
– А сколько лет вы женаты?
Я правильно ответил:
– Двадцать четыре.
Врач записала: «Арифметические способности сохранены».
Потом французские врачи говорили мне, что при таких повреждениях мозга любой француз умер бы сразу.
– Но русские – двужильные, – добавили они. – Несколько месяцев ещё проживёте.
В западном учебнике я прочёл о смертельных дозах ядов: «Что касается алкоголя, то для русских смертельная доза в несколько раз выше». Видимо, с травмами дело обстоит аналогично.
Впрочем, когда я и через полгода не умер, а напротив, стал выздоравливать, то врачи нашли для этого научное оправдание: они обнаружили, что я, не зная того, переученный левша. А в таком случае неповреждённое полушарие мозга может временно взять на себя функции повреждённого, пока то не оправится, что и произошло.
Французские врачи запретили мне не только заниматься математикой, но и писать о ней. Однако отвечать на письма многих друзей не запрещалось. Из таких ответов и возникли многие тексты, собранные в этой книжке. Я не думал тогда об их издании, поскольку считал в то время, что вот-вот умру.
Необычным оказалось то, что у этих записей были черновики (обычно я сразу пишу на нужном языке набело). И когда я наткнулся на эти черновики пару лет спустя, то понял, что читать их интересно не только мне. При подготовке записей к изданию кое-что пришлось уточнять, пояснять, дописывать; заодно были написаны несколько новых историй. Так получилась эта книжка.
Первые воспоминания
Первые мои воспоминания – село Редькино под Востряковым; думаю, июнь 1941 года. Солнце играет на внутренности сруба, смолятся сосновые бревна; на речке Рожайке – песок, перекат, синие стрекозы; у меня была деревянная лошадка «Зорька» и разрешалось мне покормить с руки куском чёрного хлеба с солью здорового коня. Конь таскал сеялку и после жнейку, сиденье железное в дырочках – мечта!
Но вот началась война: бомбоубежище в Москве на Трубниковском; роем окопы (щели) в своем саду (на Спасопесковском, дом 8); театр Вахтангова разбомблен при попытке попасть в Бородинский мост; лучи прожекторов, самолёты, осколки…
Эвакуация в Казань и потом в Магнитогорск. В Казани я спал у Чеботарёва под роялем, но помню больше кино в парке – паровоз идёт на нас с простыни… Потом Магнитогорск – совсем другой мир: просо, огороды, дежурства. Друзья: Катаевы, Урновы – в том же доме. «Красная Шапочка» на Новый год (девочек не было, роль Шапочки досталась мне). Начал учить французский (бабушка долго жила в Страсбурге с братом Л.И. Мандельштамом и у меня, говорят, до сих пор сохранился страсбургский акцент). Первая книжка – «Робинзон Крузо», позже «Таинственный остров». Писать я всё же сперва научился по-русски. И родители, и бабушка болтали свободно по-английски, по-немецки и по-французски, но я понимал только французский.
За молоком – в деревню. Веретено и пряжа. Мены. Сбор урожая проса и картошки с нашего участка. Проливные дожди и потоп. Люди тонули, не могли вернуться с участков. Мать преподавала английский кому-то в дирекции завода, за ней приезжал роскошный автомобиль с откидными сиденьями (линкольн, кажется).
Северо-западное направление
В эвакуации в Магнитогорске у нас часто бывала Надежда Ивановна Слонова, актриса Московского театра сатиры. В своих опубликованных в виде книги воспоминаниях она рассказывает, что, зайдя однажды, застала одного меня, пяти летнего.
– Где мама? – спросила гостья.
– Ушла!
– Куда?
– В северо-западном направлении.
Мне так было понятнее!
Сейчас я узнал, что некоторые папуасские племена только так и указывают направление: наши бессмысленные «вперёд», «налево» и т. п. не употребляют. Но, кажется, помещённые среди европейцев, их дети тотчас обучаются нашей ерунде.
Из Магнитогорских воспоминаний помню велосипед, сделанный мне отцом из танкового катка (он работал на бронетанковом заводе, преподавал математику). Но и я ему помогал: когда он пытался найти для четырёхногой табуретки место на полу, чтобы все её ножки опирались, то я сказал:
– Ты уже повернул её больше, чем на 90°, и не вышло – значит, табуретка кривая, без пилы не обойтись!
В семь лет, уже в Москве, я увёл брата (ему было четыре) обходить Садовое кольцо и благополучно обошёл за три часа его 16 км. Родители не боялись – однажды, правда, защищая брата, я чуть не убил (сапёрной лопаткой) соседского мальчишку, так что скорее боялись меня, чем я.
Помню ещё, как я защищал брата от его попытки, бросая камни, разбить окно в трамвае – это могло кончиться, как с соседским парнем, Магнитогорской больницей.
Вера Степановна Арнольд (Житкова)
Вера Степановна Арнольд, отцова мать, была большевичкой и бестужевкой, в 1905 году посажена, но отпущена за границу (в Париж и Цюрих) лечиться. Отец учился в гимназии в Цюрихе, сохранял карты своих походов, резал по дереву; Колмогоров, позже учившийся с ним в аспирантуре МГУ, говорил мне, что была в отце какая-то не русская обязательность и добросовестность.
Он рано начал показывать мне математику, вывешивая у кровати плакаты вроде

Но я не знал, что это математика, думал – просто игрушки. Задач не помню. Помню скалолазные упражнения на пятиметровых стенках – не падал, но освоил нужду в трёх опорах.
Братом Веры Степановны был писатель Борис Степанович Житков – отличные воспоминания об обоих оставил Корней Иванович Чуковский, учившийся с Житковым в одном классе гимназии в Одессе.
Рассказы Житкова и, особенно, его книжка «Что я видел», одним из героев которой была наша собака, пудель Инзол, входила в число моих первых книг. В семье считалось, что меня роднит с Б.С. и деспотический характер (об этом свойстве характера Б.С. хорошо написал в своих воспоминаниях Е. Шварц [1]1
Шварц описывает жестокую борьбу между Житковым и Маршаком за первенство в издаваемом всеми ими детском журнале: ежедневно приходилось решать, кому заказывать рисунки – Бианки или Ватагину, Чарушину или Конашевичу – и никто не хотел уступить.
[Закрыть]), и умение рассказывать, и специфическая любовь к географии дальних странствий и картам. Житков умер в 1938 году, мне досталась от него семейная астрономическая труба времён Крымской войны (в которой участвовали четыре адмирала из семьи Житковых).
Прадед, Степан Васильевич Житков (у могилы которого в Ваганькове похоронены и мои бабушка, отец и мать) был первым из шести поколений математиков в нашей семье (седьмое – мои малолетние правнуки – пока ещё не выбрали себе специальности). Хотя прадед командовал в банке, а учебники математики писал уже заодно, всё же от своих детей он ежевечерне требовал отчёта: «А что ты сегодня сделал для меньшого брата?» (т. е. для эксплуатируемых трудящихся). В результате все они выросли революционерами, а его сын женился на племяннице Плеханова.
Главная книга этого сына, Б.С. Житкова – «Виктор Вавач» – описывает революцию 1905 года и, на мой взгляд, содержит портреты большинства членов этой яркой семьи. Книга была закончена в 1938 году и уже была набрана, но её публикацию остановил Фадеев, сказавший, что уж чересчур она правдива. Тираж был уничтожен, но, к счастью, Лидия Корнеевна Чуковская ухитрилась спасти в редакции один экземпляр, и теперь (60 лет спустя) книга ею издана.
На меня сильно влияли обе бабушкины сестры. Химик и художник тётя Саша пыталась исправить мою манеру рисовать и мои акварели, но я до сих пор не убеждён её рекомендациями использовать для рисования рассудок – выбирать выигрышные сюжеты и освещение, и даже часть листа бумаги. Я же всё ещё считаю такие хитрости унизительными и для рисования, и для математики, и для других искусств: главное – быть мастером!
Тётя Саша пыталась учить моего брата то спектральному анализу, то взрывчатым веществам, но он всё же выбрал не химию, а физику, и работает теперь в Институте атомной энергии им. Курчатова.
Художником же стал не я, а моя сестра Катя, которой был год (а мне – одиннадцать), когда умер наш отец (так что с тех пор мне пришлось играть его роль в её воспитании). Она издала множество английских книг для повышения культуры американцев со своим текстом и своими же рисунками – про Бабу Ягу, про собирание грибов и т. д.; теперь их перевели на разные языки, вплоть до японского. Но в последние годы, выйдя из-под моего влияния, Катя переквалифицировалась и стала обучать живописи не американцев, а слонов. По её словам, особенно талантливы молодые таиландские слонята, только обязательно надо их учить не по одному, а целыми дюжинами. Каждый слонёнок выбирает себе прямоугольный участок на полотне, а затем они, рисуя, учатся друг у друга и соревнуются – у кого лучше получится. Картины их всегда совершенно абстрактные, ярко красочные и, думаю, пользующиеся большим спросом среди американцев.
Другая сестра Веры Степановны – тётя Надя – преподавала французский в Институте иностранных языков. Для неё я должен был каждую неделю писать по-французски сочинение на какую-нибудь интересующую нас обоих тему: от стихов Пушкина до французских эпиграмм XVII века, от истории и архитектуры Риги до географии озёр Валдайской возвышенности, от рациона и повадок медведей разных цветов до моей сушки лыжной одежды у печки при ночёвке в избе близ Парамоновского оврага на Волгуше.
Но, к сожалению, сколько тётя Надя ни полировала мой французский, я и до сих пор пишу с не меньшим числом ошибок, чем большинство французских математиков, и не смог бы правильно написать приготовленный Мериме для двора Наполеона III диктант (где требовалось различать орфографию звучащих одинаково названий частей туш разных животных). Не сумел я ни тогда, ни когда-либо позже полюбить стихи Гюго, восхищение которыми французов остаётся для меня тайной французской души (их любовь к стихам Гюго кажется мне сходной с преклонением русских XIX века перед романом Чернышевского).
Мой дед, Владимир Фёдорович Арнольд, окончив Тимирязевку, занимался математической экономикой в стиле Вольраса и Парето и даже переписывал теории Маркса об обмене топоров на полотно в виде дифференциальных и конечно-разностных уравнений.
Вера Степановна спаслась от репрессий каким-то чудом и искусством, накопленным подпольщицей до революции. Она, смеясь, читала не то в «Правде», не то в «Известиях», статьи, где она упоминалась как давно погибшая революционерка. Вернувшись после революции в Россию, она стала сперва высокопоставленным работником в области статистики, порой заведовала кафедрой в Университете, порой губернским статбюро (в Одессе), позже была членом коллегии ЦСУ в Москве. Но когда рядом начали сажать (в конце 20-х годов), она быстро бросила все свои ответственные посты и занялась искусством: она снимала у себя на столе диафильмы (например, по басням Крылова и детским сказкам), героев которых лепила из пластилина, а декорации к которым (включая тропический лес) делала из дров.
После войны, в Москве, стол был занят изготовленным ею из глины и пластилина морем, на котором устанавливали модели военных кораблей и снимали стереокадры для тренировок морских офицеров.
Первые научные воспоминания
Быть может, наибольшее научное влияние оказали на меня из числа моих родственников двое моих дядьёв: Николай Борисович Житков (сын брата моей бабушки писателя Бориса Житкова, инженер-буровик) за полчаса объяснил двенадцатилетнему подростку математический анализ (иллюстрируя его параболоидальной формой поверхности чая, вращающегося вокруг оси в стакане), а Михаил Александрович Исакович (брат моей матери, физик) пробовал на мне многочисленные задачи и главы учебника физики, который он писал в составе большого коллектива, руководимого Г.С. Ландсбергом (оба были учениками Л.И. Мандельштама, крупнейшего физика и радиотехника, брата другой моей бабушки).
Свой первый научный доклад я сделал в возрасте лет десяти в «добровольном научном обществе», организованном Алексеем Андреевичем Ляпуновым у себя дома. Там мы занимались то физикой, то биологией (включая запрещённую генетику и кибернетику), то космологией, то геологией. Мой доклад был об интерференции волн, с опытами в ванне, с описанием определения положения самолёта над Тихим океаном по пересечению двух гипербол (заданных разностями фаз сигналов от трёх радиостанций): заодно я разобрал и объяснил теорию конических сечений, сферы Данделена, переход от эллипсов к параболам и к гиперболам, с одной стороны, и принцип Гюйгенса теории распространения волн, с другой. «Общество» собиралось еженедельно, и мы все сохранили наилучшие отношения, хотя в дальнейшем занимались разными вещами: один стал знаменитым кардиологом, несколько членов общества теперь академики РАН.
На время весенних школьных каникул мы отправлялись в деревню, на хутор мельничихи Магдалины Петровны близ Пушкинского Захарова. Однажды (мне было, вероятно, лет одиннадцать) мы – члены «Общества» – втроём побежали на лыжах километров за двадцать по лесу без лыжни в Мозжинку (около Звенигорода), где жили Ляпуновы. Карты у нас не было, но бежать надо было почти точно на север. Ляпуновы благополучно напоили нас чаем, но обратный путь на лыжах оказался труднее, так как, во-первых, стемнело, а во-вторых, лёд на Москве-реке, которую нам надо было опять перейти, уж очень трещал (вскрылась же она только на следующий день, так что под лёд я всерьёз провалился лишь десятью годами позже). Кончилась эта экспедиция благополучным возвращением, благодаря взошедшей луне, – мы прибежали домой даже раньше полуночи.
С тех пор я бегаю по этим местам каждый март – впоследствии со своими учениками, причём длина трассы (продолженной до Опалихи) достигает 60 км, а некоторые речки преодолевать приходится иногда вплавь.
Быть может, главным для меня выводом из моих частых детских разговоров с замечательными учёными разных специальностей было ощущение глубокого единства всех наук (включая не только математику, физику и астрономию, но и лингвистику, и археологию, и генетику), да и всей европейской культуры, от Лукреция до Бенвенуто Челлини и от Марка Аврелия до капитана Скотта. Один и тот же человек мог рассказывать нам и об особенностях греческого театра, и о квантово-механическом соотношении неопределённостей. Алексей Андреевич Ляпунов, математик и логик, демонстрировал детям теорию Канта – Лапласа образования Солнечной системы, вращая в колбе смесь анилина с глицерином, пока анилин не собирался в подобные планетам шары. И он же давал нам читать сочинения шлиссельбуржца Морозова, дискутировавшего историческую хронологию с астрономических позиций; но при обсуждении этих проблем никогда не возникал тот вздор, которым их окружили безответственные продолжатели Морозова позже.
Удивительно, сколь много могут перенимать дети от людей этого «нобелевского» уровня просто в повседневном общении.
Род Арнольдов
Род Арнольдов происходит от прусского офицера Петрэ Арнольда, убившего друга на дуэли и спасшегося в России XVIII века от преследований своего жестоко наказывавшего за дуэли короля. Его потомки были уже офицерами русской службы, дойдя даже до генеральских чинов и должности предводителя дворянства. Среди их жён встречаются и шведка, и персиянка, и француженка, но жили все всегда в России и большинство жён были исконно русскими. Мой дед, экономист и математик Владимир Фёдорович Арнольд, умер в 1918 году в Херсоне.
Дед по матери, Александр Соломонович Исакович, жил в Одессе и был адвокатом до того, как его арестовали в 1938 году; в соответствии с общим планом распределения репрессий по специальностям за год до этого его уже арестовывали, но выпустили, сказав ему, что он им уже больше не нужен, «так как план на этот месяц уже выполнен».
Через некоторое время после ареста семье ответили, что он «признал себя шпионившим в пользу Германии, Англии, Греции и Японии», и отправлен в концлагерь «на 10 лет без права переписки». Зловещий смысл этой формулировки тогда ещё не был известен (до доклада Хрущева оставалась пара десятков лет), и родственники регулярно обращались в соответствующие органы за справками и пытаясь помочь. Было получено несколько противоречивших друг другу ответов: «сослан туда-то», «болен (в совершенно другом месте)», «скончался от болезни сердца (с датой смерти до предыдущего ответа о болезни)». Наконец, уже во время перестройки, родственникам показали всё чудом сохранившееся дело, и выяснилось, что нелепое и внутренне противоречивое «признание» было добыто обычной в то время технологией, а приговор к расстрелу был приведён в исполнение примерно через неделю после ареста. Это объяснение содержало также утверждение о полной реабилитации деда.
Странное обвинение в шпионаже в пользу враждебных друг другу стран имело, однако, некоторое обоснование. Дело в том, что дед, по своим профессиональным обязанностям, занимался также по линии Красного Креста розыском в пределах СССР родственников умерших за границей эмигрантов, оставивших этим, находившимся в СССР, своим родственникам наследства. Поэтому дед получал письма из заграничных стран и даже отвечал на них – отсюда и происходит странный список: Германия, Англия, Греция, Япония.
Трудно сказать, сколько миллионов долларов недополучил Советский Союз вследствие расстрела деда – во всяком случае, эти потери во много раз превышали «пользу» от его преследования.
Тот факт, что меня в 1954 году приняли учиться в Московский университет, несмотря на судьбу деда, является, конечно, следствием смерти Сталина с одной стороны и, с другой стороны, желанием ставшего тогда ректором МГУ математика Ивана Георгиевича Петровского по возможности помогать и науке, и пострадавшим семьям. Много позже он рассказывал мне:
– Они вызвали меня в партком и кричали: «За такое ты ответишь, положишь партбилет на стол!». Сердце стучало, но я про себя повторял: «А вот и не положу! А вот и не положу!».
Мало кто знал и мог представить себе, что Иван Георгиевич, ректор Московского Университета и член «коллективного президента страны» (Президиума Верховного Совета), ведавший представлениями к амнистии и реабилитации, никогда не был членом коммунистической партии. Но на самом деле его административная карьера была во многом основана не на его коммунистичности (он был даже внуком священника и сам поступил в Университет лишь благодаря своей службе дворником в детском саду), а на его хорошем преподавании математики студентам инженерных специальностей, один из которых – А.Н. Косыгин – в будущем сделался Председателем Совета Министров СССР и инициатором первого проекта экономической реформы в СССР.
Недавно я прочёл в книге одного из творцов водородной бомбы В.Л. Гинзбурга «О науке, о себе и о других» (М.: Физматлит, 2001, с. 389), что брат моей бабушки, один из крупнейших советских физиков Л.И. Мандельштам, не получил Нобелевской премии за своё (вместе с Г.С. Ландсбергом) открытие комбинационного рассеяния света (1928 г.) из-за того, что он недостаточно занимался писанием статей о своём открытии, особенно на западных языках, вследствие того, что в этот момент был арестован один из его родственников, и он больше тратил сил на спасение арестованного, чем на публикацию своих достижений. Нобелевскую премию за это открытие всё-таки вскоре дали, но не ему, а индусским физикам, выполнившим похожие экспериментальные исследования на неделю позже, так что теперь обнаруженное явление часто называют поэтому «Раман-эффект» (эксперименты Ландсберга с Мандельштамом и Рамана с Кришнаном были разными).
Из книги Гинзбурга я узнал также, что частые обвинения Нобелевского комитета в неправильном выборе лауреатов (и в том числе в дискриминации СССР и России) не всегда достаточно учитывают то обстоятельство, что сами российские учёные зачастую недостаточно активны в выдвижении и поддержке своих коллег в качестве кандидатов на премию (это применимо и сегодня, и не только к Нобелевским премиям).
Так или иначе, влияние Л.И. Мандельштама на советскую, российскую (и особенно Московскую) физическую школу было совершенно исключительным. Перечислю лишь несколько знаменитейших из его учеников разных поколений: Н.Н. Папалекси, Г.С. Ландсберг, И.Е. Тамм, А.А. Андронов, М.А. Леонтович, С.М.Рытов.
Сам Леонид Исаакович Мандельштам учился до Первой мировой войны в Страсбурге у Брауна (и в этом смысле был научным внуком Рентгена). Вместе с Папалекси они были создателями советской радиофизики, с Ландсбергом – оптики, с Леонтовичем – туннельной теории радиоактивного альфа-распада, впоследствии развитой Г. Гамовым.
Игорь Евгеньевич Тамм был впоследствии одним из главных действующих лиц в создании водородной бомбы, а уже в 1928 году в своем учебнике теории электричества он описал магнитные поверхности, впоследствии сыгравшие решающую роль в системах для управляемого термоядерного синтеза вроде токамака, предложенного им совместно с А.Д. Сахаровым. Нобелевскую премию 1958 года И.Е. Тамм (с И.М. Франком и П. А. Черенковым) получили за создание в 1937 году теории открытого в 1934 году излучения С.И. Вавилова – П.А. Черенкова, – теории, которая, по его мнению, не была его лучшей работой: его вклады в теорию ядерных сил и методы расчета сложных ядер давно вошли в мировой фонд физики.
Таммы и Леонтовичи, Ландсберги и Папалекси входили в число ближайших друзей моих родителей, и я имел счастье немало разговаривать с ними с ранних лет.
Больше возражений, чем физики, всегда вызывал у меня (в возрасте около 10 лет) другой наш родственник – А.Г. Гурвич, у которого я тоже бывал почти каждую неделю. Недавно я встретил в иностранной научной печати несколько восторженных отзывов на его старую теорию «биологического поля» (достойную, согласно этим отзывам, Нобелевской премии).
Сущность этой теории состояла в том, что клетки, в процессе роста организма, обмениваются информацией посредством излучения специального вида, которое не имеет физической природы и детектируется только растущими же клетками (в качестве детекторов применялись обычно корни проросших семян).
В этой теории меня всегда отпугивал её чрезвычайно абстрактный характер с рассуждениями вроде: «Поскольку мы об этом излучении ничего не знаем, кроме того, что физические приборы его не воспринимают, то она…». Подобные отрицательные доводы не убеждали меня десятилетнего и недостаточны даже сейчас. Конечно, я не мог проверить проводимые в этой школе опыты (довольно тонкие). Но в современных иностранных панегириках теории биологического поля Гурвича я прочел, что сейчас удалось повысить чувствительность физических детекторов настолько, что они стали воспринимать это излучение, оказавшееся ультрафиолетовым электромагнитным, причём многие вызывавшие сомнение наблюдения работ с биологическими детекторами теперь подтвердились.
В этих современных иностранных работах столь же восторженно описывается более новая российская теория гауссовой кривой вероятностей любых случайных отклонений, теория, согласно которой эта колоколообразная кривая, построенная экспериментально, всегда так осциллирует около гауссова распределения, что она имеет стандартное число максимумов (кажется, пять).
Здесь я вовсе не берусь судить о добросовестности приводимых экспериментальных данных, но могу только гордиться тем, что моя жена – врач – с трудом спасла однажды автора этой новой российской теории, когда он начал умирать у нас в гостях вследствие того, что его жена пробовала на нём, безопасны ли для жизни пациента разрабатываемые ею химические препараты.








