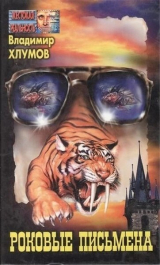
Текст книги "Роковые письмена"
Автор книги: Владимир Хлумов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
– Спишь ли? -спросила мать, проскрипев студенческим диванчиком.
– Нет, – ответил Андрей и тоже скрипнул.
– Плохо, наверное, тут одному спать.
– Почему?
– Потолки чудные, лежишь, как в гробу.
– Ну, мама, ты скажешь.
– Слушай, Умка, я весь день рассматривала ту картину у тебя над кроватью, и никак не пойму...
– Это аллегория, из Апокалипсиса, конечно, Иоанн не ел библию, а только в переносном смысле, читал как бы.
– Нет, про Откровение я знаю, как же не ел, ел, конечно, ему даже внутри горько стало. Я про падение Икаруса. Я все искала, где там автобус, да так и не нашла.
Андрей глухо булькнул в одеяло.
– Ну ты что, Икарус по-русски Икар, это человек был такой, а у него был отец Дедал, – Андрей замолчал.
– И что, откуда он упал?
– С неба. Ему отец птичьи перья склеил воском, а когда солнце пригрело, крылья расплавились, он и упал. И оказалось, что в целом огромном мире от его подвига ничего не изменилось, и никто его не оценил.
– А это понятно, дерзнул, значит, при свете дня, как ты. А что ж отец-то не уберег?
– Отец улетел ночью.
Андрей смотрел как расплывается в окне спина Михаила Васильевича.
– Плачешь, что ли? – спросила мать, – Ну, прости меня, бестолковую женщину. Отца вспомнил. Не суди его, ему, наверное, тоже не сладко одному там.
– Да, почему одному? У него семья, дети, наверное.
– Неизвестно, ты же у него один, и без тебя у него в душе пустое место, а жить с такой бедой в душе очень не сладко. Ты бы ему написал, что ли, ему уж сколько лет, наверное, вспоминает тебя, да считает недостойным. Он ведь тоже здесь на Ленинский горах учился, значит, есть о чем и поговорить, не то что со мной. Ведь он здесь тоже пострадал, только от власти, – мать остановилась будто припоминая и добавила не своим голосом:
– За свободу человеческого духа. Ну, да я тебе рассказывала...
Слушай, а вдруг он тоже здесь жил?
– Может быть, – поежился Андрей
– А ты поищи его, он же здесь в Москве живет, хочешь вместе поищем, ведь не иголка, а человек?
– Нет, – коротко ответил Андрей и взглянул на дверь.
Там кто-то стоял. То есть он точно видел неясные контуры человека, на полупрозрачном стекле. В прихожей было темно, и человек, подобно луне, светился отраженным светом. Силуэт, разбитый на три квадрата, медленно покачивался. Андрей встал.
– Ты чего, – спросила мать.
– В туалет, – успокоил Андрей. Он подошел к двери и замер точно напротив головы силуэта. Потом резко открыл дверь.
– Серега! – сбитым дыханием шепнул Андрей.
– Кто там у тебя? – высохшим голосом спросил полуночник.
– Мама, – пояснил Андрей и вытолкнул товарища в коридор.
Они пошли к окну, выходящему на смотровую площадку.
– Как рука? – спросил Андрей.
– Хреново, оторвал бы, так зудит.
– Чешется?
– Если бы, жжет и тянет как-то изнутри. И в голове зудит, как будто файл застрял и не пропихивается, спать не могу.
– Надо было в поликлинику, завтра обязательно сходи.
– Да ты что, как я это покажу?
– Скажешь, татуировку делал. Сейчас модно.
Со стороны лифтового холла послышался частый цокот. Появилась Ленка Гаврина:
– Вы чего, мужики, в одних трусах? Релаксируете?
– Ага, релаксируем, – они оба скривились.
– Ну, привет, – Ленка хмыкнула и скрылась в своем блоке.
– Слушай, – предложил Андрей, – Давай еще посмотрим.
– Я боюсь.
– Ладно, ты отвернись, а я сам посмотрю, а потом замотаю обратно.
Повязка против ожидания снялась легко, как будто совсем не присохла.
Андрей поглядел, потом наскоро замотал обратно и побежал в лифтовый холл. Серега стал зеленый, и так и стоял, боясь шелохнуться, пока тот не вернулся.
25Сначала из кабинета выскочил Воропаев, а потом уж появилось его неповоротливое тело. Да уж, такой впросак, да еще прямо при нем, черт побери. Душа его уже минут как десять летела по Владимирке, с привинченным над крышей багажником, в котором тряслись два рулона рубероида, связанные общей мечтой – развалится бы поскорее под открытым чистым небом и смотреть, как птицы обгоняют облака. А может махнула в Суздаль, в край нетронутых двадцатым веком колокольных перезвонов, или просто на диван, достать книгу, включить телевизор и глядеть, как по дому ходит его милая женушка с хитрым планом насчет воропаевского ужина.
– Кого ж ты привел, товарищ майор Воропаев? Ты хоть газеты читаешь?
Ты вообще в какой стране живешь? И даже не мечтай, в отпуск, в глушь, на сеновалы.... нельзя же так перенапрягаться, нам только с прессой скандала не хватало, ты погляди чего в Белоруссии делается, твою мать. Они ж там государственную границу нарушили, а весь цивилизованный мир на ушах, а тут у человека алиби, его вся страна видела на прессконференции у президента, пока твоему битюгу голову долбили, и, кстати, Кусакин убийцу-то нашел, то есть пока до суда, подозреваемого, свой же браток, бабу они не поделили, ну, а с этой электричкой, сказали же тебе, отдыхал человек, совпадение, понимаешь, если мы будем всех задерживать, знаешь, что будет? Знаешь, вот именно, давай, забирай свою аргументацию и катись отдыхать, ты когда на даче был последний раз? Ну! Заодно и мой участок посмотришь, давай, давай, видишь, человеку некогда. И Зарукова не тормоши почем зря, он теперь под началом Кусакина...
Так и летел, не разбирая московских пробок, пока не нагнал свою душу на Тверском бульваре. С одной стороны на него, скрестив руки, внимательно смотрел Александр Сергеевич, а с другой из-под насупленных бровей строго следил Лев Николаевич. Не случайно в этом месте стоял инженерный институт по человеческим душам. То есть сначала, когда он, блуждая по коридору, попал в курилку Литературного Института, ему показалось, что он ошибся дверью, как ошибся однажды в Париже на Монмартре.
В углу у плевательницы стояли три аккуратных девчушки и громко матерились. Воропаев даже остановился, и пару раз кашлянул, мол, девушки, разрешите интеллигентному человеку приблизиться. Одна, правда, обернулась, поглядела на него будущим писательским взглядом, и со словами е... вашу мать, затушила окурок и смачно сплюнула на пол дирол без сахара. Ее подружка, с хорошим простым лицом, все допытывалась:
– В чем, ... фабула ... нет, я понимаю ... тот ... этого старого ... с размаху .... пестиком по ... но какого ... он в ... Чермашню ... ?
Воропаеву даже показалось, наверное, под напором последних событий, что девушки чего-то репетируют, что-то из классики, правда он никак не мог вспомнить из какого именно произведения сия чудная риторика.
Но потом к ним подошел красивый молодой человек, и сказал в точности то же самое слово, что и девушка с диролом, правда, прибавил к тому, что надо бы идти на семинар по средневековой германской мистике, и еще такое прибавил, что даже у Воропаева покраснели уши. Наверное, это от избытка языковой культуры, подумал Воропаев и, набравшись Смелости, спросил где у них архив.
– Старик ... по лестнице, потом, .... на лево ... и ... потом .... вот тебе ...и .... архив ... .
В архиве он попросил работы Вадима Георгиевича Нечаева. Получив три папочки, он спросил у пожилой, но еще крепенькой старушки, напоминавшей мать из Захаровской постановки "Чайки", отчего так матерятся в этом храме культуры?
– Не колются, и ладно, – добродушно ответила хранительница молодого русского слова.
Какой черт его погнал сюда, думал Воропаев, читая первые литературные опыты известного журналиста. Впрочем, временами попадались весьма занятные куски, кого-то ему напоминавшие, но по-своему яркие и острые. Но в общем, все это были сочинения на какую-то очередную заданную тему, писанные остроумно, но в основном для отчета. Но постепенно стало появляться что-то еще. Потихоньку, исподволь, рукописи стали захватывать, возникли очень точные слова и неожиданные сравнения, едкие, даже злые, но главное не техника, главное постепенно проявлялась уверенность автора в чем-то очень для него важном, которая жестко держала читателя в напряжении.
Воропаев так увлекся, что даже несколько раз громко рассмеялся, нарушая строгую тишину литархива, и вскоре окончательно забыл, где он находится. Так он читал и читал, перекладывая листочки справа налево и казалось – еще чуть-чуть, и низенькая стопка недочитанного окончательно сойдет на нет, как вдруг Вениамин Семенович замедлился, поднял голову, оглянулся воровато по сторонам и потихоньку стал сворачивать в трубочку листов десять печатного текста. Потом сухо попрощался и вышел на Большую Бронную с потерянным лицом.
Вокруг была Москва. Что бы там не говорили, хорошеющая год от года, и не только фасадами, но и лицами, возрождающаяся Москва. Тверской бульвар шурудил листвой, поскрипывал детскими качелями, покрикивал автомобильными клаксонами, урчал, смеялся, хохмил, весело жевал американскую ерунду, вглядываясь в наивные картинки с далекого континента. И все это было не скучно, потому что это было на самом деле, и так и должно быть на самом деле. Но вот загвоздка, теперешний Воропаев, вышедший из института изящной словесности все искал ту точку, то место, или лучше даже сказать позицию, с которой эта, в общем радостная картина, стала бы частью и его изменившегося мира.
Искал и не находил. Ему теперь казалось, что перед ним слишком напудренное лицо безобразной старухи перед последним выходом в свет.
То есть эта старуха появлялась всего лишь на какую-то секунду, как появляются кадры, вклеенные в кинопленку умелым режиссером, но зато в каждой живой вечерней минуте. Тогда он опустил голову, и решил не смотреть вокруг, пока не разберется с собой.
26– Хорошо, что я бросил писать, – сказал Михаил Антонович и, точно Андреевкие очки, отодвинул от себя рукопись.
Доктор обхватил голову, будто старался руками потрогать свое впечатление от прочитанного. Сначала он цыкал зубом, покачивал головой, а потом точно как Воропаев стал терять свое лицо.
– Как же так? Великий и могучий, и куда же мы дошли? Н-да-с, от топора Раскольникова до небольшого рассказа... Смягчили нравы, и чувства добрые пробудились.
Майор сидел все с тем же выражением лица и молча глядел на дно проградуированного стаканчика. Рядом, в горке патриотических окурков дымился последний из воропаевской пачки.
– Неужели ж сделал? – не унимался доктор.
– Говорила манекенщица, продавец книг ходил.
– Да нет, не может этого быть потому что... разве ж такое возможно?
Мистика.
– Я не знаю, Михаил Антонович, мистика, или еще какая зараза, а шесть гробов на Ваганьковском я видел.
– Черт, – воскликнул доктор, – Так не зря поп наш бредил оружием массового уничтожения!
Доктор наклонился и тряхнул головой, как делают вышедшие из воды ныряльщики,
– Нет, не верю, это шутка, обычная юношеская проказа, ан дай, мол, дерзну, чтоб народ удивился. Знаешь, по молодости, мы и не такое выкидывали... Но как же так, погоди, – доктор обратно взял листок и прочел вслух: "Нельзя ли создать ментальный гиперболоид, выполненный в виде небольшого рассказа?". Что же эта за мечта такая особенная?
Сделать орудие убийства из своего вдохновения?! Как же так – убить читателя насмерть одним рассказом?! Слушай, ну просто инженер Гарин... А мы все думали, Алексей Николаевич в бирюльки игрался...
– Да что там гиперболоид, батюшки мои родные, это ж интеллектуальная нейтронная бомба, убивает только тех, кто способен мыслить... а уж про радиус действия при современных средствах...
– Да ну брось, – неужели ж думаешь, такую хреновину кто напечатает?
Есть же предел!
Воропаев горько усмехнулся и со значением поглядел в глаза доктору.
– Нда... Еще и премию вручат за мастерское владение словом и открытие новых литературных горизонтов...– Михаил Антонович горько усмехнулся.
– если в живых останутся.
– Эй, ребята, вы там в толстых журналах не заигрались в игру слов? крикнул в потолок доктор.
– Толстые журналы, – Воропаев усмехнулся и наморщил лоб, пытаясь все-таки отыскать свое потерянное лицо.
– Он в такой газете работает, что в один день миллионов пять как корова языком с поверхности земли...
– Ну, господа литераторы, дотренькались, достучались, – Доктор соскочил со стула и принялся ходить по ординаторской, – Вот она и явилась миру – красота нечеловеческая, а как ждали, надеялись, придет новый Гоголь и явит миру Новых Мертвых Людей своих, чтобы обязательно с фейерверками, с летанием, с аллитерацией и поисками запредельного, чтобы непременно красиво было и перед серебренным веком не выглядеть медной полушкой, куда там Федор Михалычу, у него ж сплошные недоделки, впопыхах, мол, творил, некогда было стиль оттачивать, Господи прости, да ведь спешил старик, потому в девятнадцатом веке всего-то сто лет, братцы! Сто лет, и ни одного черного квадрата, кроме Аксельрота и Засулич! Да ведь это ж чудо! Зато уж в нынешнем каких только квадратов не намалевали и на Соловках, и Бухенвальде. А длинноты эти, господа профессионалы, помилуйте, это ж наша жизнь вся, в тех длиннотах играет, мы ж Рассея, а не латинская америка, нечто нам кроме рифмы и предъявить нечего? Или вы где видели людей, амфибрахием говорящих, в супермаркете? или ночном клубе? У нас же лета всего два месяца в году, потому душевным теплом греемся! А вы нам кристаллическое слово в качестве телогрейки. Чего ж мы поимели?
Розу Парацельса и Лолиту заместо Неточки Незвановой? Так лучше не жить, чем так. Конечно, теперь и мы на пепелищах инквизиторских сидим, сидим, да потренькиваем по клавишам, авось, нобелевский комитет раскошелится, мильончик подкинет, жаль, теперь и нобелевского комитета не будет, вот так, господа комитетчики, мы уж с этими комитетчиками семьдесят лет мантулили, теперь ваша очередь наступила. Доктор почти кричал, и в далеких палатах просыпались больные русские люди. Воропаев нервно озирался в поисках сигареты.
– Кстати, у тебя нет сегодняшнего номера газеты? Доктор скривился:
– Я ее не читаю. Но можно сбегать в холл, там для пациентов на журнальных столиках, знаешь для развлечения, нда... но я тебя уверяю, сегодня ни одного летального исхода во всей больнице, только обострения... – доктор спохватился, – так может, закрыть, к чертям собачим, газету?
Воропаев вспомнил сегодняшний разговор с начальником и не счел необходимым спорить.
– Погоди, но как же он объяснил шесть покойников в вагоне?
– Говорит, утро раннее, многие спят в электричках.
Михаил Антонович развел руками.
– Эх, брат, вот тебе и освобожденное слово, явило миру лик стозевный... Хотелось бы проснуться.
Доктор попытался налить еще спирту, но Воропаев отодвинул фляжку.
– Что делать?
– Слушай, майор, а может, он имел в виду духовную смерть, как в Дзэн Буддизме?
Воропаев не слушал доктора, а просто начал рассуждать вслух:
– Положим, он после испытания в электричке отладил рассказ, и теперь выбирает момент, чтобы запустить в ход. Пускать малыми партиями бесполезно, нужен большой тираж, кроме того, все это только на русском языке, и на русской территории, а ему нужен читатель в мировом масштабе, а что у нас в мировом масштабе? В мировом масштабе самое мобильное средство – интернет. Постой, постой, – Воропаева никто не перебивал, – так вот оно что за вечерние посиделки! Слышь, доктор, ему нужен интернет!
– Про интернет я слышал, говорят, он весь в паутине, не чистят его, что ли?
– Ну блин, ведь и привлечь-то не за что, как доказать, что это и есть оружие, ведь его ж надо зачитать... вот так хреновина.
– Жаль, я не психиатр, – вздохнул доктор.
Затренькал воропаевский телефон. Звонил Андрей.
– Готовь скальпель, доктор, – крикнул Воропаев.
Доктор ошалело смотрел на майора.
– Какой к черту скальпель! На пол и головой к стене. Слышь, Вениамин Семенович, давай лучше проснемся!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
27Москва напоминала выброшенный на свалку гербарий спятившего натуралиста. По пустынным улицам колючий северный ветер гонял скрюченные ржавые листья, пустые банки кока-колы и мириады книжных страниц. Вот-вот должен был пойти снег. То здесь, то там, на площадях с новыми давно забытыми названиями жгли костры. Ночью с Воробьевых гор было видно, как полыхает у Белого Дома, на Арбате, у Храма Христа и на Котельнической набережной. Особенно ярко светилось пламя у Боровицких ворот. Да и здесь, перед Университетом горячие языки весело лизали чугунные ноги Михаила Васильевича. Ломоносов добродушно смотрел вдаль и отбрасывал на низколетящие тучи свою богатырскую тень. Ополоумевшая старуха бродила вокруг памятника и подгребала обратно выхваченные ветром страницы. Грабли равнодушно скрежетали по асфальту, и Андрей ежился, прижимая локтями бока, но далеко не отходил. Там было холодно.
С Ленинского проспекта послышался слабый моторный гул. Вскоре появилась воропаевская шестерка и выхватила дальним светом несколько шарахнувшихся на обочину теней. За шестеркой в серой соболиной шубке на казавшемся в сумерках бледном коне скакала Катерина Юрьевна.
Вениамин Семенович зарулил прямо к костру, и не выходя из машины, через форточку крикнул:
– Глянь, кого я тебе привел!
Катерина подъехала поближе и, наклонившись, шепнула:
– Здравствуй, Умка. – и поцеловала Андрея в щеку.
Андрей стер помаду и продолжал так же упрямо смотреть на огонь.
– Солнцевские не приезжали? – спросил Вениамин Семенович.
Андрей отрицательно помотал головой.
Появились Серега с Петькой Щегловым. Они как водовозы Василия Григорьевича Перова запряглись в столовскую тележку, доверху уложенную книжными кирпичами. Одну руку, вернее то, что осталось после того, как доктор сделал операцию, Серега прижимал к груди. Он настороженно взглянул на Катерину и принялся бросать книги под ноги Михаилу Васильевичу. Петька подносил поближе стопками. Одна стопка развалилась. Мальчик поднял толстую книжицу, раскрыл и начал читать:
– Если из А вытекает Вэ, а из Вэ вытекает Сэ, то из А вытекает Сэ.
Обратное, вообще говоря, неверно. Чего это за Сэ, как это вытекает?
–Положь взад, – крикнул Серега, – Это формальная логика.
– Нет, не понимаю. Что вытекает? Эти авэсэ – сообщающиеся сосуды, что ли?
– Сам ты сосуд.
– Да не получается, положим, А сосуд, и из него вытекает жидкость, ага, а потом что? Эта Вэ затвердевает, что ли?
– Частично...
– Угу, – размышлял Петька, – То есть как будто вода, например. Но вода-то вытекает, потому как земля притягивает, а Сэ кто притягивает?
– "Вытекает" это тоже, что и "следует", абстрактно – в голове, пояснил Серега.
– А, понял! – обрадовался Петька – Например, нам положили сжечь пять кубометров книг, а мы их не сожгли, это есть А, что из этого вытекает? Из этого вытекает Вэ: наедут солнцевские и надерут задницу, а, следовательно, завтра она у нас будет болеть. Это Сэ. Но могут и просто так надрать задницу, она тоже будет болеть, а хотя пять кубометров мы своих сожгли аккуратно. Правильно?
– Правильно, – Сергей подошел к Петьке выхватил книгу и забросил ее подальше.
Раздался выстрел. Катерина слету попала в книгу и та, взмахнув бумажными крыльями, разлетелась по отдельным главам.
– Ну, блин, Катерина, прямо в яблочко! – похвалил Воропаев.
– Нет, я не понимаю, – продолжал Петька, – Неужели так просто? Ведь это несправедливо, если Сэ без А?
– Математику не интересует, справедливо или нет, – растолковывал Серега, бросая очередную книгу.
Ему было неудобно со своей культей, но он теперь старался, чтобы книги летели на бреющем полете.
– Так это ж настоящая шунья. Петька понес кипу к костру и вдруг остановился.
– Как же мы тогда жили? Ведь мы все мерили по Эвклиду?
– Вот оно и скривилось, – прошамкала старуха, – подгребая к пламени остатки формальной логики. – Тапереча будем сажать сады.
Я еще с весны в огороде булыжников набросала, ничего правда не взошло пока.
– Да чем же формальная логика помешала? – удивился доктор, выходя из машины.
Он подошел к костру и протянул озябшие руки.
– Приказано все жечь, – отрезал Серега.
Петька посмотрел на Андрея и заметил:
– Ты чего, как Хлудов из Белой Гвардии стоишь?
– Мешки... – не поворачиваясь сказал Андрей.
– Тьфу, – сплюнул доктор и поглядел на Ломоносова, – Что они медлят?
– Завтра, слышал, будут и здесь статую менять. Не успевают, знаешь сколько памятников по Москве, да и кузнец у нас один, Демидов – он подморгнул Катерине.
– Демидов еще весной как помер, – вставила старуха.
– Конечно, потому так медленно и идет, – пояснил Вениамин Семенович, и повернулся к Андрею,
– Мать-то где?
Андрей махнул рукой в сторону старухи с граблями.
– Да, влипли, господа. – Изрек доктор и достал из-за пазухи пачку бумаги.
Прикрывая лицо свободной рукой, подложил под толстый в золотом переплете том, что бы не разлетелось.
– Ты чего там подбросил, – удивился Воропаев.
– Так, чепуха, – Доктор махнул рукой.
– Пьесы, что ли? – догадался Вениамин Семенович.
Доктор не ответил, а повернулся к Сереге:
– Рука не беспокоит?
– Нормально, Михаил Антонович. Нечему беспокоить.
– Чего ж снег-то не идет? – как-то в небо спросил Воропаев.
– Черно как-то.
– На черном фоне люди в белом приметнее, – пояснил Петька.
– И в кого ты, Петька, такой талантливый? – удивился Воропаев.
Катерина опять наклонилась к Андрею и шепнула на ухо:
– Поедем погуляем в Нескучном Саду.
– У меня скоро связь. – все так же, не оборачиваясь, отказывался Андрей.
– Успеем Андрюша, запрыгивай, – уже просила Катерина.
– Давай, давай, Андрей Алексеевич, чего стоять, в ногах правды нет.
– Поддержал Катерину Воропаев,
– Я здесь побуду, правда, у меня тоже скоро летучка.
Андрей, будто против воли, запрыгнул на лошадь и обхватил Катерину за талию. Они поскакали. На Воробьевском шоссе на встречу им попалась девчушка, одетая во взрослое пальто. Впереди себя она толкала инвалидную коляску.
– Даша пошла со стариком, – сказал в пустоту Андрей.
– Дарья Дмитриевна? – спросила Катерина,
– Не помню, сестра Петькина.
– Тебе она нравится?
– Она такая маленькая и беззащитная... – будто что-то припоминал Андрей.
Он с непривычки немного ерзал, и от этого казалось, что он тискает Катерину. Та не обижалась, а наоборот, несколько раз поворачивалась и призывно смотрела ему в глаза. Они проскакали мимо раскуроченного горниста у бывшего дворца пионеров. Горнист, лежа на спине, играл марш пролетающих туч.
– Ты живешь с мужчинами? – спросил Андрей.
– Не знаю, я ничего не чувствую. Ведь они не видят какая я, и мне от этого становится все равно.
– Но есть же братва, они-то зрячие.
– Да, есть... – нехотя подтвердила Катерина и зло пришпорила коня.
Они понеслись галопом вниз, и Андрей закрыл глаза. Он прижался к ее спине и услышал, как бьется сердце Катерины. Ему опять показалось, что это не Катерина, а его любимая женщина. Он стал громко орать стихи: мчатся тучи, вьются тучи; невидимкою луна... – он оглянулся вверх. Там было пусто, – мутно небо, ночь мутна...
– Скоро пойдет снег, и все станет на свои места! – успокоила Катерина.
На площади Гагарина тоже горел костер. Выдвижной кран с иностранной надписью Bronto вытянул палеонтологическую шею к человеку, стоявшему на высокой титановой стелле. Отсюда он был больше похож на ныряльщика, чем на космонавта. Но все-таки, когда крановщик в черных очках подцепил неказистого человека, и тот закувыркался, будто в невесомости, Андрею стало больно смотреть, он снова закрыл глаза и увидел гагаринскую улыбку.
– Как легко видеть. – сказал Андрей.
– О чем ты? – спросила Катерина.
Андрей спрыгнул с коня. Рядом с шаром стояла непонятная конструкция, издали напоминавшая учебный скелет из биологического класса. Андрей приблизился и пошел вокруг, задирая голову. Конструкция представляла собой сложное шарнирное устройство с блоками, шестеренками, противовесами разной величины, наверное, как подумал Андрей, для усиления, с растяжками из проржавевшего уголка, и пронизывалась одним, хитро пущенным внутри тросом. Устройство сработано было на скорую руку из подсобных материалов. Так, чугунные чушки, служившие противовесами, были взяты из спортклуба "Фили", а на двух самых больших шестернях, ярко выкрашенных в андреевские цвета, можно было прочесть трафаретку "Ресторан Поплавок".
С боку на уровне поднятой руки располагалась никелированная ручка от старой швейной машинки "Zinger". Все это стояло на сваренном из рельс параллелепипеде, и в углу блестела латунная авторская бирка. Андрей привстал на цыпочки, почти не сомневаясь, что там написано Зураб Церетели, и прочел: "Самокопатель", исполнено по чертежам Лао Цзы кузнецом Демидовым.
Он уж было потянулся покрутить, но тут под действием особенно сильного порыва ветра огромная клешня железного человека покачнулась и со скрежетом уцепилась за никелированное колесико. Подошел здоровенный мужик в маске сварщика, по-хозяйски облокотился на ребро пьедестала и глухо, как из бочки, сказал:
– Он сам себя крутит. Тут у него собачка стопорная, ежели ее свернуть, то начнет дрыгаться как пятидесятник. Странный трактор называется.
– Аттрактор, – поправил сварщика Андрей. -Точно, – мужик обрадовался взаимопониманию,
– И главное, заметь, ничего не потребляет.
– Да как же? – удивился Андрей вспомнив второе начало термодинамики,
– Есть же трение, – он взглянул на проржавевшие несмазанные оси шестерен и блоков. – Что же это, вечный двигатель из железа?
– Нет, браток, вечный двигатель невозможен, вот это железно.
– Тогда как же?
– А сила ветра зачем? Слышь, как гудет.
Андрей снова запрыгнул на лошадь и прошептал:
– Сквозь волнистые туманы...
– Зачем все время читаешь стихи? – спросила Катерина.
– Это не стихи, это русские мантры, что бы не болела... – он хотел сказать душа, но запнулся.
– А меня просто в дрожь от этих строк... – Призналась Катерина. Так себя жалко становиться...
– Да, Катерина, ты их тоже повторяй, это не душа, это ветер Пустоты гонит тучи от меня к тебе, а от тебя к тем мужчинам, им тоже надо знать, что такое родина, ведь она такая маленькая по сравнению с Пустотой, пусть просто повторяют и не представляют смуглого бесенка в цилиндре, опасливо озирающегося из-за спины возницы.
Он прикоснулся щекой к теплой мягкой шкурке.
– У тебя шубка замечательная.
– Обыкновенная заячья, еще от прабабки осталось, дореволюционная.
Потом они спешились. Конь понуро плелся сзади, фыркая горячим паром.
Так они прошли до начала "оздоровительного маршрута", и здесь Катерина привязала коня к спящему дереву. Андрей, будто со стороны, смотрел, как они растворяются в темноте Нескучного Сада, и казалось, нет ни Москвы, ни мира, ни ветра.
– Как твой ремонт?
– Подходит к концу. В гостиной поставила гарнитур из красного дерева. Красиво – глаз не оторвать.
– Вся эта красота от страха. – выдал Андрей.
Катерина удивленно остановилась. Они как раз оказались на пригорке, и здесь было место, которое хотелось назвать обрывом. Во всяком случае, отсюда сквозь голые деревья была видна Москва-река, то есть она была бы видна – а сейчас, в кромешной темноте только угадывалась.
– Да, от страха, но страха подсознательного. Поэтому нами он воспринимается, как нечто иное – манящее, загадочно красивое. Здесь чистая математика, я бы даже сказал арифметика.
– Ну, право, Андрюша, уж не собираешься ли ты гармонию алгеброй поверить. – Катерина усмехнулась той самой своей понимающей и непонятной улыбкой.
– Именно собираюсь, именно гармонию даже не алгеброй, а чистой арифметикой. И именно потому это красота не та, не настоящая, которой следовало бы восторгаться. – Андрей разволновался, – Вот, смотри, с этого пригорка хорошо видно закат.
– Закат, закат, – ничего не видно.
– Ну не важно ты представь... нежно розовая полоса, потом чуть зеленоватая, переходящая в ультрамарин...
– Да, я люблю закаты, ты знаешь, я даже соскучилась по ним. И еще я люблю море, смотреть как волны набегают из бесконечности пощекотать лодыжки.
– Как ты верно сказала. Именно из бесконечности, здесь корень, когда ты смотришь на волны, или на закат, или на покачивающееся пламя в камине...
– Точно, камин я уже поставила. Андрей увлекся:
– ...или когда идешь по аллее, и мимо тебя как волны проплывают стволы деревьев, и укачивают. Причем можно и не идти, а просто скользить взглядом. Везде скрыта периодичность синусоиды, две-три волны, и ты уже знаешь, что и дальше, через день, год, тысячелетие, будет тоже! Ты бессознательно сравниваешь свою короткую жизнь с огромным океаном времени, ведь все эти закаты и восхода были миллион лет назад и будут через миллион, а ты появился на мгновение и застыл, пораженный бесконечностью, пред которой ты – пылинка. Твое существо содрогается и ты восклицаешь – великолепно и прекрасно! Потом выхватываешь фотоаппаратик – щелк, щелк, или заметь, многие художники начинают именно с розовых закатов, лазурных волн, и прочей дурной бесконечности. И получается сплошной туристический восторг, а никакая ни красота, во всяком случае, та, которой будет спасено человечество.
– А это Достоевский сказал, – вставила Катерина.
– Я думаю, он погорячился, или имел в виду совсем другую красоту.
– Погоди, ну, а золото?
– Золото не ржавеет, то есть опять-таки живет почти вечно.
– Ну хорошо, а в архитектуре? Где там волны?
Андрей улыбнулся.
– Ты мне специально удобные вопросы задаешь?
– Совсем нет, – оторопела Катерина.
– Так ведь архитектура – это же застывшая музыка...
– И музыка тоже, а я так люблю Моцарта...
– Музыка бывает разная. Есть и такая, которой заслушиваются даже змеи. Но, на самом деле, здесь просто так арифметикой не обойдешься, но в сущности все арифметически просто, как Египетская пирамида. Все дело в симметрии. Волны и пирамиды с этой точки зрения совершенно одинаковы. Просто волны – это нечто неизменно повторяющееся во времени, а пирамида, или другая симметричная фигура, в пространстве.
Андрей взглянул на Катерину и заметил, что она стала понемногу умирать от его теории. Но остановится никак не мог:
– Вот, посмотри, – достал из кармана старую октябрятскую звездочку.
– Ой, дай посмотрю, – обрадовалась Катерина. – У меня была такая же.
– Если повернуть пятиконечную звезду на одну пятую полного поворота то ничего не изменится, получается таже волна.
– Ну да, не изменится, смотри, Ленин тут упал на бок. Андрей перевернул звездочку тыльной стороной.
– Вот смотри, – он крутанул золотистую пентаграмму, все таже туристическая красота, она почти животная, и поэтому легко доступна.
Как компьютерная музыка или музыка восточных гуру, или те же мантры.
И рифма в стихах, или всякие литературные красоты... вот те уж точно пугают отточенными фразами. А есть совсем другая красота, вернее единственная и настоящая. Она берет не числом, а добротой, она человеческая, она, быть может, совсем неказистая, ее мало кто видит, но для тебя это самое прекрасное, потому что красиво не то, что вечно, а то что делает тебя вечным, хотя бы и в душе. У нас дома самым роскошным был светлый лакированный буфет из обычной сосны. А еще был старый треснувший табурет, на который я становился, чтобы достать из буфета фотографию отца. Мне кажется, прекраснее того табурета ничего в мире нет.








