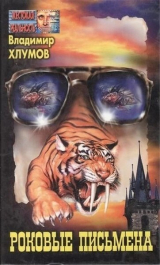
Текст книги "Роковые письмена"
Автор книги: Владимир Хлумов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
– Ну, где ты там? Помер, что ли, с голодухи?
Вокруг зашушукали. Следовательно – зал. Я осторожно ступал, как по трясине. Нет ничего опаснее в темноте, чем ступенька. Обычная, дециметровая, легкая при свете, в темноте она превращается в пропасть. Я знал отлично, как зависает в пустоте ступня, и каждый миллиметр превращается в томительное, изнуряющее душу расстояние. Как в той детской игре: становишься на доску, закрываешь глаза, тебя поднимают и заставляют спрыгнуть. Вот так же у меня заныли коленки, когда старуха остановилась и, подвинув меня чуть в сторону, приказала:
– Садись.
В последний момент я схватился за подлокотники и смягчил падение на без того мягкое кресло. Шшур – оно выпустило воздух, и мой локоть ощутил локоть соседа. Можно было, наконец, расслабиться и ждать, когда глаза привыкнут к темноте, и проявятся контуры первого действия. Но, черт его дери, мир раскололся надвое: мир звуков не вызывал подозрений, – покашливание, скрипы, шуршание одежд, а вот зрительные эффекты напрочь отсутствовали – после того, как погас старушечий фонарь, наступил абсолютный мрак. Теперь мне пришла в голову дурацкая идея, что посажен я вовсе не в зале, а – прямо на сцене, и как только зажжется свет первого акта, тут же и выяснится, в какое глупое положение я попал. Словно обоятельный буржуа из фильма Пазолини. А что, почему бы и нет? Вдруг это – театр одного актера, а не зрителя? Черт их знает, эти современные театры могут выкинуть и не такое. Да, взять бедного человека и выставить на сцену. А потом, при свете, всем рассмеяться, каково? Но почему меня? Чем отличен я от остальных? То есть, для себя-то я знаю, чем, но я не так глуп, что бы не представить впечатление окружающих от моего невзрачного существования. Да, я – трижды средний человек, по крайней мере, с виду. Конечно, изнутри наоборот, но то есть тело, недоступное поверхностному взгляду.
Нет, не может быть, она ведь обещала – без современных вывертов, с длинными разговорами. Хочу разговоров. Да, я чертовски хочу побывать в компании откровенных людей, конечно незаметно, зрительски, из зала, пусть не стесняются. Пора начинать.
* * *
Когда в зале наступила полная тишина, и, казалось, пропало напрочь уже все из нашего пространства, откуда-то с галерки ударил тонкий луч прожектора, и на сцене возник Бледногубый.
– Дамы и господа, товарищи, друзья, мы начинаем новую пьесу с маленького предисловия. Играть человека непросто, а жить его жизнью – и подавно. Искусство театра, наша великая школа учат быть натуральными, но можно ли быть естественными наполовину? Вы понимаете, о чем я тревожусь? Но все-таки премьера премьере рознь, и нужно повторить опять: давайте не будем притворяться, в конце концов, – надоело.
Бледногубый затрепетал, словно полотнище на ветру или, лучше сказать, как голографическое изображение в лазерных лучах.
– Да и чего уговаривать, ведь это – наша жизнь, а кроме нее, что еще может быть? Итак... Занавес!
Под занавесом оказалась обычное человеческое жилище, обставленное бедным мебельным гарнитуром начала шестедесятых. Притушенное, будто вечернее, освещение. В углу едва виднеется кровать, на которой лежмт мальчик. Больше никого, только далекие голоса, доносившиеся откуда-то из глубин театра – как будто есть и другие комнаты, и в них течет обычная домашняя жизнь. Мальчик лежит неподвижно. Минута за минутой проходит, но ничего не меняется и, стихшие вначале шуршание и покашливание в зале стали потихоньку оживать, грозя слиться с теми искусственными звуками. Я даже перестал дышать, желая, чтобы наконец, действие двинулось, иначе затянувшееся начало смажет его натуральность. Видители, я всегда сопереживаю театральному действию, особенно в начале спектакля, когда еще трудно втянуться и поверить, стараюсь сделать это нарочно и все боюсь, как бы остальные зрители не расслабились. Я всегда в такие минуты на стороне актеров. Тем более, когда так, в тишине все начинается, и особенно в этом случае. Ведь меня сразу, от одной только обстановки, охватило какое-то волнующее состояние, еще едва осознанное, но такое многообещающее. Мне понравилось оформление сцены, оно было в меру реалистическим (например сервант был настоящим, а окно справа – нарисованным), и все было каким-то очень домашним, даже не в смысле уюта и тепла, а в смысле, что вот этот неподвижний мальчик в белоснежной постели и эти вещи, и голоса вполне могли бы сожительствовать на самом деле. И еще было что-то.
Наконец, мальчик заворочался, сухо хрипнул и, будто во сне, позвал:
– Мама! Мама!
Тут стало ясно, что он не такой уж совсем, мальчик, а вполне подросток, и играет его женщина. Из-темноты донесся мужской голос:
– Посмотри, кажется Серенький проснулся!
Потом откуда-то справа появились Клара и Бледногубый, явно родители, и последовал приглушенный для мальчика диалог, из коего выяснилось, что мальчик болен уже почти неделю, а последние дни температура так скакнула, что он даже бредит, да и не просто, вообще, а довольно странной, многозначительной, судя по интонации Клары, идеей. Да что там интонация, сами ее слова, конечно, предназначавшиеся для зрителей, а не для мальчика, говорили о многом:
– Я ему медвежонка с красным ухом, а он не верит в меня a priori.
Меня это просто обожгло, и даже не тем, что я вообщее не люблю, когда актеры как бы между-прочим шушукаются с залом, приглашая зрителя в сообщники, какбудто я обязан именно вместе с ними лгать и притворяться, а более всего вот этим медвежьим ухом (я теперь заметил большого плюшевого медведя, с приделанным самодельным ухом из какой-то красной материи, лежавшего на полу, возле кровати больного). Я, помнится, в тот самый момент впервые почувствовал понастоящему неладное, но еще не совсем, и оттого даже начал списывать свою необычную реакцию, свое тревожное состояние, на иногда посещающее нас странное, пъянящее чувство – как будто все это уже когда-то было именно со мной. Бывает так с людьми: вдруг, внезапно, накатывает необычное состояние, будто с вами это уже происходило, и даже более того, вы уже как бы знаете наперед, что произойдет, т.е. можете даже это предвидеть. И вы, в оцепенении, и не имея возможности ничего изменить, как бы со стороны, наблюдаете за развитием сюжета.
Но тут было нечто другое. Ведь если бы было именно просто обычное чувство однажды прожитого, то я должен был бы сказать, что когда-то давно уже сидел в таком вот зале, на этом самом месте, на этом самом спектакле, т.е. еще раньше, в незапамятные времена, я уже был таким же вот зрителем. Но фокус-то был в том, и я очень скоро в этом убедился, что теперь со мной происходило нечто другое: раньше было не то, что я уже был зрителем, а был именно тем самым больным ребенком, потому что и слова, и, главное, этот проклятый медведь с красным ухом, это все как раз самое что нинаесть мое, личное! Я даже вспомнил, откуда это красное ухо – из моего пионерского галстука, разорванного в ребячьей потасовке и набитого ватином из моегоже старого зимнего в елочку пальтишка. Я еще в этом тогда себе не признался, а только загадал, что вот сейчас эта Клара подойдет ко мне, т.е. к мальчику-подростку, поднимет с пола игрушку и скажет: "Смотри медвежонок хуже тебя болел, а мы его вылечили, так неужели ты не поправишься?". А мальчик ей ответит: "Медведь, он же не живой, и ты не настоящая, ты играешь со мной".
Именно это и произощло. Клара сделала все, как по написаному, и мне стало страшновато. Да нет, чепуха, совпадение, не может быть все так, вон и обстановка совем другая, и шкаф бельевой совсем не похож, у нашего дверка никогда не закрывалась, а если ее закрыть, так она, через некоторое время со скрипом открыалась, и окно нарисовано неправильно, наше было выше и шире, и с двумя ставнями. И мама моя вовсе не похожа на Клару и никогда латыни не употребляла, а уж отец и Бледногубый – просто разные люди. Да и мальчик не тот. Теперь я узнал мою билетершу-актрису, и почему-то вспомнил ее упругое теплое бедро под натуральной кожей.
Когда билетерша произнесла угаданные мною слова, сосед справа озабоченно засуетился, потом попросил у меня бинокль и принялся с интересом разглядывать сцену. Вот это меня рассмешило. Ведь для постороннего человека ничего особенного не происходило на сцене, да и актеры были неизвестные. Чего там рассматривать постороннему человеку? Ну да, мальчик болен, ну и что – дети часто болеют разными страхами, а тут, как говорится, еще одни намеки и ничего конкретного, ведь конкретное мог знать только я – СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ НАЙДЕНОВ.
Я втянул поглубже в плечи голову и краем глаза оглянулся на моего соседа. Я почему-то подумал, что он украдкой следит за моей реакцией, но ошибся – тот просто впился в сцену. Тогда я посмотрел налево и, с облегчением вспомнил, что сижу у прохода. Почему я не сбежал отсюда раньше? Я застыл. На меня накатила отвратительная, приторная волна страха, старого, давно забытого детского страха. Не дай Бог вам почувстовать такое!
Послышался низкий подземный гул, и сцена начала поворачиваться – из темноты выплыла гостинная, и когда тонкая, сколоченная из фанеры стенка, словно лезвие ножа, перерезала сцену пополам, так, чтобы мы, зрители, могли одновременно наблюдать происходящее в обеих комнатах, вращение прекратилось. Мальчик остался на правой половине, а Клара перешла к Бледногубому в гостинную.
– С ним опять ЭТО, – сказала Клара опустив беспомощно руки.
– Чепуха, не волнуйся, ЭТО, может быть, ненадолго, ЭТО – временно, ведь доктор сказал – обычный детский синдром, температура спадет и все развеется.
– Но сейчас, что делать сейчас? Он подозревает нас во лжи, понимаешь, он не верит нам. Он прямо говорит: вы не настоящие.
– Не волнуйся, я же сказал – пройдет, дай лучше ему аспирин. Нужно сбить температуру.
– Хорошо, но как же...
– Я повторяю, ничего страшного, ведь взрослые обязаны знать больше, чем дети, и от этого детишкам кажется, будто от них что-то скрывают, ну а уж если скрывают что-то, то можно подумать и о всеобщей игре, он вырастет, поймет и успокоится. Не волнуйся.
– Но он так странно смотрит на меня, он боится меня, у меня сердце разрывается, когда он так смотрит на меня... – Клара сделала паузу и уже с каким-то сомнением добавила: – ведь я его мать.
– Ну конечно, господи, ты его мать, тебе больно от того, что ему плохо, и это нормально, ведь так должно быть.
Казалось, Бледногубый искренне волнуется, и я даже на секунду поверил ему, поверил, что он искренне переживает, и тоже хочет помочь и Кларе и их сыну, видите, до чего я доверчивый человек, но, слава богу, последующие события не дали мне расслабиться.
А произошло следующее. Пока продолжался этот душеспасительный диалог "разбитых несчастьем родителей", мальчик встал с постели, это было особенно подчеркнуто специальным прожектором, подошел к двери и прислушался к разговору родителей. Благодаря удачному расположению сцены было видно одновременно и родитетелей, и мальчика.
Мой театральный двойник стоял в длинной ночной рубахе, босиком, и прислонившись ухом к дверному косяку, изображал смертельное любопытство. Казалось, вся жизнь этого ребенка зависела от того, что он там услышит.
– Так он считает нас притворщиками? – наклонившись к самому уху Клары, громко спросил Бледногубый.
Та замахала руками, показывая жестами, что, мол, их сын подслушивает под дверью, и надо осторожнее выражаться. Бледногубый понимающе кивнул головой и, обращаясь к залу, еще громче изрек:
– Считать весь мир театром, – болезнь известная.– И, уже повернувшись к двери, добавил: – Но для ребенка с неокрепшим телом – губительная. Кто же мы, отец и мать – Актеры? Куклы?
Клара, зажав рукой рот, утвердительно закивала.
– Чепуха! А впрочем, быть может, это и к лучшему.
Бледногубый сделал паузу и бросил в зал:
– Пусть опыт станет нам судьбой.
Больше всего меня поразила стена, разделяющая сцену. Что бы она могла означать? Да и что она, на самом деле, разделяла, пока продолжалось действие? Неужели, она могла развести по разные стороны лицедеев? Неужели, они хотели меня убедить в том, что мальчик и родители противостоят друг другу в каком-то важном вопросе? В вопросе о существовании и бытии? Может быть, – да, стал я потихоньку догадываться о цели спектакля. Разделяя актеров на две неравные группы, они пытаются убедить публику в естественности одной из них. Мол, справа на самом деле есть несчастный больной воображением ребенок, а те, что слева – всего лишь марионетки, заучившие ранее написанные слова. Ну да, прием срабатывает – зал затих, увлекаясь действием. Но меня-то не проведешь. Я – то помню как все было на самом деле, когда я стоял под дверью и подслушивал разговор своих родителей. Все было не так. Мои настоящие родители убивались горем, а не шушукались с публикой. Ну да, появлялись время от времени какие-то незнакомые люди, быть может, врачи или далекие родственники, но они же не шушукались у меня за спиной, а если и говорили шепотом, то исключительно ради спокойствия моего воображения. Я так увлекся анализом происходящего (в чем, как вы могли убедиться, я достиг немалых успехов), что пропустил кусок действия.
Тем временем родители ребенка удаляются в глубину сцены, где стоит семейное ложе. Прожектор выхватывает из темноты мальчика. Тот уже открыл дверь и тихо, на ципочках, подоходит к столу и берет нож. Рассматривает его, подставляя в центр светового пучка – лезвие страшно и ярко блистает в детских руках. Затем отправляется к родительской постели. Зал в напряжении затих. Наступает пауза, в конце которой раздается зловещий скрип открывающейся дверцы бельевого шкафа.
Зал аплодирует. Опускается занавес.
* * *
Бежать, бежать, снова застучало в мозгу. Я делаю вид, что все это меня не касается, и, будто изголодавшийся зритель, спешу в буфет. Конечно, я ожидал какого-нибудь фортеля и со стороны зала, но здесь, слава богу, ошибся. Во всяком случае, ничего осбенного в зрительской массе не было обычные жители столицы и ее гости. Да и глупо предполагать, что такую массу народу, а в зале был аншлаг, специально наняли для розыгрыша. Да и что я такого придумал, – рассуждал я, перетоптываясь у выхода в фойе и все-таки следя боковым зрением за ближайшими окрестностями, – ведь и сам Бледногубый объяснил происхождение этого детского синдрома. Ну да, был у меня в детсве такой страх, ну и что, мало ли общих болезней?
Едва я вынырнул наружу и уже направился к выходу, как из неприметной боковой двери меня поманила тонкая женская рука, – сюда, мол, сюда. Господи, почему я никогда не могу отказать? Я очутился в узком коридорчике, почти в объятиях Клары.
– Как вам первое действие? – спросила она и, не дожидаясь ответа, увлекла за собой. – Пойдемте ко мне в каморку, перекусим, вы ведь, наверное, страшно голодны.
В ее "каморке" было в точности то, что я обычно рисовал, воображая театральную уборную какой-нибудь Сары Бернар. Зеркала, мягкая мебель с витыми ножками, шелковые портьеры , и запах, головокружительный запах кремов, грима и, конечно, духов. На сервировочномстолике дымился ужин: закуски, фрукты, бутылка шампанского в серебрянном ведерце... Откуда? Когда на прилавках по всей Москве одна килька, и та – в томатном соусе.
– Присаживайтесь, милый друг, поужинаем....
Я, огорошенный развернувшимся буйством света и роскоши, плюхнулся на пуфик, и она, любезно, подтолкнула ко мне столик.
– Разве вы не участвуете во втором действии? – я пытался навязать хоть какую-то логику развитию сюжета.
– Конечно, я занята во втором действии, правда, правда мне придется больше молчать.
– Но какие же у вас антракты?
– Ах, вот вы о чем, не беспокойтесь – без вас не начнут, да и без меня не обойдутся, ужинайте спокойно и не торопите события.
Черт с ним – хоть поем, оправдывал я свои театральные страдания, накладывая на тарелку ломтики ветчины, салями и сыра. Клара легким движением вскрыла шампанское , а я тем временем схватил серебряный нож и принялся двигать горками черной икры по масляной равнине белого хлеба.
– Вы так элегантно обращаетесь с приборами. – Она внимательно следила за моими движениями.
– Право... – сконфузился я от откровенного комплимента.
– Выпьем за продолжение! – предложила Клара.
– Продолжение чего? – ловя языком икринку и прижимая ее к небу, спросил я.
– Просто за продолжение. Пока есть продолжение – мы живем, да и вот наш ужин, ведь он есть результат, т.е. продолжение каких-то прошлых событий. Ну, как икра?
Наконец я раздавил икринку и с наслаждением ощутил ее прохладную солоноватую сущность.
– Икра натуральная! – вырвалось у меня, и я осекся.
– И отлично, следовательно, и все остальное – настоящее, значит, все продолжается, так за продолжение!
Наши бокалы сошлись, и раздался волшебный хрустальный звон. Я выпил до дна, а она лишь пригубила.
– Как вы думате, что будет дальше?
– Хм, – я немного захмелел и расслабился, – Не знаю, что там в этом пузанчике, – я игриво показал на дымящуюся фарфоровую чашу, прикрытую крышкой, с торчащим в специальном проеме серебряным половником.
– Нет, я говорю о пьесе.
– Понятия не имею, Клара.
– Не прибедняйтесь, Сергей Викторович...
– Странный сюжетец, – брякнул я, собрав в кулак всю свою слабую волю.
– В том-то и дело – сюжет необычный, поэтому я и спрашиваю, – Ведь вы такой многопытный и взыскательный зритель, и нам бы не хотелось вас разочаровывать банальным, предсказуемым спектаклем.
– Нет, не беспокойтесь, все свежо и непредсказуемо.
– Так ли уж все?
Настойчивость Клары стала мне надоедать, и я попытался сменить тему.
– А Бледногубый, он в самом деле ваш муж, я имею в виду реальную жизнь?
– Погодите, все-таки, что предпримет мальчик во втором действии?
– Да понятия не имею.
– Ну как же, Сергей Викторович, посудите сами: чтобы определить натуральность икры, нужно раздавить хотя бы одну икринку.
Я поперхнулся, так как пытался доесть с любовью приготовленный бутерброд.
– На что вы намекаете?
– Вы так держите нож, – она приблизилась ко мне на расстояние вытянутой руки и запрокинула голову, оголив длинную тонкую шею. – Посмотрите, как бьется жилка, а вдруг это бутафория? Ну!?
В этот момент, к моему счастью, заговорил настенный репродуктор:
– Клара, зайди ко мне – есть проблемы, срочно.
Внутреннее радио вещало голосом Бледногубого. Клара выпрямилась, вздохнула, и с неожиданной покорностью сказала:
– Надо идти – ах, как не вовремя. Погодите, я сейчас, я быстро.
Она выпорхнула из уборной, и я дал волю чувствам. Ах черт, вот так комбинация! Я с силой ударил по столику и тот покатился в дальний угол, рсплескивая шампанское. Откуда она знает мое имя, вот еще вопрос. Где я, господи, что за странная игра?! Да они все сговорились, но ведь это ложь, да и откуда им знать? Нет, ужасное, невероятное совпадение. Но нужно сбежать, иначе свихнешься с этими современными театралами. Я уже направился к выходу, как за спиной послышался скрип открывающегося шкафа. Постой, подумал я, в том месте, откуда шел звук, не было никакого шкафа, а была стена в шелковых обоях. Я обернулся и увидел в распахнутой потайной двери мою билетершу.
– Вы? -воскликнул я, разглядывая длинную детскую рубашку.
– Тссс – она приложила пальчик к губам и поманила меня за собой.
– Проходите, – она ввела меня в скромную, спартанскую обстановку, -Моя уборная рядом, и я подслушивала.
Она прикрыла секретную дверь и пригласила сесть на грубо соструганный топчан.
– Клара вас испугала?
– Ничуть, но я хотел бы уйти.
– Да, да, я знаю, она странная. Клара – прима, любовница главного режиссера, но с претензией и со странными актерскими комплексами. Ей все кажется, что она играет ненатурально, и у нее идея.
– Какая? – увлекся я, немного успокаиваясь в ее присутствии.
– Видите ли, Клара считает, что для настоящей игры нужен настоящий реквизит, ну, например, если по действию происходит дуэль, то и пистолеты должны быть заряженными, и противники должны стрелять без шуток.
– Но ведь так актеров не напасешься, – сморозил я и нервно засмеялся.
– А вы думаете, отчего у нас куцая труппа, и обслуживающего персонала не хватает?
– Вы шутите!
– Ничуть.
– Так зачем вы меня сюда затащили? Я хочу уйти.
Я решительно встал.
– Неужели вас не захватил сюжет? Неужели можно уйти, не узнав продолжения, в недоумении, с ворохом неразрешенных вопросов? Погодите! – она почти умоляла.
– У меня нехорошее впечатление, будто весь спектакль играется для меня.
– Правда?
– Правда, правда.
– Но ведь это прекрасно, ведь зритель должен быть уверен, что все делается для него, для него одного, потому и называется – Театр Одного Зрителя.
– Хорошо, с этим трудно не согласиться, но откуда она узнала мое имя?
– Ой, да это проще всего! – она всплеснула руками. -Наверное, тетя Варя сказала.
– Кто такая? Ах, та мерзкая старуха, всучившая мне бинокль! – осенило меня.
– А она как пронюхала?
– Как-как – вы же плащ сдали в гародероб, а там, поди, и документики, а наша Муза на руку нечиста.
– Так, так, так – я лихорадочно соображал на ходу, -роетесь по чужим карманам?!
– Но мы все возвращаем после спектакля.
И тут я с ужасом вспомнил! Во внутреннем кармане, там, в гардеробе остался мой дневник – такая маленькая записная книжица. О нет, там не обычное развернутое повествование, а лишь одни, как я их называю, сокровенные идеи. Вот в чем дело! Я , кажется, нащупывал скрытые пружины театрального действа. Это театр импровизаций. Поймать тоскующего театрала не трудно на улицах Москвы: идешь и хватаешь у театральных касс. При минимальной психологической проницательности выбрать подходящую жертву элементарно! Потом выпотрошить документики в гардеробе, при общем-то заговоре, а там, глядишь, чего и сокровенное подвернется, письмо или записочка какая, ну а уж если дневник, так это настоящая удача! А дальше, дальше, как на телепатическом сеансе с подсадными утками. Ох, не люблю я этих экстрасенсов, гадателей, пророков. А, впрочем, как же с декорациями, не очень тут все сходится, пожалуй, такого за полчаса не наворочаешь – краска высохнуть не успеет. Да, на импровизацию это мало похоже. Нет, бежать, бежать.
– Я хочу уйти сейчас.
– Но подумайте обо мне! – она обхватила ладошками лицо.
– О вас? Да кто вы мне, я вас не знаю и знать не хочу.
– Да как же вы меня не знаете, ведь меня зовут Серенький.
– Ну, это уже слишком, сумасшедший дом, а не театр. Где сцена, а где жизнь, все перепутано.
– Да, да, ведь сцена – это и есть настоящая жизнь.
– Чепуха, – я потерял голову от ее намеков, – Театр это всего лишь бледная тень, зыбкое отражение настоящего, и не пытайтесь меня запутать искусствоведческими банальностями.
– Я не путаю вас, я, напротив, хочу вам помочь.
– Зачем, кто вас просит?
– Вы.
– Я? Я? Я – свободный независимый человек, у меня своя жизнь, и личная в том числе, и я не позволю лицедействовать в интимной области. Все, я ухожу.
– Вы не сможете! – она вновь переменилась и встала во весь рост, как на той стройплощадке. – Иначе наступит второе действие, и мне придется...
В этот момент послышались шаги.
– Ах, она возвращается идите, идите.
Серенький подтолкнула меня обратно к Кларе.
Но здесь я решил покончить с рабским следованием чужой воле. Я с неожиданной для аткрисы прытью увернулся от ее рук и бросился к настоящему выходу.
– Бойтесь Бледногубого! – донеслось вослед.
* * *
В коридоре по левую руку я увидел Клару, входящую в уборную, и побежал направо. Так, найти выход в фойе, смешаться, раствориться в зрительской массе. А вдруг антракт давно закончился? Да нет, без меня не начнут, да и без Клары то-же. Да, прикинусь зрителем, а там – в гардероб, вырвать документы и бежать, бежать навсегда. А если Бледногубый? Я услышал позади чьи-то крадущиеся шаги.
Наконец я уперся в дверь и, не долго раздумывая, вскрыл потусторонний объем. Черт, это было не фойе, а незнакомая лестничная клетка – я перепутал направление. Ну и хорошо, здесь, быть может, еще ближе к выходу и свободе. Но, едва я начал спускаться, как внизу кто-то зашевелился.
Назад, к свету, стучало в мозгу, когда я бежал вверх по лестнице. На последнем этаже я огляделся. Дальше можно было взобраться по пожарной лестнице, по-видимому, на крышу театра, но я толкнул низкую боковую дверь, и из темноты потянуло пыльным чердачным запахом. Ах, как мне не хотелось темноты, но снизу приближались торопливые шаги. Я вошел, прикрывая за собой дверь, и набросил согнутый из обычного гвоздя крючок. Не тот ли это крючок, который подсовывал я Кларе в буфете – мелькнула трезвая мысль. Ну уж теперь-то я им воспользуюсь по назначению.
Слава богу, здесь был какой-то источник света – где-то вдали, впрочем, о расстояниях можно было только догадываться, светилось квадратное окошечко. Шаги приблизились, и кто-то, тяжело дыша, замер по ту сторону двери. Я протянул вперед руки и пошел на свет. Неизвестный подергал дверь и затих. Я прибавил шагу и, споткнувшись, упал во что-то мягкое и даже рыхлое. Труп – догадался я. Ага. Так вот где они хоронят своих братьев-актеров. Я уже приготовился отряхивать от праха руки. Но странная рыхлая масса не прилипала, и я приподнял ее, что бы рассмтреть. В искусственном свете я с ужасом понял, что держу своего медвежонка с красным ухом.
Вот оно как получается! Значит, все правда – я одинокий зритель, и моя болезнь – не воспаленная фантазия хрупкого невежественного детства, а гениальное озарение, страшное, быть может, научное открытие. Да, это система знаков, умело расставляемых на моем жизненном пути, как все продумано, до каких мелких подробностей. И какой верный финал – раскрыть все в театре. В том месте, где человеку положенно убеждаться в том, что он не одинок, что и другие люди бывают с чувствами, т.е. как бы тоже живыми, здесь все раскрыть! Я прижал к себе медвежонка и поднялся на ноги.
– Мы с тобой одни, – прошептал я ему и надавил, ожидая механического ответа.
– Дха, – донеслось из ватной груди .
– Пойдем на свет, дружок, – позвал я его за собой.
Окно оказалось стеклянной дверью, ведущей на террасу, нависшую над сценой. Мы встали у самой кромки, впрочем, так, чтобы оставаться незаметными. Какое удобное место! Наверное, отсюда специальными людьми низвергаются небесные хляби. Я вспомнил ватный снегопад в Большом в "Пиковой даме". Бедный, бедный Германн, тебя тоже обманули. Тем временем внизу, словно на ладони, разворачивалось второе действие.
Сергуня приблизился к родительскому ложу. Бледногубый и Клара спали, запрокинув назад головы. Впрочем, Клара как-то слишком жмурилась и двигала ресницами. Мальчик наклонился, несколько мгновений всматриваяся в родные лица, а после поднял руку с блистающим лезвием. Зал в ожидании притих.
– Смотри, мой друг, ведь он зарежет, – прошептал я медвежонку.
– Дха, -снова выдохнула игрушка.
Э, да откуда ты можешь знать? Ведь тебя же не было со мной в той комнате! Не заодно ли ты с ними? Я тряхнул медведя, и тот жалобно заскулил. И здесь меня словно самого тряхнуло. Что же это я делаю, спятил я, что ли? Разговариваю с неживой игрушкой, черт, да ведь мой-то медведь был раза в два поменьше. Это мне, маленькому, он был по плечо, а теперь я вырос. Да, все подстроено, но как топорно, как будто они не рассчитывали на мою природную проницательность. Грубо, грубо, как в плохом эксперименте. В следственном эксперименте! Черт, так вот оно что! И моя актриса, в кожанной куртке, не случайно была. Ага, они выследили меня, но не хватало улик, и тогда решили воспроизвести мелкие подробности того времени и вывести меня на чистую воду! Да, да, черт – они знали мою любовь к театру и воспользовались ею. Точно, преобразили старое, заброшенное здание, явно приписанное к сносу – не зря же рядом стройка, устроили эту комедию с буфетом, состряпали наскоро пьеску, даже не пьсу, а одну единственную сцену, пригласили понятых в качестве зрителей, черт знает каких пенсионеров, и теперь ждут, когда я во всем сознаюсь. То есть, не выдержу в самый крайний момент и как-то выдам себя. Ну уж нет, дудки, господа присяжные заседатели. Не судите и не судимы будете! Нет меня в зале, нет, сбежал, а что сейчас подсматриваю так это надо еще доказать.Ну, давай, давай, Сергуня, тычь своим картонным ножичком. Я раскусил твою роль!
– Притворщики, – прошептал Сергуня и быстро ударил ножом два раза.
Я отчетливо увидел, как брызнули на белые подушки струи теплой, дымящейся крови. Черт возьми, у меня перехватило дыхание, вот это спецэффекты! Клара судорожно дернулась несколько раз и замерла, глядя в меня неподвидными глазами в нежных, смуглых разводах.
– Нет! – закричал я на весь зал, но никто меня не услышал. Все утонуло в шквале вострженных оваций. Я отвернулся, и, чтобы не слышать этого сумасшествия, побежал вон.
Когда я сбросил гвоздик, дверь открылась, и на меня вывалился какой-то человек.
– Ах, простите, – вежливо извинился гражданин. -Вот, возьмите, – он протянул старый, со стертой позолотой, бинокль. – Хотел в антракте догнать вас и отдать, да вот не успел, пришлось конец пропустить.
– Спасибо, – я автоматически поблагодарил его, опасливо беря бинокль.
Когда я уже сбегал вниз, тот перегнулся через перила и крикнул:
– Чем все кончилось?
– Финалом!
У меня не было ни малейшего желания вступать с ним в контакт, и я помчался дальше вниз и лишь перед самой дверью до меня донеслось его задумчивое:
– Ага.
Теперь бежать просто и прямо. Раз так все мерзко устроено – черт с ними, с документами. Разве паспортом здесь спасешься? Будто перед прыжком в воду я набрал побольше воздуху и шагнул в фойе.
* * *
В фойе царила шумная театральная суета. Кто пристаривался в очередь, кто присел отдохнуть на диванчик, а кто спешил перекурить в туалете. С разных сторон доносились восторженные возгласы, меткие замечания об игре актеров, общие одобрительные кивания головой. Впрочем, там, поближе к вожделенным одеждам, где шустро орудовала тетя Варя, зрительский энтузиазм уже спал, и там все больше позевывали, а кое-где уже и поругивались. Длинная людская очередь, словно ископаемое чудовище, медленно окуналась головой в суетливое море обыденной жизни.
Я выставил, как на показ, бинокль и побежал вперед обгоняя неповоротливого монстра. Что же, раз ничего не произошло, то надо жить дальше, а без документов все-таки это неудобно.
– У меня бинокль, – я нагловато посмотрел в глаза чудовищу.
– Пожалуйста, пожалуйста, – интеллигентно ответила голова.
Старуха с готовностью приняла волшебный талисман и, отдавая мой плащ, прибавила:
– Ну вот, а ты не хотел брать бинокль, тапереча раньше всех до метро дочапаешь, а там и домой – на боковую, счастливчик.
Я демонстративно проверил содержимое карманов – все оказалось наместе, и паспорт, и записная книжица. Черт, подумал я , а ведь за билет-то я не платил.








