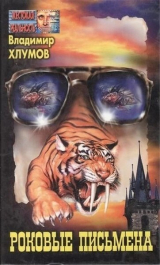
Текст книги "Роковые письмена"
Автор книги: Владимир Хлумов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
Вадим еще раз прочел написанную дробным, по-детски суетливым языком, заметку в вечернем выпуске «МК», усмехнулся и вытянул ноги поближе к песьему боку. Пес зашевелился и доверчиво положил морду на ноги новому хозяину. В окне, над бесконечными однообразными черемушками догорал сентябрьский закат. Такой знакомый и теперь уже такой далекий, и совсем не похожий на пронзительное, цвета печеной кукурузы, вечернее небо Аризоны. Он не помнил своей предыстории.
Нет, не в смысле отца и матери или детства, хотя и здесь в последние годы появились нешуточные сомнения. Например, он совершенно не помнил своих школьных минут. От всех десяти школьных лет у него только и осталось, что сказочный вкус столовских рожек. Все остальное:
трепетно-пионерское и изнурительно скучное, навязчивое и бессмысленное комсомольское, – он старался не вспоминать и в результате окончательно забыл. Было еще какое-то щемящее детское воспоминание от черно-белых фильмов шестидесятых, с их чистотой, искренностью и недосказанностью. Когда с годами недосказанное стало понятным, и огромная красивая страна превратилась в шамкающий бред отчетных докладов, стало ясно, что добрые, надежные друзья, готовые придти и в снег, и в ветер на помощь со своих черно-белых экранов, навсегда разошлись по звездным тропам и геологоразведочным партиям и никогда уже обратно не вернутся. Они предательски бросили его один на один с огромной чудовищной ложью. И однажды мальчика осенила странная, почти неопровержимая идея, что весь окружающий мир – а состоял он, в частности, из отца и матери, ответственных партийных работников, из школьных товарищей, из преподавателей обществоведения и комментаторов центрального телевидения, – все они, близкие и неблизкие люди, вовсе не обычные люди-человеки, но актеры, занятые в чудовищном спектакле, специально поставленным для него одного.
Эта страшная мысль рождала вначале ни с чем не сравнимое чувство одиночества, и он часто просыпался с ним в холодном и мокром от пота белье. Он подолгу лежал в этой бесконечной пустоте, не ощущая ни сторон света, ни направления времени, и боялся пошевелиться. Он чувствовал, что где-то рядом в темноте притаился главный режиссер безумного спектакля и только и ждет случая, чтобы громко расхохотаться. Он верил и не верил. Но абсолютно твердо знал: да появись на сцене главный режиссер, и наступит смертельный конец, потому что правдоподобная ужасная идея станет уже не пугающей гипотезой, а настоящей реальностью, лишенной жалости, потому что как же можно так пугать и разыгрывать маленького мальчика?!
Но годы шли, а режиссер не появлялся. Дурной кошмар отходил в прошлое детское забытье, и это его не очень радовало. Во-первых, чудная мысль о спектакле ставила все-таки его в особое положение: ему даже льстило, что огромная масса актеров старается ради него одного. Ведь получалось, что остальные люди как бы шуты при его дворе. Кстати, особенно он любил читать такие книжки, где люди выводились в смешном или сатирическом виде. Поэтому ему нравились "Мертвые души" и главы "Мастера и Маргариты" с описанием советской действительности, все эти Варенухи, Ноздревы и Чичиковы. Последние письма Гоголя считал малодушием и старческим маразмом, и ему было невдомек – отчего это поздний Гоголь не любит раннего.
И так режиссер все не появлялся, хотя очевидно, что таковой режиссер существует. И вдруг, это уже было вполне в юношеском возрасте, его осенила новая замечательная идея, что главный режиссер – это он сам!
И не только режиссер, но и автор!
Это, лишь на первый, наивный взгляд, безумное предположение захватило его целиком. О, нет, конечно, тут не было сумасшествия, и он не бросился по всем углам, подобно гоголевскому герою, объявлять, что вот он именно и есть тот самый Наполеон. Да и окружающий мир иногда выкидывал такие неожиданные коленца, что в пору было пересмотреть свои взгляды. И так бы наверное и сделал какой-нибудь более простодушный человек, но конечно не он. Он понимал, что только в плохих пьесах герои следуют во всем за автором, а в пьесах талантливых, то есть написанных талантливым человеком, персонажи должны быть и сами вполне самостоятельными и создавать впечатление настоящих людей. Да, принцип свободы выбора, свободы воли должен быть соблюден неукоснительно, но, конечно, в определенных рамках. Решение кардинальных вопросов он оставлял все-таки за собой. Иногда, правда, играючи вмешивался и по мелочам, так, для куражу, то есть в порядке поддержания сухим пороха.
Например, уже работая в одном институте социалистического планирования программистом, устроил опечатку в графе "Мясо-молочные продукты", и в результате вся страна перевыполняла план по животноводству на дополнительных три процента, хотя на самом деле колхозы и совхозы эти три процента передавали друг дружке для отчета по десять раз, пока они окончательно не протухли и не скисли. В конце концов, все это сработало на перестройку, и еще неизвестно, как повернулось дело у Белого дома в оба раза, если бы не его опечатка.
Но когда институт планирования закрыли, получился определенный вакуум, ему будто руки обрубили, и он задумался над выбором инструментария. И его еще раз осенила грандиозная идея.
Случилось это после знакомства с Библией.
Когда он прочел, что вначале было слово некоего существа, чье имя никому неизвестно, а кому известно, он призадумался. В этой космогонии ему не понравилось, что он есть результат чей-то обмолвки, слишком долго он изживал эту детскую идею. Но понравилась то, что слово может обладать такой грандиозной созидательной силой. И даже дело не в том, что от слова Божьего все произошло, в это он как раз и не верил, а в том, что люди так ценят силу слова, что эта космогоническая гипотеза уже несколько тысяч лет пользуется огромной популярностью у значительной части населения планеты. Ведь если Библия искажает суть вещей, что совершенно очевидно каждому умному человеку, и при этом не отвергается людьми, то от этого только возрастает колоссальная мощь слова. Поэтому он решил стать писателем. Но ясно, что слово не всякого человека может быть всемогущим, и становиться каким-то второразрядным писателем, или точнее описателем, как он называл писателей типа Бунина или Тургенева, не имело никакого смысла.
Даже создатели марксизма, с их чудовищно примитивным материализмом, сумели привести в движение грандиозную массу народа. И все только потому, что не слепо копировали окружающий мир, а пытались его изменить.
В общем, вскоре он оказался в Литературном институте.
9Утром Вениамина Семеныча разбудил звонок Зарукова. Надо было спасать отца Серафима от журналистов. Да и газеты уже пестрели ужасающими подробностями вчерашнего происшествия.
– Вы почитайте "МК", все свалили в одну кучу, и Токийское метро, и бывшего министра безопасности, а уж про электричку, и отца Меня вспомнили, а один борзописец сочинил, будто отец Серафим пытался соблазнить манекенщицу, и когда люди вступились, он их проклял крестом, и те скончались.
– Я всегда говорил, что бывшие комсомольцы ничего путного придумать не могут, а только способны весь мир обливать грязью, чтобы залечить свое розовощекое комсомольское детство.
– А молодежь с удовольствием читает.
– Молодежь бывает разная.
– Кстати, – после паузы вспомнил Заруков, – наш отец Серафим, личность общественная, сторонник крайнего православия, труды имеет...
– Да, да, я знаю, он и живет как отшельник. Иеромонах.
– Дело получается общественно-значимое.
– Все дела общественно значимы.
– Кстати, как он сам? – спросил Воропаев.
– Вроде, оклемался, с Вами поговорить желает.
– Да что же ты сразу не сказал, ну блин, Заруков, ты даешь!
В тот же час Вороапев прибыл в больницу. Доктор Михаил Антонович вышел на встречу и разводя руками, взвыл:
– Господин полковник, журналисты одолели, напугайте их как-то.
– Их напугаешь, – на ходу говорил Воропаев, пробираясь через микрофоны в палаты.
– Господин полковник! – уже подхватила журналистская братия. Одна молоденькая дамочка, с непреклонной любовью к правде в глазах, буквально уцепилась за его рукав.
– Скажите, вы из ФСБ?
– Да, – отрезал Воропаев и вспомнил почему-то комсомольскую стерву, которая мучала его на политзачете в далекие застойные годы.
– Рассматриваете ли вы покушение на отца Серафима как попытку запугать Русскую Православную Церковь?
– Нет, не рассматриваю.
– Какая же рабочая версия?
– Обратитесь в департамент по связям с общественностью, – отбился Воропаев.
Отец Серафим выглядел совсем здоровым человеком. Он уже встал с постели и рылся в своей котомке. Воропаева вспомнил сразу и на его вопросительную мину ответил:
– Слава Господу Богу нашему, жив и здоров вполне, – отец перекрестился, – а вас хотел видеть не потому, что вспомнил важное, хотя кое-что и вспомнил, да говорить пока смысла нет – не поверите.
– Почему же не поверю, – попытался возразить Воропаев, но отец его прервал.
– Нет, не время еще, а хотел вам на дорожку одно словечко сказать.
– Да я никуда не собираюсь, батюшка. – недоумевал Воропаев.
– Вы уже отправились, и назад не свернете. И если уж дойдете до конца, то непременно мы с вами встретимся.
Отец Серафим присел на край постели и пригласил сесть Воропаева.
– Я давеча вам говорил, что, мол, гряде новый человек, так знайте, был немного не в себе, побоялся сказать правду, а теперь уж точно знаю...
Воропаев замер.
– Новый человек уже наступил и явлен миру.
– Кто же он, – не выдержал напряжения Вениамин Семенович.
– Он не убийца, – изрек Отец Серафим.
Карамазовщина какая-то, подумал Воропаев и повернулся с молчаливым вопросом к доктору. Тот пожал плечами, мол, такие они, отшельники человеческого духа.
– Вы можете не верить мне пока, а только запомните на будущее мои слова.
И еще, не ищите причин, потому что новому человеку причины не нужны. И отец снова прочитал из Апокалипсиса:
"И чудесами, которые дано было ему
творить перед зверем, он обольщает
живущих на земле, говоря живущим
на земле, чтобы они сделали образ
зверя..."
Потом он перекрестился и уже собрался выйти, но спросил:
– Жива ли та девица?
– Жива и здорова, вчера даже выписали, – ответил доктор.
– Меня вера спасла, а ее невежество.
– Но ведь те шестеро, отец, погибли, и остались свидетели, та девица и вы, между прочим, могут быть жертвы...– попытался воззвать к гражданскому чувству служителя культа Воропаев.
– Девицу поберегите, а мне умирать не страшно, да и Создатель не позволит, – твердо сказал отец.
– Да ведь позволил же, – не выдержал Воропаев. – Отчего же это дальше Бог препятствовать будет?
– Я не сказал Бог, – отец Серафим поднялся с постели, показывая всем видом, что он здесь оставаться больше не намерен.
– И доктора еще не выписывают, – Воропаев оглянулся на Михаил Антоновича.
– Не вижу причин задерживать пациента в больнице, конечно, если только в интересах следствия?
– Ну вы скажете, доктор? Какие на дворе годы-то! – возразил Воропаев.
– А какие наши годы.
Доктор театрально отдал честь и вывел отца Серафима через служебный выход.
10С утра Андрей не пошел на лекции. В Численных методах и так ему не было равных на факультете, а слушать, как бывшие преподаватели марксизма излагают Юнговскую теорию коллективного бессознательного...
Впрочем, им ли не знать обо этом?
На самом деле, Андрей, проснувшись за широкой чугунной спиной Михаила Васильевича, обнаружил в окне настоящее бабье лето. Он давно уже не обращал внимание на вид в окне – что там могло измениться? А теперь удивился красоте Московской осени. Дальше, как-то незаметно для него самого, он очутился на Чкаловской улице и, притаившись на том самом Воропаевском спуске, стал следить за подъездом.
Что же он делает? Сам себе удивлялся Андрей. Отчего он, управлявший вчера железным механическим потоком, теперь безвольно стоит битый час посреди московской толчеи, не смея сдвинуться с места?
Но дикое, невозможное еще вчера, рабское состояние не казалось ему отвратительным. Только тревога временами сладко и приятно сжимала что-то внутри. Дабы преодолеть волнение, Андрей вспомнил подходящее наставление Учителя: "Чтобы стать человеком знания, нужно быть легким и текучим". Но ни легкости, ни текучести не было и в помине. Он не мог проделать даже с собой то, что Учитель проделывал с другими людьми. Например, Учитель мог превратить любого человека в какое-нибудь мелкое летучее насекомое. Какие-нибудь заезжие коммерсанты или наши простые инженеры вдруг превращались в комаров или пару летящих к свету мотыльков. Однажды Андрей, в ожидании очередной связи, чуть раньше зашел на страничку Учителя и обнаружил там целый клубок мух, жуков, комаров и гусениц. Они, как обезумевшие, ползали и летали по экрану дисплея, сталкиваясь и кусая друг дружку, при этом они разговаривали и мыслили как настоящие люди, и если их кликать мышкой, они превращались в разных представителей русского общества. Андрей был просто захвачен этими точными характерами и их превращениями, но появился Учитель и попросил его нажать и не отпускать клавишу "Enter". Насекомые стали пропадать. Он сметал все насекомое царство простым нажатием клавиши, и ему слышались их жалобные предсмертные крики. Ему стало нестерпимо больно, и он отпустил клавишу. Одна мохнатая гусеница, вернее, ее отрезанная половинка, конвульсивно выворачивала тушку и с болью смотрела на Андрея.
– Что же ты остановился? – нетерпеливо простучал Учитель.
– Мне жалко.
Вообще, всегдашняя по любому малому поводу жалость была настоящим Андреевым крестом, который тот все таскал с собой по жизни, не зная как от него избавиться, и наверное, была результатом безотцовщины и женского воспитания.
– Пей от жалости!:) – со смехом напечатал Учитель.
– Что пить? – не понял Андрей.
– Первую половину.
– Половину чего?
– Пейот – это древнее индейское зелье, которое помогает стать легким и текучим. Жми дальше!
Тогда Андрею показалась занимательной игра слов Учителя, и он стер искалеченную гусеницу. Ему стало легко на душе, совсем не так как сейчас. Наконец дверь парадного открылась и появилась Катерина.
Андрей, еле двигая чугунными ногами, двинулся навстречу.
– Добрый день, Катя, – глядя мимо выдавил Андрей.
– Я выглянула в окно и решила, что наступили последние теплые дни, и иду прогуляться по бульвару, – Катерина совсем не удивилась его появлению.
– Я тоже, – вставил Андрей, выпрямляя плечи и стараясь быть повыше.
– Впрочем, – Катерина с едва заметной улыбкой взглянула на Андреевскую нескладную фигуру, – у меня там одно дело, хотите, проводить меня?
– Хочу, – согласился Андрей, радуясь простоте ее обращения.
– Только одно непременное условие, – Катерина стала серьезной.
– Какое?
– Не влюбляйтесь в меня.
Андрей, застигнутый врасплох, только и сказал:
– Мне нравится ваше имя.
– Имя у меня самое обычное. Сейчас сплошные Кати да Даши, а знаете почему?
– И не дожидаясь ответа продолжила, – Просто двадцать лет назад вся страна смотрела экранизацию "Хождения по мукам", вот теперь как раз Толстовские героини вступают в жизнь. Впрочем, я уже успела пожить...
Катя поправила прозрачную косынку на глубоком овальном декольте, слабо прикрывшем изогнутую смуглую поверхность, продолжение которой казалось очевидным и прекрасным.
– ...Ведь у меня дочь, и я уже за мужем была да, да, Андрей, – она говорила не для эффекта, хотя эффект был налицо.
– Как замужем? – глупо удивился Андрей, уже не замечая осени.
– Неформально, но это в прошлом. Теперь я живу с мамой, и еще у меня две собаки, кошка, и... лошадь.
– Лошадь?! Как же? Катя улыбнулась, и они свернули на бульвар.
– Конечно, не дома, на ипподроме, но я иногда приезжаю на ней домой.
– Прямо сюда, в самый центр, – чуть не удивился вслух Андрей, но вовремя спохватился, понимая, что его разыгрывают.
Катя весело рассмеялась. Прохожие, и без того оглядывавшиеся на нее, теперь просто останавливались и провожали странную не гармонирующую парочку взглядом. Проезжие мерседесы и джипы восторженно сигналили, а старинная Москва улыбалась теплым солнечным светом.
– А собаки у вас гончие, борзые? – решил поддержать игру Андрей.
– Да, Полкан и Груша, и мы иногда гуляем все нашей семьей. – Катя вдруг погрустнела, – Но это бывает так редко. Семья большая, надо всех кормить, а работаю я одна...
– Манекенщицей...
– Не только, заключаю сделки, снимаюсь в рекламных роликах и... очень устаю...
Они свернули на бульвар и стали подниматься вверх под кривыми желтеющими липами.
– А где же отец? – взволнованный необычной фантазией Катерины спросил Андрей.
– Я же говорю, развелась и больше о нем вспоминать не желаю.
– Да нет, ваш отец, а не ребенка, – уточнил Андрей.
– Фу, какая глупая, видно каждый болеет своим, – она хитро посмотрела на Андрея, – Папа мой умер, три года назад. Он был архитектором, кстати, наш дом построен по его проекту.
– Мрачноват.
– Ну, это снаружи: а внутри, ох, я вас, может быть, приглашу в гости, ведь я затеяла ремонт, высокие потолки, стену одну убираю и все делаю из натуральных материалов... я хочу, чтобы все было красивым и настоящим, и мебель из настоящего дерева...
– Красного, – неизвестно чему злился Андрей.
– Да, обязательно, я гарнитур в Италии заказала, у меня все должно быть настоящее, красивое и даже великолепное... – она посмотрела на Андрея, так будто собиралась поделиться самым дорогим. – У меня в детстве над кроватью висела репродукция Карла Брюллова, и мне всегда хотелось иметь такой дом, такую лощадь и такую же красивую девочку...
Перед глазами Андрея всплыла брюлловская ... картина. То есть не в деталях, а как один блистающий атласом квадрат. Но квадрат так и оставался безжизненным квадратом, с неприступной лакированной границей. То был какой-то чуждый ненастоящий мир. И почти фотографическая манера, только подчеркивала иллюзорность того мира.
Как будто художник специально, как это делают сюрреалисты, выписывал все детали, желая убедить зрителя в подлинности его фантазии. Он опять вспомнил Учителя. Тот как-то ему объяснил, что современные авангардисты и прочие модернисты, на самом деле и в подметки не годятся Шишкину и Айвазовскому. Поскольку мир это всего лишь фантазия духа, то всякое точнейшее ее копирование и есть настоящий авангардизм. А эти смешные открыватели новых горизонтов, всего лишь рабски копируют единственное реально существующее – сознание художника. Поэтому исторически живопись, возникшая в каменные времена, завершила свою миссию, вернувшись к примитивному пещерному реализму. Конечно, самым отстраненным искусством было и остается искусство фотографии. Но и Перовские водовозы очень неплохи!
Андрей улыбнулся и спросил:
– А что значит красивое?
– Красивое?! Да это так просто, оглянитесь же вокруг, смотрите, как красиво!
У Маросейки они перешли на тротуар и оказались у старого особняка, обросшего реставрационными лесами. Ремонт шел по-современному, и лицевая часть здания была обнесена зеленым полупрозрачным занавесом.
Маленький уголок Москвы напоминал театральные подмостки, где готовились декорации для какого-то нового неизвестного спектакля.
Андрей вослед за Катериной задрал голову вверх на противоположный, уже блистающий европейскими окнами, отремонтированный дом, так что леса оказались как раз у них за спиной. Молодые люди прикасались плечами, и он чувствовал ее теплое дыхание. У Андрея даже закружилась голова, во всяком случае, крытые зеленой дымкой леса, отраженные в зеркальных окнах, закачались и поплыли.
Лишь через секунду Андрей сообразил, что за спиной происходит нечто необычное. Он оглянулся и увидел, как трехэтажная конструкция накренилась и уже приготовилась обрушиться на них. Андрей что-то крикнул и потащил Катю в сторону. Едва они отбежали, как леса рухнули и плотное облако пыли поглотило окрестности. Когда туман рассеялся, и снова появилась Москва, Катерина, протирая глаза, промолвила:
– А мне ведь и надо было в этот дом.
– Зачем, – удивился Андрей, глядя на оголившийся фасад безжизненного здания.
– Мне позвонили и просили зайти по этому адресу.
11К полудню тучи сгустились над Воропаевским небом. Пришло известие о гибели того самого пьяного купечека, что проспал всю дорогу в злосчастном третьем вагоне. Битюг был найден в собственном подъезде с проломленным черепом. Орудие убийства – проржавевший кусок арматуры, валялось рядом, и никаких следов, кроме следов крови жертвы, не хранило. Вениамин Семенович тут же поручил Зарукову найти Катерину и кого-нибудь направить в Клинский район к иероманаху Серафиму. Сам же отправился в долгое путешествие по Подмосковью. Начал он с самой ближайшей платформы, последовательно от столицы вглубь. Между станциями он садился у окна, глядел невидящим взором на последние теплые минуты этого года и размышлял о деле. Все выглядело бессмысленным и особенно это последнее убийство. Битюг проспал всю дорогу, о чем было напечатано во всех газетах. Какая же причина его убивать? Или он и вправду не нуждается в причинах, как говорит отец Серафим. Кто же он этот Новый Человек? Вениамин Семенович теперь для определенности так обозначал преступника. Нет, причина должна быть обязательно, подсказывал ему многолетний опыт работы в комитете госбезопасности. Причем, причина из ряда вон, если убираются проблематичные и неопасные свидетели. Свидетели чего? Новый Человек очевидно вышел где-то перед Москвой. Утро было раннее, воскресное, народу немного, по большому счету и убивать-то некого. Воропаев, словно пес, помотал головой, пытаясь избавиться от шума в ушах. На ум пришло хокку крестьянина Иссы. Сборник средневековой японской поэзии он часто брал с собой на оперативные задания и зачитывался, укрывшись от людского глаза в каком-нибудь тихом месте. Но сейчас стихи казались чужими и неуместными. Вспомнил доктора. Не любит он гэбистов... Да какой я к черту гэбист? Я и следователь-то никудышный, живу по инерции – подумать некогда. Опять помотал головой. Надо бы действительно провериться – может давление?
Электричка стала притормаживать, и за окном появились бетонные ребра очередной станции. На платформе было людно, но Воропаев сразу обратил внимание на необычную нищенку с маленьким мальчиком. Необычность заключалось в какой-то излишней театральности парочки. Видно было, что она совсем девочка, но разодета по-взрослому. Воропаев подошел, бросил тыщенку в замасленный картуз и спросил:
– Где же ваши родители, братья и сестры?
– Мы сами себе родители! – огрызнулся мальчонка.
– Вижу, вижу, – он наклонился и посмотрел в лицо девочки.
Конечно, это была сестра мальчика, но вовсе не девочка, а девушка лет восемнадцати, только совсем худенькая и маленькая.
– Как звать сестру-то? – не терпящим сомнений голосом спросил Воропаев
– Дашка, – ответил мальчишка.
– А по отчеству?
– Дарья Николаевна, – с достоинством ответила девушка и одернула мальчишку.
– А тебя как зовут? – обратился он к мальчику, который тем временем
уже прятал сумку с деньгами подальше.
– Петька Щеглов. – Назвался мальчонка и добавил, – Как в "Белой Гвардии"
– Ухты! – Удивился Воропаев, – Так где же твои родители?
– Габэ повязало, за пропаганду религиозной розни.
Воропаев весело рассмеялся.
– Да, они у нас евреи, а мы русские! -добавил Петька.
– Ну ты брат даешь, а какую такую пропаганду они вели?
– Какую, какую, – мальчик неуверенно приумолк, – Они масонскую ложу организовали, и всей ложей подали на выезд в Палестины, а их не выпустили. Тогда они приняли в ложу триста бывших советских работников и принудили их перейти в иудаизм.
– Откуда перейти? – уточнил Воропаев.
– Из марксизма. А когда к обрезанию приступили, кто-то настучал и их там всех повязали. Кровищи было! Жуть.
– Да вы не слушайте его, – вступила сестра, -Он на свалке нашел пособие для высших учебных заведений по истории религии. И теперь от голода ее одну читает каждый вечер.
– Каждый вечер, – задумчиво повторил Воропаев, – А с утречка, следовательно, здесь, на платформе.
– Да, каждый божий день и так всю жизнь, – отчеканил мальчик.
– А вчера утром, гражданина в черных очках не видали?
– Был, пятьдесят тысяч сунул и слямзился, Кришнамурти.
– Почему Кришнамурти? – еле сдерживался от радости Воропаев.
– Да перестань, Петька, голову морочить человеку, – Даша сделала строгое лицо. – Красивый молодой человек в синем джинсовом костюме, высокий лоб, а шел, будто слепой.
– Вот именно, Кришнамурти, идет себе аки посуху, раскатал ауру по платформе, нас не замечает. Пришлось догонять. Ну я-то сразу смекнул, что мужик из себя Гуру корчит, да и сам будто не в постели проснулся, а только вот после реинкарнации, пророк новоявленный.
Мальчик смешно скопировал походку Нового Человека.
– И куда он так пошагал, – спросил Воропаев, радуясь таланту мальчика.
– Думаю, куда-нибудь в Шунью или дальше...
– Шунью? – не сразу сообразил Воропаев.
– Шунья, это Великая Пустота, но я думаю, что этот будет рыть до самой Камакуры, где живет главный дзэн-буддист Судзуки.
– Но Судзуки умер в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году. поправил мальчика майор ФСБ.
Петя усмехнулся, будто не он, а Воропаев был маленьким мальчиком.
– Если бы он умер в 1961 году, то да, как не верти, а все один год получается, а вот Судзуки умрет в 9961 году, и будет это уже не Судзуки, а наш Кришнамурти.
– Ну хорошо, он что на автобусе в свою Шунью поехал? – не отставал Воропаев.
– Да, на шестьсот шестьдесят шестом, и собака с ним – я видел. Он ее Умкой назвал и она согласилась.
– А узнать вы его смогли бы?
– Хм, – мальчик победно посмотрел на Воропаева и достал в четверо сложенный листок бумаги, – Вот, вчера нарисовал по памяти. Уступлю по арбатской цене – десять тыщь.
В этот момент запиликал телефон, и Воропаев, отойдя в сторонку, узнал от Зарукова о происшествии на Маросейке. Потом вернулся к детишкам, расплатился, посмотрел Дашин паспорт с подмосковной пропиской и еще раз спросил:
– Родители тоже в поход отправились?
– Да, пошли по тропам студенческой юности, но они завтра вернуться сказал Мальчишка и после паузы добавил:
– Кришнамурти тоже придет. Куда ему деваться?
Воропаев пошел на автобусную остановку. Здесь у диспетчера он выяснил фамилию водителя и стал ждать автобус.
Лишь теперь развернул детский рисунок, на котором были нарисованы два черных круга на пустом белом фоне. Когда подошел автобус, он показал водителю Петькин портрет, и тот сразу вспомнил раннего пассажира с собакой. И даже припомнил, где он вышел – на станции метро "Водный Стадион". Воропаев вернулся на платформу. Нищенки не было.
Уже сидя в электричке, он вспомнил: в списке погибших значились супруги Щегловы.








