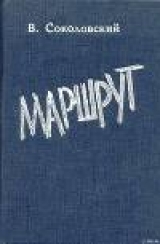
Текст книги "Пал Иваныч из Пушечного"
Автор книги: Владимир Соколовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
18
И снова – утром ли, днем ли, ночью – идет на свою рабочую смену низенький, скуластый, стриженый мальчишка. На заводе он – большой человек! Он делает пушки. Из этих пушек наши бойцы громят врага.
На работе – все забудь. Мало ли, что дома болеет Генька или Витька схватил подряд три пары. Забудь и то, что ты, например, не выспался или просто плохое с утра настроение. Тут работа! Не только сам крутись юлой, а еще и успевай подгонять Ваню Камбалу, по-прежнему ежеминутно поддергивающего грязные короткие штаны на плоском заду.
В эту зиму с Пашкой произошел случай, о котором потом на заводе рассказывали легенды.
Одна из них звучала примерно так;
«Прикатывают это на полигон партию пушек. Ну, приемщики тут, понятно, целая военная команда. Старший над ними – полковник по званию. Стали снаряжать к стрельбе первую пушку – что такое? Не открывается замок, да и всё тут! Туда-сюда – не открывается! Полковник бежит к телефону, звонит на завод: «Товарищ Быховский! В головном орудии сегодняшней партии допущен серьезный брак. Прошу немедленно принять меры!» Директор ему отвечает: «Не нервничайте, сейчас я вышлю специалиста». Выходит из заводоуправления, садится в свою персональную «эмку» – и к пушечному. Является к начальнику цеха: «Ну-ка, где у вас Пал Иваныч?» Вызывают Пал Иваныча: «Тут за воротами стоит моя машина, садись в нее и езжай немедленно на полигон. Надо поддержать честь завода. На тебя вся наша надежда!» Тот садится, едет. Приехал, вылез из «эмочки» и – к пушке. У военных глаза на лоб. Полковник снова к телефону, звонит Быховскому: «Вы кого мне послали?» А тот в ответ: «Не волнуйтесь, все будет нормально. Пал Иваныч у меня дело знает». Пал Иваныч сделал все, как положено, полковник сам проверил – не пушка стала, а золото, на пять с плюсом! Хотел Пал Иванычу спасибо от всей армии сказать, да смотрит – тот уже садится в «эмочку». Приехал, заходит прямо к Быховскому: «Так и так, ваше приказание выполнено!» Директор ему тут же выдал почетную грамоту и отрез на костюм. Вот как дело было!»
Пашка сам краешком уха слыхивал такую историю. Рассказчиков не перебивал, не поправлял. Думают так – ну и пускай думают. Он-то знает, что было совсем по-другому.
Насчет замка – все верно, заело на полигоне замок у головной пушки. Насчет звонка директору – может быть. Но уж точно Быховский в связи с этим никакой «эмки» не вызывал и лично в цех за Пал Иванычем ехать и не подумал. На заводе тысячи людей, откуда ему знать ремесленника Пашку! Скорее всего, попросил соединить его с начальником цеха и строго приказал немедленно принять меры. Баскаков спросил начальника участка: «Кого пошлем, Александр Ильич?» – «Да Пал Иваныч тут где-то был. Он ведь у нас замками-то ведает». И вот Пашка уже стоит перед Спешиловым. «Давай, Паша, садись на трактор, что с полигона пришел, и дуй туда. Говорят, замок заело. Разберись! Инструмент возьми!»
Пашка угнездился в уголке теплой тракторной кабины, тракторист тронул рычаги, и машина, ворча, потряслась по дороге. Потом он провалился в глубокий сон, неспокойный – там, в этом сне, тоже что-то тряслось, свистело, погромыхивало… Но лишь только трактор остановился, прекратилась тряска и стих шум мотора, как Пашка проснулся, увидал заснеженную пристрелочную площадку, пушки, будку и все вспомнил. Помотал головой, отгоняя дремоту, вылез на гусеницу и спрыгнул в снег. Подволакивая ноги в больших, не по росту, валенках, пошел к пушкам, к людям, стоящим возле них.
Старший, полковник по званию, спросил, глянув на шкета в замасленной телогрейке до колен, в шапчонке ремесленника:
– Эй, паренек, тебе чего?
– Да шут его знает, – хмуро отвечал Пашка. – Из цеха вот послали, говорят – пушка барахлит.
У полковника даже голос сделался какой-то плаксивый.
– Ну что же это такое? – воскликнул он, обращаясь к стоящим тут же офицерам. – Я ведь просил русским языком, чтобы послали знающего, квалифицированного, опытного товарища! А тут – извольте видеть! Сосунок, мальчишка, ну в чем он может разобраться, чем помочь?
Но Пашке было не до разговоров. У военного человека свои дела, свое начальство, а у Пашки – свое. Что оно сказало, то он и обязан сделать.
Пашка подошел к стоящей на огневой позиции пушке, спросил заводского испытателя:
– У этой, что ли, замок-то заело?
Не слушая ответа, вынул из кармана телогрейки деревянный молоточек. Ударил им по дуге, и сразу рукой – по рычагу замка. Замок открылся, лязгнув. Пашка поднял к изумленному испытателю чумазое курносое лицо, подмигнул хитро: «Слова знать надо!» Достал завернутую в бумагу пасту для притирки, склонился над механизмом. Стали подходить офицеры, столпились за Пашкиной спиной. Стояли тихие, будто боялись помешать работающему мальчишке. А Пашка закончил свое дело, кивнул испытателю: «Ну-ко давай!» Тот стал работать замком – механизм работал четко, надежно, легко. Пашка вытер руки захваченной из цеха ветошью, завернул обратно в бумажку остаток пасты и, волоча валенки, пошел к трактору.
У полковника задрожало лицо, он рванул шинель на горле так, что затрещал крючок.
– Эй, мальчик! Постой!
Пашка остановился:
– Чего?
– Сколько тебе лет?
– Четырнадцать. А чего?
– Да так. Ты подожди-ка немного.
Полковник ушел в будку, вернулся оттуда с буханкой хлеба и двумя банками тушенки.
– Не обидитесь, – спросил он у офицеров, – если отдам часть пайкового запаса этому мальцу?
Они загудели:
– Надо, надо отдать, какой разговор!
– Эх, ребятишки, чего только они сейчас на себе не тащат!
– Мои тоже вот так же где-то…
– Бери, парень!
Так Пашка вернулся с полигона в тот день с хлебом и тушенкой. Очень пригодились! Но никаких отрезов и почетных грамот от директора он тогда не получал.
Впрочем, грамоту за ударный труд ему дали.
Но это было уже весной, к Первому мая.
19
Самое тяжелое время – от середины до конца зимы. Холодно, день короткий, картошка кончилась. Мать, несмотря на больные ноги, ездила на рынок, распродавая потихоньку оставшуюся после Димы одежду. И все равно еды не хватало. Думали даже продать папкину гармошку (Пашкиной лишились еще в прошлую зиму), но Пашка не согласился, рассудив так:
– Папка с войны придет. «Где, – скажет, – моя гармошка? Так мне охота сыграть на ней вальс «На сопках Маньчжурии»!» А мы ему – «Продали, оголодали»? Нет, уж мы ее сохраним. Да и плохая это, говорят, примета для военного человека, когда его инструмент продают.
А голод жал.
Особенно маялся от него Витька – парень рос, а много ли в такую пору – четыреста граммов хлеба? Пашка таскал братьям свой пайковый хлеб из столовки, но Витьке все равно не хватало. Он стал пропадать из дому после школы, приходил поздно. Мать беспокоилась, однако Пашке не говорила, не подозревая ничего за Витькой плохого. Так и шло, покуда Пашка по дороге домой с работы сам не увидел брата, – тот, стоя на углу, торговал открытками, кустарно где-то изготовленными: «Люби меня, как я тебя», «Лети с приветом, вернись с ответом», «Жди!» – и еще всякое такое. Рисунок у всех открыток был примерно одинаков: в двух углах открытки – по кругу. В одном кругу – улыбающийся мужчина в костюме, с галстуком, с блестящей прической и томной улыбкой, в другом – расфуфыренная красавица. Они тянули друг к другу бокалы с вином. Между ними, посередине открытки, помещалось красное, пронзенное стрелой сердце.
Вот такими открытками торговал Витька. Он держал их в руке, раздвинув веерочком, слово карты, постукивал озябшими ногами одна об другую и покрикивал:
– А вот превосходные открыточки! Граждане, гражданки, купите! Неотразимое послание любви! Цены сходные!
Пашка, застав брата за таким делом, сначала не поверил глазам. Однако точно; Витька торгует открытками! Пашка подкрался сбоку, выхватил из веерка одну открытку, стал разглядывать.
– У меня есть сердце —
злобно, на крике, начал он читать надпись на открытке, —
А у сердца песня!
А у песни тайна!
Тайна – это ты!..
Витька остолбенел и молчал, затравленно озираясь.
– Дай сюда! – Пашка вырвал у него пачку. – Идем, обормотина!
Гнал Витьку пинками до самого дома, приговаривая:
– У, хмырь, торгаш, спекулянт несчастный! Отец на фронте воюет, мать еле ходит, а он – глядите, люди, какой нашелся приказчик! Ну, я тебе сейчас шкуру-то сдеру!
– Я хотел, чтобы лучше! На хлебушко хотел заробить!
– Ты бы еще воровать пошел! У воров тоже и хлеб, и деньги бывают. Иди, иди давай, паразит!
Дома сдернул с Витьки штаны и давай лупить по тощей попке своим сыромятным ремешком. Мать кружила рядом, покрикивала:
– Так, так его, Павлик! Ой, это что ж, такой позор! С торгашами подпольными связался. Не дай бог, отец-то узнает!
– Не буду-у! – верещал, извиваясь, Витька. – Мамонька, не буду, Павлик, не буду-у!..
– Вот-вот! «Не буду»! Павлика-то слушайте! Он тебя плохому не научит! Работать привыкай, а не шаромыжничать!
Отодрав Витьку, Пашка сунул ему отобранные открытки и сказал:
– Иди, отдай, у кого брал. И деньги вырученные отдай, нам их не надо. Вы, скажи, как хотите, а я к вам больше не приду. Дома не велят. И еще им скажи; надо, мол, честно трудиться, а не жульничать.
20
Редко когда бывает так, чтобы все было плохо. Или чтобы все было хорошо. Просто – когда одного больше, когда другого. Обычно же – серединка на половинку. И холодно, конечно, и голодно бывало Пашке, и редко когда приходилось работать только свою смену, восемь часов, обычно просили остаться, да если и не просили – куда уйдешь, коли нужен? Вот и приходилось работать с утра до ночи. Домой идешь – ног под собой не чувствуешь, одна лишь думка – скорей бы добраться до кровати…
Но, с другой стороны, разве не приятно получить с фронта такое письмо:
«Дорогие товарищи! Ваш подарок был вручен лучшим комсомольцам-командирам орудий и боевым расчетам. Из ваших орудий уже уничтожено огневых точек 25, пулеметов – 8, дзотов – 12, солдат и офицеров – 140. Это только начало. Наш счет врагам будет расти».
Пашка в такие дни гомонил на весь цех:
– Пушечки вы мои, полковушечки! Родненькие! Дайте расцелую! Бейте немца-фашиста, вредоносную гадину! Он у меня за Диму еще умоется, проклятая шишига!
Грохают где-то на фронте по врагу Пашкины пушечки!
Спасибо говорят бойцы заводским пушкарям.
Когда хорошие вести – и душа поет.
– В Неапольском порту, с пр-рабоиной в бар-рту… Эй, Камбала, шевелись, дуй за коробками! Порядок-то забыл? Я научу, смотри. Бросай цигарку, больно долго раскуриваешь! «Жанет-та» поправляла та-келаж…
Идет работа.
Как-то, спеша утром на смену, Пашка заметил в толпе идущих к проходной людей знакомое лицо.
– Зойка! Зоюшка!
Вот ведь не хотел сказать «Зоюшка», а как-то само собой получилось.
– Ой, Паша! Здравствуй, Паш. Вместе теперь работаем, ага?
– Ты где?
– В механическом, на фрезерном. Я ведь теперь тоже ремесленница!
– Вот оно что…
Видно, что ремесленница: в шинелке, в форменной шапке. Только вот в столовке не приходилось встречать ее: значит, кормят в разное время. Что же Валька-то не сказал, что Зойка работает на заводе? Впрочем, Вальке теперь не до Зойки – в каждую свободную минуту бежит он к своей подружке-ленинградке. Его и Пашка-то сам редко видит в последнее время.
– Пойду я, Паш! А то опоздаю. Надо еще станок настроить, то-другое.
– Так иди… Зой, Зоя, постой маленько! Я тебя это… у фабрики-кухни после ужина буду ждать.
– Ла-адно!
Вечером стоял у фабрики-кухни, постукивал по снегу немецкими ботиночками. Они прочные-то прочные, а холод забирают так, что будь здоров! Долго на месте не простоишь.
Наконец Зойка вышла.
– Что, Паша, погуляем?
Какое тут погуляем! Ногам уже совсем невмоготу. Ой, что делать-то? И Пашка решился:
– Пойдем, Зой, к нам в гости. Нам мамка там самовар поставит, чаю попьем.
– Гармошка-то жива еще у тебя? Хоть поиграть бы маленько.
Сразу после смерти отца Зоя ушла из барака и теперь жила в училищном общежитии. И девчонки ей нравились, и работа – словом, стала Зойка настоящей заводской девчонкой.
Мать, увидав, кого привел сын, обомлела сначала: вот так Павлик! Пришел с девушкой. Сидела, открыв рот, на лавке в кухне и глядела на них.
– Мамка, самовар давай! – закомандовал Пашка. – Ноги замерзли! Да и гостью встречай-уважай: это Зоя, дочка Игната-баяниста, помнишь, я тебе сказывал про него? Она теперь в нашем ремесленном учится и в механическом робит, на фрезерном.
Мать протянула Зойке руку, представилась даже с некоторым подобострастием (как же – всё в этом доме были одни мужики, кроме нее, даже Дима не успел завести девушку, как вдруг – появилась! Ох, Павлик…):
– Офонасья Екимовна. Вы раздевайтесь, Зоя, проходите, я сейчас с самоваром-то.
– Я вам помогу, можно? Давно не ставила самовар. Вдвоем-то мы быстренько!
Накидали углей из печки, расшуровали, и пока он гудел, нагревая воду, Зойка сидела в горнице и играла на гармошке.
– Ох, соскучилась! А эту, Паш, помнишь?
Иду по Каме бережком,
В меня кидают камешком,
Хотят камешком убить,
Мою тальяночку разбить…
Спела любимую Игнатову: «Скакал казак через долину». Пашкиной матери песня так понравилась, что она всхлипнула, забормотала:
– Ой, какая хорошая… Ой да, Павлик, Зоя-то у тебя какая хорошая…
Пашка зло фыркнул, оскалился:
– Ну-ко замолчи! «Зоя у тебя…» Думай, говоришь дак. Не у меня она, а сама у себя. Чтоб я… Больно будет жирно! Ладно, давайте пить чай.
Но Зойка поднялась, сняла с плеча ремень гармошки.
– Нет уж, пора мне. Поздно.
– Что же чай-то? – заплескала руками мать.
– В другой как-нибудь раз. Ругать будут, не пустят еще. У нас ведь строго.
– Чай-то могла бы попить! – упрекнул ее Пашка, выйдя на улицу, чтобы проводить.
– Зачем? Чтобы слышать, как ты с матерью родной разговариваешь? Постыдился бы. Ну и отношение у тебя к женщине, оказывается!
– Какое отношение? Обыкновенное. Ты что, Зой? Ты, наверно, рассердилась, что я ее отругал, когда она сказала «Зоя-то у тебя»? Так ведь и правда – чего болтать-то всякую дурость?
– Сам ты болтун хороший!
– Ах-х… – зашипел Пашка. – Ты сама пустоболтка! Кикимора болотная! Фу-ты ну-ты, ножки гнуты!
– Чарли Чаплин! Шишонок! Стриж-балда!
И побежала.
Ну, Зойка! «Чарли Чаплин! Стриж-балда!» Разве он виноват, что не растет? А волосы заставляют стричь под нулевку в училище. И правильно: работа грязная, голова потеет под шапкой, еще заведется нечисть. Совсем необязательно этим дразниться. Вот будет взрослым – и отпустит себе челочку. Или даже пострижется под полубокс. С одеколоном. Нашла «стриж-балду»! Обидно.
Мать сидела за столом, пила морковный чай без сахара и тихо вздыхала.
– А Зоя-то, Паша, – сказала она, – душевная девушка, такая басконькая… На гармошке играет, песни знает хорошие.
И мать затянула тоненько:
– Скакал казак через долину-у…
21
Вся дружба с Зойкой – врозь. Пашка еще хорохорился, задирал носик-пуговку, увидав Зойку. Но она проходила мимо, словно не замечала.
Вообще основания гордиться кой-какие были: Пашкин портрет повесили на заводскую доску Почета, Он тогда аж изнемог от сознания собственной значительности, долго фланировал перед доской, искоса поглядывая на рассматривающих портреты людей. Но никто не узнал его – героя труда – в слоняющемся туда-сюда низкорослом шкете. На фотографии он выглядел как-то важно, даже благообразно.
Однако Зойка и после этого – ноль внимания, как прежде. Пашка притих, заунывал. Раз подкараулил ее, когда шла со смены, пристроился рядом, сказал, что ему тоже надо куда-то туда, в ее сторону, пытался пошутить, как ни в чем не бывало, – Зойка только скосила в его сторону глаза, вздернула голову и отчеканила:
– Позвольте обойтись сегодня без провожатых! Я ведь для которых-то пустоболтка, больше никто. У нас, мотовилихинских девчат, тоже есть свое достоинство!
И Пашка отстал. Поплелся уныло домой. А там что веселого? Дрова, вода, разная житейская мелочь…
Случалась и не мелочь. К примеру, избили до полусмерти соседа-вора, Женьку Федотова. Прибежала домой к Корзинкиным Женькина мать, завопила:
– Ой, Екимовна, беда! Ведь на ем живого места нет! До чего дошпанил, варнак! Мне теперь его кормить надо, а я где хлеб-то возьму? Галька, дочь, сколь ни заробит, все сама сожрет, нисколь домой не носит… Ой, беда-а!.. Ведь какой у тебя, Екимовна, Павлик хороший да работящий, вот бы мой обормот такой-то был!
– Заю тебе больно сладко было его ворованный хлеб есть! – сказала Пашкина мать и отвернулась.
Пашка оделся и пошел к Женьке. Тот лежал на печке и стонал. Лицо у него было все черное, голова в бинтах.
– Кто это тебя, Женька, отделал?
– Кхх… К-ха-а…
Оказывается, его избили ребята из враждовавшей с ними воровской шайки. Подкараулили – и уж постарались.
– Ох, беда с тобой, – вздохнул по-взрослому Пашка. – Шел бы лучше работать, никто бы тебя не трогал.
– Мне… к-ха… уж самому неохота шпанить, Паш. Да куда я пойду? Меня свои же ребята, когда узнают, что я воровскому делу изменил, в гроб заколотят.
Пашка почесал затылок:
– Интересная, оказывается, у вас, воров, житуха. Гляжу и удивляюсь. Что такое: воруешь – бьют, а то и в тюрьму посадят, не воруешь – тоже, оказывается, бьют! Очень роскошная жизнь! Трали-вали!
– Бывает ведь когда и весело… к-ха-а.
– Куда веселее-то: только и жди, что поймают, или свои же воры забьют до смерти. Нет, Женька, ты давай-ко это… А если нам так сделать? У мамки сестра в Закамске живет, моя тетка, тетя Аниса. Она работает на заводе, в плановом отделе. И одна живет. Мы тебе напишем письмо, и ты с этим письмом езжай туда! Мотовилихинская шпана там вряд ли бывает. Тетка тебя и на завод устроит, и со специальностью поможет, и с жильем. Какое-то время даже у нее можно пожить. Только ты уж у нее ничего не своруй, смотри.
У Женьки блеснули глаза, вздрогнули лохматые, покрытые сукровицей брови:
– Что я, в конце концов, совсем скотина, что ли…
22
Грянула весна, вторая военная весна, стало светлее, теплее, вообще как-то лучше, – только у Пашки на душе невесело. На работе-то все ладно, и все забывается, а вот выйдешь с завода – и хоть волком вой. Хочется видеть Зойку, да и все тут. А она при встречах – никакого внимания. Думал Пашка, думал, как быть, и однажды сказал другу:
– Слушай, Валька! Познакомь меня с девчонкой, у которой станок рядом с Зойкиным стоит. Полненькая такая, рыжеватая.
– А-а, с Фаюшкой! Ну так ладно.
Как раз собирали заводской слет юных ударников – на нем Валька и познакомил друга с конопатенькой Фаюшкой. Правда, особенных разговоров тогда не получилось – Пашка готовился к выступлению. Перед этим мероприятием его спросил парторг цеха:
– Пал Иваныч, речь скажешь на слете? Звонили из парткома, просили узнать.
– Всегда пожалуйста!
Пашка и не сомневался ни секунды, что выступит с трибуны прекрасным образом: подумаешь, большое дело! Это ведь не пушку собирать. Перед слетом погладил одежду, начистил егерские ботинки-лыжи и отправился.
Но уже когда сидел в зале и слушал выступающих перед ним, почувствовал страх. Потом – панику. А идя по вызову на трибуну, и вовсе плохо ступал вдруг онемевшими ногами.
Трибуна была высока для него – только стриженая макушка, глаза да нос-пуговка высовывались из-за нее. Пашка встал, помотал головой, шумно выдохнул:
– Ф-фу!
Изо всей силы стукнул ладонью по наклонной досочке трибуны.
– Так сказать!
Покашлял, держась за кадык. Зачем-то поклонился.
– Выражаясь буквально! Эк-гм! Допустим, я на сборке. Собираем полковушечку. За это нам благодарность. Эк-гм! Это если хорошо. А если нет – то не очень. У меня папка на фронте. А Диму убили. Но все равно. Эк-гм! Мы с одной стороны, и с другой, конечно… Короче – «броня крепка и танки наши быстры!» Вот так! Спасибо за внимание. Так сказать.
– Ну и речу-угу ты закатил! – сказал Валька, когда он вернулся на место. – Прямо соловей-пташечка. Век бы тебя слушал!
– А что, а что? – завертелся Пашка.
– Не слушай его, Павлик, – стала успокаивать его конопатенькая Фаюшка. – Хорошо, хорошо все сказал.
Пашка оглянулся на Зою. Она хоть смотрела в его сторону, но столько презрения было у нее на лице! Пашка надулся, нахохлился. Даже грамота, врученная ему на слете, не исправила настроения.
«Погоди ты! – думал он. – Цыпа-дрипа!»
При первом выдавшемся случае он пришел к Фаюшке в цех, к ее станку. Отпросился на пятнадцать минут у мастера.
– Фай, Фаюш!
Она наклонила голову:
– Чего?
– Ой, Фаюш, я какую книжку недавно прочитал!
– Про что?
– Интересно. Там одна бедная девушка это… полюбила богатого человека. Он, кажется, князь был. Или граф.
– Ойё! – Фаюшка выключила станок, потащила его в сторонку. – Ну-ну?
– И вот она его любит. А у нее, понимаешь, есть ребенок. Конечно, незаконный. Дочка. И еще, кажется, мальчик. И вот граф посылает сыщика, чтобы узнал, что у нее было в прошлом…
– Дашь почитать? – выпучив глаза и тряся веснушками, визгнула Фаюшка. – Дашь, дашь, дашь почитать?!!
И вдруг – отлетела в сторону, развалила горку деталей и шлепнулась на пол. Это пролетевшая мимо Зойка толкнула ее изо всей силы.
– У, выдра! – заругалась Фаюшка, поднимаясь. – Бегает как дикая. Руку вот ушибла.
А остановившаяся Зойка похожа была на разъяренную рысь. Тяжело дышала, фыркала, кричала:
– Точит тут лясы со всякими посторонними! Вот я мастеру-то нажалуюсь, будешь знать! Люди работают, а они – разлюбезничались, глядите-ко!
Пашка же по дороге в свой цех довольно похмыкивал:
– Тэкс-тэкс-тэкс… Тэкс-тэкс-тэ-экс-с… С пр-рабоиной в бар-рту-у…








