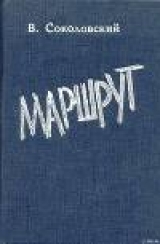
Текст книги "Пал Иваныч из Пушечного"
Автор книги: Владимир Соколовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)

Художник А. Куманьков
Владимир Соколовский
ПАЛ ИВАНЫЧ ИЗ ПУШЕЧНОГО
Тысячи детей и подростков работали в промышленности и сельском хозяйстве в тяжелую для страны военную пору. Прототипы этой повести – мальчишки и девчонки, трудившиеся в годы войны на Мотовилихинском пушечном заводе.

1

Иногда ночами до поселка Запруд доносился далекий грохот: на заводском полигоне испытывали пушки. «Ч-пумм! Ч-пумм!..» От этих звуков, спящий Пашка вздрагивал, лягался. Ему снилась война. Будто он с винтовкой бежит на немецкие окопы. Рядом где-то бегут папка Иван Корзинкин, начальник цеха Сергей Алексеевич, старший мастер пролета Спешилов, одноногий мастер из ремесленного Рагозин, знакомые пацаны: Ваня Голубаев, Сашка Васильков, Серега Фирулев, Валька Акулов… Немцы дерут, улепетывают, но с их позиций прямо в лицо бьет и бьет, гвоздит и гвоздит пушка. Разрывы ближе, ближе, ближе… Вот сверкнет сейчас еще один, последний – и его, Пашки, уже не станет…
Пашка вскидывается, открывает глаза, хрипит очумело:
– Что, что?! Война, а? Мамка, война?
– Бонна, сынок. – Мамка подходит, трогает стриженую голову. – Война, Павлик. Только далеко. Ты спи давай, спи. Скоро на работу.
Пашка снова валится и спит, уже не просыпаясь, до шести, до времени, когда надо подниматься, собираться и идти на завод.
Война хоть гремит далеко, а сколько уже мотовилихинского народа забрала она! И отец у Пашки воюет, и еще многие мужики и парни. Идешь порою по улице, и слышно: где-то воет, надрывается женщина. Снова принесли в Запруд похоронку. А то выбежит чья-нибудь мать или жена из избы и кричит, бьется, бьется об землю…

2
Ровно в шесть Пашка просыпается, тут же встает и идет умываться. Разлеживаться некогда! Он ведь теперь мужик, в доме хозяин. Да Пашка никогда и не любил долго спать. Магазины в рабочих слободках открываются в пять утра, так он до войны, еще учась в школе, вставал всегда сам в полшестого и бежал за хлебом, чтобы к тому времени, когда папка сядет завтракать перед дорогой на работу, у него был свежий хлебушко. Потом завтракать и уходить на работу стали двое: папка и старший брат, кока[1]1
Кока – уральское название крестного отца или крестной матери. Обычно в их роли выступали старшие братья, сестры.
[Закрыть] Дима. Так оба ели да похваливали: «Павлик-де у нас заботник! Что бы мы без него!»
Вот и остался заботником: папка на войне, Дима в командирском училище в Красных казармах, дома только он да мамка, Офонасья Екимовна, да двое братьев недоростков: десятилетний Витька и четырехлетний Генька.
Пустое брюхо поет с утра, съесть бы хоть холодную вареную картоху. Но картоха сгодится дома, его, Пашку, накормят как ремесленника, только до этой фабрики-кухни еще добраться надо! Ладно, пока картошка есть, к Новому году кончится и она, тогда снова мамке ехать по деревням, менять на продукты Димины обутки, одежку. Папкино-то все выменяли еще прошлой зимой.
Пашка натягивает комбинезон, замасленный, длинный, не по росту, бушлат, нахлобучивает шапку с ремесленной эмблемой – двумя молоточками – и выскакивает на улицу. Еще темно, холодный октябрьский ветер, снег крупой. Голос радио доносится от проходных: «Вчера в течение дня наши войска вели ожесточенные бои с противником в Сталинграде…» Погодите, вот Дима окончит училище, станет командиром, он вам покажет!
Вот и сад Свердлова. Как здесь было хорошо до войны! Вечерами всегда оркестр, танцы на площадке, парни гуляют по аллеям с девушками, угощают их мороженым и семечками. Прибегут, бывало, школьники в парк, посмотрят на танцующих, на городошников, шахматистов, а потом Пашка найдет разговаривающего с друзьями или гуляющего с девушкой старшего брата: «Дима, дай пять копеек на мороженку…» Никогда не откажет. Если у самого нет, сходит, займет у кого-нибудь, а даст:
«Питайся, Пашка-букашка!» Будто он виноват, что маленький.
К остановке трамвая мальчик идет мимо дома, без которого он еще два года назад и жить не мог – Дома культуры. Хоть елка, хоть любой другой праздник, хоть обыкновенное кино – всё бежали туда. Вон как там было всегда весело! Куда, в какую комнату ни глянь – везде полно ребят. Где танцуют, где репетируют постановку, где учатся фокусам, где скрипят лобзиком…
А теперь этот клуб сумрачный, холодный, и мало туда ходит ребят – и на них ведь легла военная забота. Вот и плакат вывесили в окне:
Ты каждый раз, ложась в постель,
Гляди во тьму окна
И помни, что метет метель
И что идет война.
3
В детском Доме культуры Пашка учился играть на баяне. У отца была гармошка, он неплохо играл на ней и сына тоже приохотил к гармошке-двухрядке, тальянке. Классу к четвертому он купил Пашке такую же, и они в выходные пели песни, такие перед домом закатывали концерты – собиралась вся улица. Девчонки дразнили Пашку частушками:
Гармонист, гармонист,
Лаковы сапожки,
Не тебя ли, гармонист,
Обсидели кошки?..
Пашка пыхтел, обижался на них, грозил напинать, если поймает, но гармошку не бросал. А в пятом классе стал учиться играть на баяне. Ходил всё и думал, как бы ему постичь такой сложный инструмент.
С ним в баянной группе занимался еще один мальчишка – Валька Акулов с Рабочего поселка. У Вальки не было своих ни баяна, ни гармошки, но он уроки все-таки как-то учил, вообще был очень старательный. Отец у него работал грузчиком в транспортном цехе, а мать – уборщицей в заводоуправлении. Язык у Вальки был злой, как жало у осы. Вот он и стал как-то после занятий подначивать Пашку:
– Вы, запрудцы, вшивогорцы. У вас, когда дом горит, так мужики кругом его стоят и пожарных не пускают: не смейте-де тушить, дайте дыму наглотаться, чтобы на табак меньше ушло!
Низенький Пашка давай его тогда щелкать крепкими кулаками! Набежали еще ребята, пустились стенка на стенку:
– Бей запрудских!
– Лупи их, жулябию!
Куча мала. И Пашка, вцепившись клещом в Вальку, не заметил, как порвал его совсем новую рубаху. Валька только услыхал треск распластанной с плеча до пояса рубахи – сразу вывернулся из Пашкиных рук, с громким ревом побежал к выходу из сада Свердлова, где происходила потасовка.
– Ого-го-го! Улю-лю-у-у! Бей, лови-и! – завизжал ему вслед Пашка.
– Замолчи, змей! – кто-то из рабочепоселковых ребят постарше крепко двинул его по шее. – Не знаешь ты, что с него теперь отец за эту рубаху три шкуры спустит!
Пашка еще удивился: что уж – за рубаху, в драке порванную, да три шкуры? Его отец даже и толковать бы об этом не стал: порвал – ходи в порванной или зашей сам, и дело с концом. В их семье ребят драли только за сказанную неправду, подлость и воровство. А тут – хы, рубаха! И забыл об этом, и вспомнил только тогда, когда увидал, что на следующее занятие Валька не пришел.
«Видать, правда надрали, да и сильно», – уже с беспокойством, уныло думал Пашка.
– Ты чего куксишься, вертишься, глазами туда-сюда ныряешь? – спросил его отец за ужином.
– Я, папка, одному парню из нашего кружка рубаху третьего дня порвал. А отец его за это избил, он даже на занятия сегодня не мог пойти.
– Так ведь ты варнак! – гаркнул Корзинкин-старший. – Ну-ко марш из-за стола, и чтобы сегодня на глаза мне не попадался больше!
– …Я нечаянно, не хотел… – занюнил Пашка.
– Не за то тебя корю, что рубаху порвал! Вы эти свои дела сами как хотите, так и решайте. Но вот ведь знаешь ты, что углану из-за тебя худо, а сидишь тут героем, как будто так и надо!
– А что я делать-то должен?
– Сгинь, пропади с моих глаз, сатана! Еще я должен учить, что он делать должен!
И, еле дождавшись на другой день конца уроков, Пашка побежал в Рабочий поселок, искать Вальку. Спросил того, спросил другого, нашел нужный барак, а в нем и Валькину квартиру, вернее, комнату с входом из общего коридора. На стук открыл сам Валька – синяк под глазом, ссадина на щеке. Он неприятно, зло ощерился при виде своего обидчика, хотел захлопнуть дверь, но Пашка втиснул в щель плечо и голову, спросил:
– Хошь, сменяемся рубахами? Я тебе свою, а ты мне свою, порватую.
– Не надо мне твою рубаху. А что на улицу стыдно выйти, да сесть невозможно, и сплю-то на брюхе – вот это да!
– Учти, Валька, ты первым тогда дразниться стал. А рубаху тебе я совсем не хотел рвать. Ну ничего, заживет. Я тебе полный карман жареных семечек принес. На, держи.
Валька был дома один. Пашка осмотрелся и спросил:
– Хоть гармошка-то есть у тебя?
– Какая гармошка! Отец с мамкой у меня страсть скупые, у них на учебники-то перед школой не допросишься.
– Баян без гармошки одолеть трудно.
– Я же играю, чудной ты!
– Вот я и думаю: как уроки-то учишь?
– К соседу бегаю. У нас тут мужик в бараке живет – баянист первой руки! У него баян хороший, звонкий. Хочешь, сходим к нему?
– Он разве не на работе?
– Вроде не должен. Он в охране работает, инвалид. Пошли!
Спустились на первый этаж. Валька постучал в дверь угловой комнаты. Ее открыл низенький, Пашкиного роста, горбатый мужичок с треугольным продолговатым лицом, редкими волосиками на голове, синими большими глазами.
– Это Пашка, дядя Игнат, запрудский, – сказал Валька. – Тоже на баяне учится. Привел тебя послушать.
– Что меня слушать! – засмеялся Игнат. – Есть много в наших краях музыкантов и поизряднее меня. – Подал Пашке длинную сильную ладонь и отрекомендовался чинно: – Голдобин.
4
Было, было, было… Теперь Пашка частенько вспоминает, как гостился до войны у доброго баяниста Игната. Играет он как-то мелконько, затейливо, красиво, словно кружева вяжет. А то поставит баян на коленки, поигрывает да и покрикивает тоненько:
В Мотовилихе-заводе
Рано печки топятся;
Тамо миленький живет,
Мне туда же хочется!
А дочь его, Зойка, ровесница Пашки с Валькой, подвяжется платком, подбоченится да и пойдет стучать каблуками ботинок:
Ты пляши, ты пляши,
Ты пляши, не дуйся.
Если нету сапогов,
Ты возьми разуйся!
Знай поигрывает отец ее, подначивает, подмигивает:
Как у Пашки да у Вальки
Под носом примерзло,
Подскоблить бы топором —
Целоваться можно!..
Беда как хорошее было время! Бывая на фабрике-кухне, Пашка нет-нет да и глянет в сторону бараков, где живут Валька Акулов, Игнат с Зойкой. Матери у Зойки нет, она их бросила еще давно, куда-то уехала. А они не унывают, всегда веселые, знай попевают песенки. Зайти бы, забежать хоть на минутку, да только где его взять, время-то? То на работу, то домой надо поспешать, там тоже дел немало, а то и ноги еле волочатся – так устанешь.
В столовой утрами рассиживаться некогда: быстрей, быстрей, надо на завод! Да и рассиживаться-то, если честно, не за чем особенно: два кусочка хлеба, тарелка каши да стакан чаю. И то ладно, ремесленников хоть три раза в день подкармливают горячим, другие ребята им завидуют. Вон дружок Валька Акулов пошел на завод мимо «ремеслухи», прямо учеником токаря в механический цех, так и каялся после: ну, карточка рабочая, положено по ней семьсот граммов хлеба на сутки; хлеб-то по рабочей норме всегда получишь, а насчет чего другого – еще неизвестно: то ли есть, то ли нет, да и очередь надо стоять. А ремесленник уж точно всегда знает, что его три раза положено накормить. Им и форму дают: шинель, шапку, фуражку, ботинки, гимнастерку с брюками.
И все равно еды Пашке не хватает, все время хочется есть. Разве это еда при такой тяжелой работе!
5
За десять минут до начала смены Пашка в цехе. Его здесь зовут уважительно: Пал Иваныч.
– Пал Иванычу-у! С кисточкой!
– С пальцем семь, с огурцом пятнадцать!
– Как, Пал Иваныч, спалось-отдыхалось?
– Какой, к шуту, спалось! – задорно кричит Пашка сквозь цеховой шум. – Всю ночь в огороде сидел, комаров на суп ловил!
– Хо-о-х-хо!
– Тараканы-то, Паш, жирнее.
– Ну их! Надоели! У меня ребята уросливые, разносолов просят.
– Ху-ху-у-у! Вот так Пал Иваныч, за словом в карман не полезет…
Пашка бежит уже к своему рабочему месту.
– Ох вы мои пушечки, пушечки-полковушечки! Ждите, наведу я на вас марафет-туалет!
А работа у Пашки такая: после пробных стрельб пушки на тракторе по 8 – 10 штук подвозят в цех, на ствольный участок. Если раньше, на конвейере, пушку собирали, потом отстреливали на полигоне, то Пашке предстоит подготовить ее к окончательной сдаче. От него она пойдет уже только на фронт.
Первым делом разбирается затвор: открывается, отсоединяется от ствола, вывертывается поршень из затворной рамы, разбирается сама рама. Детали кернятся, метятся, чтобы не перепутать части от разных затворов, – их надо нести на участок воронения, в «воронилку», через весь второй механический цех. Сдал детали в «воронилку» – бегом обратно: пока они воронятся, надо почистить, «пробанить» стволы – в них после стрельб нагар, копоть; осмотреть, нет ли дефектов, – затем снова бежать в «воронилку», принести детали, собрать раму, затвор, – только после этого пушку с блестящим вороненым затвором, закаленным, готовым к долгой боевой работе, можно сдавать заказчику, военному человеку. Прощай, пушечка-полковушечка! Громи крепче фашиста!
Участок Пал Иваныча в цехе считается ответственным. Одному тут управиться трудно, как ни старайся. И у Пашки есть помощник, как бы напарник. Фамилия у него Фомин, но Пашка зовет его – Ваня Камбала. Потому что он плоский, а в тазу широкий. Сущее этот Камбала мученье! Лет ему под тридцать, он белесый, сутулый, медлительный, ходит, будто еле ноги таскает, запинается об землю, и штаны у него все время сползают. Так и приходится постоянно подгонять помощничка, покрикивать:
– Камбала, разворачивай пушечку-полковушечку! Да не туда, горе луковое!
– Камбала, в «воронилку» бегал? Ведь видишь, что мне некогда, со стволами маюсь!
– Камбала, детали накернил?
– Камбала, сюда! Помогай салазку ставить!
– Камбала, туда!
– Камбала!..
Однажды к Пашке подошел строгий Александр Ильич Спешилов, старший мастер пролета, поглядел на него сквозь спущенные на нос очки:
– Почему это у вас, товарищ Паша Корзинкин, такое отношение к взрослому человеку? «Камбала» да «Камбала» – кричишь на весь цех. Ведь ему, поди-ка, обидно.
– Верно, Александр Ильич! – возник с неожиданной прытью откуда-то Ваня… – Это… обзывает, честит угланишко, понимаешь!
– А ты шевелись маленько! – разозлился на него Пашка. – Ходишь целую смену, как сонная рыба, только штаны на фтоке поддергиваешь! Не надо мне его, забирайте куда-нибудь, один робить буду.
– Но-но! – начальственно сказал Спешилов. – Один он будет. Одному не положено. А другого – извини, друг! – взять негде. Уж обходись как-нибудь, воспитывай маленько.
И выдал на прощанье Ване:
– А тебя, друг, если так по-сонному станешь ворочаться, не только мальчишка-ремесленник, а и свои же дети нехорошо станут звать. Шевелиться, шевелиться надо, вот оно что!
Ушел мастер – и Ваня притих, даже в «воронилку» по Пашкиной команде побежал почти что бегом, только ноги волочил по-прежнему. Леший с тобой! Пашка был доволен уж и тем, что Александр Ильич не отругал его.
Пашка поступил в ремесленное после шестого класса, как только началась война. Так тогда получилось: проводил папку на фронт с первой заводской командой добровольцев, а назавтра – первый день занятий в училище. А в августе, после месяца учебы, пришел уже в цех, на сборку 76-миллиметровой полковой пушки. Соорудили ему подставочку к верстаку – такой деревянный трап – робь, Паша! Отбегал, отыграл свое. Как поет дядя Игнат:
Прошло, прошло времечко,
Прошло, прокатилося,
Хоть одна б минуточка
Назад воротилася…
Ох, и уставал первое время! Домой еле тащился. Бушлат замасленный, длинный, ниже колен, рукава висят… И однажды уснул в цехе. Сел на пушечный лафет, привалился к замку, запахнулся бушлатиком… Не помнится, что уж и снилось. Очнулся – кто-то трясет за плечо. Поднял голову – сверху смотрят сквозь круглые железные очки строгие глаза Александра Ильича Спешилова.
– Как тебя зовут, мальчик? – спросил старший мастер.
– Пашка.
– Ты, Паша, больше на работе не спи. Это не полагается. Цех для того нам, чтобы здесь трудиться, делать дело. Ведь ты же теперь рабочий человек, должен понимать!
Пашка аж заревел тогда со стыда. Сам старший мастер выговорил, словно последнему лодырю! И с тех пор старался завоевать доверие Спешилова. Тот в самом деле стал его скоро отличать: что-что, а работник Пашка был хороший – кропотливый, добросовестный. Пока не сделает, как надо, никогда не отойдет от верстака или от пушки.
6
В пересменки цех не снижает ритма: пришел – сразу включайся в работу, некогда рассусоливать. Только и успеваешь поздороваться кое с кем да перекинуться шуткой-другой.
По сравнению с иными цехами, в сборочном мужиков работает довольно много: золотой фонд потомственных пушкарей-мастеровых директор завода Быховский сохранил, несмотря ни на что, и бережет его как зеницу ока. И все равно – уходят на фронт, хоть Быховский и грозит трибуналом таким рабочим как дезертирам трудового фронта. Но все-таки на прицельном участке, сборке замков, подгонке требующих точности деталей в цехе сидят опытные рабочие. А вот в цехах, где работают станочники – сверловщики, фрезеровщики, токаря, – там почти одни только женщины да ребята, вчерашние школьники. Мальчишки, девчонки, Пашкины ровесники. Поставят им трап, чтобы удобнее было управляться со станком, они и работают. А норму надо дать взрослую, тут никаких скидок! Валька Акулов осунулся, совсем стал костлявый, злой, чуть что скажешь не по нему – вскидывается, прет драться. И все равно скучно, когда долго его не видно! И без Игната скучно, и без Зойки… Только никуда не выберешься – некогда.
Обедали ремесленники в заводской столовой, по талонам, чтобы не терять времени на дорогу на фабрику-кухню и обратно. Хоть не больно сытно, а все-таки похлебаешь супу, поешь каши или картошки, порой достанется крохотная котлетка или рыбки кусок, запьешь это дело горячим чаем – жить становится гораздо веселее. После обеда, если выйдешь компанией, можно и потолкаться, и погонять «глызку». И ребята стараются вовсю, словно хотят отдать маленькому промежутку свободного времени то детское, что еще осталось у них. Потому что дальше – снова работа, там не пошутишь, не побегаешь, не потолкаешься.

7
Когда Пашка сегодня возвращался с обеда в цех, его подозвал к себе начальник цеха, Сергей Алексеевич Баскаков:
– Пал Иваныч, иди-ко сюда! Вот что: ты покуда работай, но настраивайся идти домой. Мать приходила на проходную, велела передать: был дома твой старший брат, Дмитрий. Он сегодня уходит на фронт. Я уже послал за Васильковым, он тебя подменит.
Вот это дела – Дима уходит на фронт! Так ведь он мало проучился, еще и двух месяцев не исполнилось! Ну так и что? Он и так грамотный, до войны техникум закончил. Ему, наверно, можно дать портупею и по кубику в петлицы.
Пашка дождался сменщика, Сашу Василькова, тоже ремесленника, и побежал домой.
– Мамка, где Дима?
– Да ведь он на минутку всего заскочил, Павлик, его совсем ненадолочко отпустили! Сказал: сегодня к вечеру будут отправлять. Я сама-то не могу так далеко бежать, ты иди один, шанежек вот отнеси ему, я напекла…
Мамка болела: зимой ездила менять вещи на продукты и застудились; ноги ходили плохо, пухли, она лечила их мазями, растирала, парила в бане. Да только плохо это помогало.
Пашка взял узелок с шаньгами, и – через Рабочий поселок, через картофельные поля, через Егошиху – к Красным казармам.
Дима ждал его, встретил возле пропускного пункта, обнял:
– Здорово, Пашка! Здорово, рабочий класс!
– Привет! А почему ты не в портупее? Ты ведь на командира учился?
– Учился, братка, да недоучился. Все училище уходит на фронт, под Сталинград.
– О-о, ну, вы там дадите гитлерюге по зубам!
– Дадим, дадим… Ну, я пойду, мне надо еще там кой-чего сделать, потом нас будут строить, а после – на станцию. Ты меня жди, я в строю крайним встану, кликну тебя.
Пашка остался возле пропускного пункта ждать. Бегали туда-сюда командиры и красноармейцы, из-за забора, со строевого плаца, доносились топот марширующих людей, команды. Пашка ежился: становилось холодновато.
Вдруг из глубины военного городка послышалось пение:
Все, что с детства любим и храним,
Никогда врагу не отдадим,
Лучше сложим голову свою,
Защища-ая Родину в бою!
Проща-ай, края родные,
Звезда победы, нам свети… —
мощно взметывался припев. Потом песня оборвалась, высокий срывающийся голос крикнул: «Батальо-он!» «Р-рота-а!» – гаркнули несколько голосов вослед. «Взво-од!» – маленьким хором спели командиры рангом пониже. И стало тихо – если это тишина, когда люди молчат, но в невероятном напряжении рубят с грохотом брусчатку сотни кованых командирских сапог и солдатских ботинок. Все, кому попадался на пути курсантский строй, шагающий на фронт, – будь то хоть красноармеец, хоть полковник, – становились смирно и брали под козырек.
Пашка тоже вытянулся, руки по швам, сердце у него билось часто-часто. И вслушивался, вглядывался в отбивающих мимо него шаг курсантов, боясь пропустить Диму. Увидав его шагающим с краю одной из шеренг, бросился: «Я здесь!» Дима поймал тянущуюся к нему ладонь брата, задержал ее в своей руке на мгновение, и Пашка повеселел, побежал рядом с шеренгой.
Когда вышли за ворота училища, была команда перейти со строевого шага на обычный. Слышны стали разговоры, смешки, кое-кто запалил папироску… Провожающие шли рядом с колонной: мужчины, женщины, ребятишки. Они окликали шагающих в строю родственников, переговаривались с ними.
Путь, по Пашкиным понятиям, предстоял неблизкий: от Красных казарм аж до Перми-Второй!
– Дима, Дим! – сказал он. – Что это вас на машинах не везут? Ведь далеко идти! Устанете, как будете службу править?
Брат и идущие рядом с ним курсанты засмеялись.
– Эх ты, Пашка! Разве же это для нас путь? Это для нас чепуха, вот что! Мы же пехота, разве ты забыл? «Пехота, сто верст прошел, и еще охота», – вот как про нас говорят. На войне, братка, любой марш может быть, а нас ведь на командиров готовили.
– Готовили, готовили… Кубик-то в петлицу уж могли бы дать!
– В кубике ли дело! Буду хорошо воевать – и там дадут, на фронте это не проблема. Приду домой – ты меня и не узнаешь, в командирской-то форме. Снова заживем… У меня ведь, Пашка, дел в жизни еще много! И жениться, и учиться, и вас, младших, поднимать…
– З-запева-ай! – послышалось спереди.
Пропеллер, громче песню пой,
Неси распластанные крылья!
За вечный мир, на смертный бой
Летит стальная эскадрилья!..
С улицы Карла Маркса колонна повернула на Большевистскую, по ней до вокзала была прямая дорога. Останавливались машины, лошади, пропуская курсантов, ребятишки бежали следом и рядом, подстраиваясь под шаг колонны, женщины, глядя вслед, утирали слезы.
– Куда отправляют, касатик? Не на фронт ли? – спросила маленькая сухая старушка идущего впереди командира.
– На фронт, бабушка! – просто и ласково ответил он.
– Да хранит вас бог, да минует злая пуля! – бабка стала крестить проходящих мимо курсантов.
– Спасибо! – говорили ей, а кто-то подбежал и поцеловал в щеку.
Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится,
Угрюмый танк не проползет,
Там пролетит стальная птица!..
Низенький Пашка еле поспевал за шеренгой, в которой шагал Дима. Идет-идет рядом быстрым шагом, а потом все равно начинает отставать, и приходится бежать. От такого движения устал, к концу дороги еле тащил ноги. Дима видел, что брат выбивается из сил, да только что он мог поделать?
– Эй, Пашка! – иногда обращался к нему. – Ты бы отдохнул да и топал домой. Легкое ли дело – меня провожать! Увиделись ведь, хватит! А тебе еще от Перми-Второй до Запруда добираться – совсем сомлеешь, парень!
– Нет, я провожу… – тяжело дыша, отвечал брат. – Ты что, как не провожу… Мне после и покоя не будет. Мне не только мамка, и Витька-то с Генькой не дадут покоя, застыдят: ты что это, коку Диму на фронт не проводил!
– Ладно, ладно, иди! – успокаивал его Дима. – Так хоть шаньгу съешь на ходу, сил прибавится!
– Нет, что ты! Ты давай сам ешь!
– В строю не положено жеваться.
Пашка глядел на строй: там и курили, и ели… Ну что ж, если Дима говорит – не положено, значит, и правда так. Он порядок знал, в свои двадцать лет не пил, не курил. Однажды, перед войной, он попросил у отца разрешения устроить день рождения. Пришли хорошо одетые ребята, девушки, пили чай, щелкали орешки, а потом танцевали под патефон. «Какие все хорошие, самостоятельные», – так сказала мать, когда гости разошлись. Разве могло быть иначе у их Димы!
На станции колонна сразу распалась, и курсанты смешались с провожающими. Заиграла гармошка, где-то запели песню о разлуке, кто разговаривал с товарищами, кто прощался с детьми и женой… Курсанты были разные по возрасту: кому под тридцать, кто Диминых примерно лет. А были и совсем молоденькие ребята, только что из-за школьной парты, или с производства, или с колхозного поля: подошел возраст, образование позволяет – вот и направили учиться. Да и недоучили: война требовала людей под Сталинград, где шли жестокие бои. Кто останется живой – или на фронте станет командиром, или вернется обратно в училище. А тому, кто падет на поле брани, – вечная память и вечная слава!
Пашка и Дима сидели рядом на станционных ступеньках.
– Ешь шаньги, Дима!
– Ты ешь сам. Я не хочу. Не лезет… горло высохло. Или домой обратно отнеси.
– А если мамка меня из дому погонит? Это ведь подарок, как ты не понимаешь.
Дима махнул рукой:
– Ладно, открывай свой кошель! Съедим, что ли, по шанежке… Мамке скажи: Дима, мол, ел да нахваливал! Чтобы ей приятно было. Да сам-то бери! А взять, мол, не взял: некуда, мол, ему, и так всего много. Ладно, Пашка? Только не серди меня больше! От отца письмо было? Принес?
– На…
Прочитал, улыбнулся, хлопнул Пашку по спине:
– Может, встретимся мы с ним на фронте-то, а, Паш? Я тогда вместе с ним воевать попрошусь. А что – ребята вон, что с фронта в училище попали, говорят: и братья вместе служат, и отцы с детьми – сколько угодно. Вместе бы тогда и письма вам писали. А, Паш? Здорово бы было!
Наверху, по полотну, пышкая паром, медленно двигался паровоз с вагонами.
– Кажется, наш, – сказал Дима.
И тотчас послышалась команда:
– Станови-ись!
Масса людей на площади сразу замешалась, закрутилась: курсанты бросились искать свои роты, взводы, отделения; посторонние вытискивались наружу. И вот плотный четкий строй обозначился перед станцией. Быстро прошла перекличка, командиры отдали рапорты, поток начал втягиваться по лестнице наверх, к эшелону.
Пашка до последнего момента переклички видел Диму, стоя поодаль, в толпе провожающих, хотел подбежать к нему, попрощаться, когда начнут двигаться, но лишь раздалась команда: «Нале-эво!» – как провожающие бросились вперед, нажали на передних, он упал, сразу же поднялся, однако Диму уже не нашел. Перед глазами просто шли и шли в сумерках плотными рядами похожие друг на друга своими шинелями, шапками, ремнями и обувью курсанты. Пашка сразу забыл, что он самостоятельный, рабочий человек, старший теперь в семье мужик, закричал пронзительно:
– Дима, подожди-и!.. – и кинулся обгонять колонну.
У входа на перрон его, однако, задержали милиционер и красноармеец:
– Ку-уда? Сюда нельзя! Не положено! – и оттолкнули вниз.
Пашка остановился, подумал: не прорваться ли между ними с разбегу, или не проникнуть ли, затеревшись в курсантский строй, но затем сообразил вдруг, что брата в той толчее, что царила теперь возле вагонов, вряд ли найдет, а неприятности заработать может великие. Он спустился на ставшую пустой площадь, сел на ступеньку, где только что они сидели с Димой, и заревел. Эх, кока Дима! Не было человека тебя лучше и красивей.








