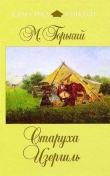Текст книги "Повести и рассказы"
Автор книги: Владимир Короленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
Мгновение
I
– Будет буря, товарищ.
– Да, капрал[127]127
Капрал – младший унтер-офицер в некоторых иностранных армиях.
[Закрыть], будет сильная буря. Я хорошо знаю этот восточный ветер. Ночь на море будет очень беспокойная.
– Святой Иосиф пусть хранит наших моряков. Рыбаки успели все убраться…
– Однако посмотрите: вон там, кажется, я видел парус.
– Нет, это мелькнуло крыло птицы. От ветра можешь скрыться за зубцами стены… Прощай. Смена через два часа…
Капрал ушел, часовой остался на стене небольшого форта[128]128
Форт – небольшая крепость или отдельное самостоятельное укрепление.
[Закрыть], со всех сторон окруженного колыхающимися валами.
Действительно, близилась буря. Солнце садилось, ветер все крепчал, закат разгорался пурпуром, и, по мере того как пламя разливалось по небу, синева моря становилась все глубже и холоднее. Кое-где темную поверхность его уже прорезали белые гребни валов, и тогда казалось, что это таинственная глубь океана пытается выглянуть наружу, зловещая и бледная от долго сдержанного гнева.
На небе тоже водворялась торопливая тревога. Облака, вытянувшись длинными полосами, летели от востока к западу и там загорались одно за другим, как будто ураган кидал их в жерло огромной раскаленной печи.
Дыхание близкой грозы уже веяло над океаном.
Над темной зыбью, точно крыло испуганной птицы, мелькал парус. Запоздалый рыбак, убегая перед бурей, видимо, не надеялся уже достигнуть отдаленного берега и направил свою лодку к форту.
Дальний берег давно утонул в тумане, брызгах и сумерках приближавшегося вечера. Море ревело глубоко и протяжно, и вал за валом катился вдаль к озаренному еще горизонту. Парус мелькал, то исчезая, то появляясь. Лодка лавировала, трудно побеждая волны и медленно приближаясь к островку. Часовому, который глядел на нее со стены форта, казалось, что сумерки в море с грозной сознательностью торопятся покрыть это единственное суденышко мглою, гибелью, плеском своих пустынных валов.
В стенке форта вспыхнул огонек, другой, третий. Лодки уже не было видно, но рыбак мог видеть огни – несколько трепетных искр над беспредельным взволнованным океаном.
II
– Стой! Кто идет?
Часовой со стены окликает лодку и берет ее на прицел.
Но море страшнее этой угрозы. Рыбаку нельзя оставить руль, потому что волны мгновенно бросят лодку на камни… К тому же старые испанские ружья не очень метки. Лодка осторожно, словно плавающая птица, выжидает прибоя, поворачивается на самом гребне волны и вдруг опускает парус… Прибоем ее кинуло вперед, и киль скользнул по щебню в маленькой бухте.
– Кто идет? – опять громко кричит часовой, с участием следивший за опасными эволюциями лодки.
– Брат! – отвечает рыбак. – Отворите ворота, ради святого Иосифа. Видишь, какая буря!
– Погоди, сейчас придет капрал.
На стене задвигались тени, потом открылась тяжелая дверь, мелькнул фонарь, послышались разговоры. Испанцы приняли рыбака. За стеной, в солдатской казарме, он найдет приют и тепло на всю ночь. Хорошо будет вспомнить на покое о сердитом океане и о грозной темноте над бездной, где еще так недавно качалась его лодка.
Дверь захлопнулась, как будто форт заперся от моря, по которому, таинственно поблескивая вспышками фосфорической пены, набегал уже первый шквал широкою, во все море, грядою.
А в окне угловой башни неуверенно светил огонек, и лодка, введенная в бухту, мерно качалась и тихо взвизгивала под ударами отраженной и разбитой, но все еще крепкой волны.
III
В угловой башне была келья испанской военной тюрьмы. На одно мгновение красный огонек, светивший из ее окна, затмился и за решеткой силуэтом обрисовалась фигура человека. Кто-то посмотрел оттуда на темное море и отошел.
Огонек опять заколебался красными отражениями на верхушках валов.
Это был Хуан-Мария-Хозе-Мигуэль Диац, инсургент[129]129
Инсургент – участник вооруженного восстания, повстанец.
[Закрыть]. В прошлое восстание испанцы взяли его в плен и приговорили к смерти, но затем, по прихоти чьего-то милосердия, он был помилован. Ему подарили жизнь, то есть привезли на этот остров и посадили в башню. Здесь с него сняли оковы. Они были не нужны: стены были из камня, в окне – толстая железная решетка, за окном – море. Его жизнь состояла в том, что он мог смотреть в окно на далекий берег… И вспоминать… И, может быть, еще – надеяться.
Первое время, в светлые дни, когда солнце сверкало на верхушках синих волн и выдвигало далекий берег, он подолгу смотрел туда, вглядываясь в очертания родных гор, в выступавшие неясными извилинами ущелья, в чуть заметные пятнышки далеких деревень… Угадывал бухты, дороги, горные тропинки, по которым, казалось ему, бродят легкие тени и среди них одна, когда-то близкая ему… Он ждал, что в горах опять засверкают огоньки выстрелов с клубками дыма, что по волнам оттуда, с дальнего берега, понесутся паруса с родным флагом возмущения и свободы. Он готовился к этому и терпеливо, осторожно, настойчиво долбил камень около ржавой решетки.
Но годы шли. На берегу все было спокойно, в ущельях лежала синяя мгла, от берега отделялся лишь небольшой испанский сторожевой катер, да мирные рыбачьи суда сновали по морю, как морские чайки за добычей…
Понемногу все прошлое становилось для него как сон. Как во сне, дремал в золотистом тумане усмирившийся берег, и во сне же бродили по нем призрачные тени давно прошедшего… А когда от берега отделялся дымок и, разрезая волны, бежал военный катер, он знал: это везут на остров новую смену тюремщиков и стражи…
И еще годы прошли в этой летаргии[130]130
Летаргия – длительный сон, близкий к смерти. В переносном смысле – неподвижность, умственная бездеятельность.
[Закрыть]. Хуан-Мария-Хозе Диац успокоился и стал забывать даже свои сны. Даже на дальний берег он смотрел уже с тупым равнодушием и давно уже перестал долбить решетку… К чему?..
Только когда поднимался восточный ветер, особенно сильный в этих местах, и волны начинали шевелить камни на откосе маленького острова, – в глубине его души, как эти камни на дне моря, начинала глухо шевелиться тоска, неясная и тупая. От затянутого мглою берега, казалось ему, опять отделяются какие-то тени и несутся над морскими валами и кричат о чем-то громко, торопливо, жалобно, тревожно… Он знал, что это кричит только море, но не мог не прислушиваться невольно к этим крикам… И в глубине его души поднималось тяжелое, темное волнение.
В его каморке от угла к углу, по диагонали, была обозначена в каменном полу углубленная дорожка. Это он вытоптал босыми ногами камень, бегая в бурные ночи по своей клетке. Порой в такие ночи он опять царапал стену около решетки. Но в первое же утро, когда море, успокоившись, ласково лизало каменные уступы острова, он также успокаивался и забывал минуты исступления…
Он знал, что его держит здесь не решетка… Его держало это коварное, то сердитое, то ласковое, море, и еще… сонное спокойствие отдаленного берега, лениво и тупо дремавшего в своих туманах…
IV
Так прошли еще годы, которые казались уже днями. Время сна не существует для сознания, а его жизнь уже вся была сном, тупым, тяжелым и бесследным.
Однако с некоторых пор в этом сне опять начинали мелькать странные видения. В очень светлые дни на берегу поднимался дым костров или пожаров. В форте происходило необычайное движение: испанцы принялись чинить старые стены; изъяны, образовавшиеся в годы безмятежной тишины, торопливо заделывались; чаще прежнего мелькали между берегом и островом паровые баркасы с военным испанским флагом. Раза два, точно грузные спины морских чудовищ, тяжело проползли мониторы[131]131
Мониторы – бронированные военные корабли, предназначенные для плавания по мелководью – вдоль берегов.
[Закрыть] с башенками над самой водой. Диац смотрел на них тусклым взглядом, в котором порой пробивалось удивление. Один раз ему показалось даже, что в ущелье и по уступам знакомой горы, в этот день ярко освещенной солнцем, встают белые дымки от выстрелов, маленькие, как булавочные головки, выплывают внезапно и ярко на темно-зеленом фоне и тихо тают в светлом воздухе. Один раз длинная черная полоса монитора продвинулась к дальнему берегу, и несколько коротких, оборванных ударов толкнулось с моря в его окно. Он схватился руками за решетку и крепко затряс ее. Она звякнула и задрожала. Щебенка и мусор посыпались из гнезд, где железные полосы были вделаны в стены…
Но прошло еще несколько дней… Берег опять затих и задремал; море было пусто, волны тихо, задумчиво накатывались одна на другую и, как будто от нечего делать, хлопали в каменный берег… И он подумал, что это опять был только сон…
Но в этот день с утра море начинало опять раздражать его. Несколько валов уже перекатилось через волнолом, отделяющий бухту, и слева было слышно, как камни лезут со дна на откосы берега… К вечеру в четырехугольнике окна то и дело мелькали сверкающие брызги пены. Прибой заводил свою глубокую песню, берег отвечал глубокими стонами и гулом.
Диац только повел плечами и решил лечь пораньше. Пусть море говорит что хочет; пусть как хочет выбирается из беспорядочной груды валов и эта запоздалая лодка, которую он заметил в окно. Рабья лодка с рабского берега… Ему нет дела ни до нее, ни до голосов моря.
Он лег на свой матрац.
Когда сторож-испанец в обычный час принес фонарь и вставил его из коридора в отверстие над запертой дверью, то свет его озарил лежащую фигуру и бледное лицо с закрытыми глазами. Казалось, Диац спал спокойно; только по временам брови его сжимались и по лицу проходило выражение тупого страдания, как будто в глубине усыпленного сознания шевелилось что-то глухо и тяжко, как эти прибрежные камни в морской глубине…
Но вдруг он сразу проснулся, точно кто назвал его по имени. Это шквал, перелетев целиком через волнолом, ударил в самую стену. За окном неслись в темноте белые клочья фосфорической пены, и, даже когда грохот стих, камера была полна шипением и свистом. Отголоски проникли за запертую дверь и понеслись по коридорам. Казалось, что-то сознательно грозное пролетело над островом и затихает и замирает вдали…
Диац сразу стал на ноги. Ему казалось, что он спал лишь несколько секунд, и он взглянул в окно, ожидая еще увидеть вдали белый парусок лодки. Но в окне было черно, море бесновалось в полной тьме, и были слышны смешанные крики убегавшего шквала.
Хотя такие бури бывали не часто, но все же он хорошо знал и этот грохот, и свист, и шипение, и подземное дрожание каменного берега. Но теперь, когда этот разнузданный гул стал убывать, под ним послышался еще какой-то новый звук, что-то тихое, ласковое и незнакомое…
Он кинулся в окно и, опять ухватившись руками за решетку, заглянул в темноту. Море было бесформенно и дико. Дальний берег весь был поглощен тяжелою мглою. Только на несколько мгновений между ним и тучей продвинулся красный затуманенный месяц. Далекие неуверенные отблески беспорядочно заколебались на гребнях бешеных валов и погасли… Остался только шум, могучий, дико сознательный, суетливый и радостно зовущий…
Хозе-Мария-Мигуэль Диац почувствовал, что все внутри его дрожит и волнуется как море. Душа просыпается от долгого сна, проясняется сознание, оживают давно угасшие желания… И вдруг он вспомнил ясно то, что видел на берегу несколько дней назад… Ведь это был не сон! Как мог он считать это сном? Это было движение, это были выстрелы… Это было восстание!..
Налетел еще шквал, опять пронеслись сверкающие брызги, и опять из-под шипения и плеска послышался прежний звук, незнакомый и ласковый. Диац кинулся к решетке и в порыве странного одушевления сильно затряс ее. Посыпались опять известь и щебенка, разъеденные солеными брызгами, упало несколько камней, и решетка свободно вынулась из амбразуры[132]132
Амбразура – отверстие для стрельбы в стене; здесь: ниша для окна.
[Закрыть].
А под окном, в бухте, качалась и визжала лодка…
V
На стене в это время сменился караул.
– Святой Иосиф… Святая Мария! – пробормотал новый часовой и, покрыв голову капюшоном, скрылся за выступ стены. По морю во всю ширину, вставая и падая, поблескивая в темноте гребнями пены, летел новый шквал. Ветер, казалось, сходил с ума, остров вперед уже вздрагивал и стонал. Со дна, как бледные призраки, лезли на откосы огромные камни, целыми годами лежавшие в глубине.
Шквал налетел как раз в ту минуту, когда Диац выскочил из окна. Его сразу залило водой, оглушило и сшибло с ног… Несколько секунд он лежал без сознания, с одним ужасом на душе, озябший и несчастный, а над ним с воем неслось что-то огромное, дикое, враждебное…
Когда грохот несколько стих, он открыл глаза. По небу неслись темные тучи, без просветов, без очертаний. Скорее чувствовалось, чем виделось движение этих громад, которые все так же неудержимо неслись на запад. А вдалеке опять вставало что-то невидимое, но грозное и гудело угрюмо, зловеще, непрерывно.
Только каменные стены форта оставались неподвижными и спокойными среди общего движения. В темноте можно было различить жерла пушек, выступившие из амбразур… Из дальней казармы в промежуток сравнительного затишья донеслись звуки вечерней молитвы, барабан пробил последнюю зорю… Там, за стенами, казалось, замкнулось спокойствие. Огонек в его башне светился ровным, немигающим светом.
Диац поднялся и, точно прибитая собака, пошел к этому огоньку… Нет, море обманчиво и ужасно. Он войдет в свою тихую келью, наложит решетку, ляжет в своем углу на свой матрац и заснет тяжелым, но безопасным сном неволи.
Надо будет только тщательно заделать решетку, чтобы не заметил патруль… Могут еще подумать, что он хотел убежать в эту бурную ночь… Нет, он не хочет бежать… На море гибель…
Он схватился руками за карниз, поднялся к окну и остановился…
В камере было пусто и сравнительно тихо. Ровный желтоватый свет фонаря падал на стены, на вытоптанный пол, на матрац, лежавший в глу…
Над изголовьем, вырезанная глубоко в камне, виднелась надпись:
«Хуан-Мария-Хозе-Мигуэль Диац, инсургент. Да здравствует свобода!»
И всюду по стенам, крупные и мелкие, глубокие и едва намеченные, мелькали те же надписи:
«Хуан-Мигуэль Диац… Мигуэль Диац…»
И – цифры…
Сначала он отмечал время днями, неделями, потом месяцами… «Матерь божия, уже два года…» «Три года… Господи, сохрани мой разум… Диац… Диац…»
Десятый год отмечен просто цифрой, без восклицаний… Далее счет прекращался… Только имя продолжало мелькать, вырезанное слабеющей и ленивой рукой… И на все это бесстрастно и ровно падал желтоватый свет фонаря…
И вдруг Диацу представилось, что на его постели лежит человек и спит тяжелым сном. Грудь подымается тихо, с тупым спокойствием… Это он? Тот Диац, который вошел сюда полным сил и любви к жизни и свободе?..
Новый шквал с воем и грохотом налетал на остров… Диац отпустил руки и опять спрыгнул на берег. Шквал пронесся и стал затихать… Ровный огонек опять светил из окна в темноту.
VI
Часовой на стене, повернувшись спиной к ветру и охватив руками ружье, чтоб его не вырвало ураганом, читал про себя молитвы, прислушиваясь к адскому грохоту моря и неистовому свисту ветра. Небо еще потемнело; казалось, весь мир поглотила уже эта бесформенная тьма, охватившая одинаково и тучи, и воздух, и море.
Лишь по временам среди шума, грохота, плеска с пугающей внезапностью обозначались белые гребни и волна кидалась на остров, далеко отбрасывая брызги через низкие стены.
Прочитав все, какие знал, молитвы, часовой повернулся к морю и замер в удивлении. Вдоль бухты, среди сравнительного затишья, чуть заметная в темноте, двигалась лодка, приближаясь к тому месту, где уже не защищенное от ветра море кипело и металось во мраке. Внезапно белый парус взвился и надулся ветром. Лодка качнулась, поднялась и исчезла…
В это мгновение Диац взглянул назад, и ему показалось, что темный островок колыхнулся и упал в бездну вместе с ровным огоньком, который до этого мгновения следил за ним своим мертвым светом. Впереди были только хаос и буря. Кипучий восторг переполнил его застывшую душу. Он крепче сжал руль, натянул парус и громко крикнул… Это был крик неудержимой радости, безграничного восторга, пробудившейся и сознавшей себя жизни… Сзади раздался заглушенный ружейный выстрел, потом гул пушечного выстрела понесся вдаль, разорванный и разметанный ураганом. Сбоку набегал шквал, подхватывая лодку… Она поднималась, поднималась… казалось, целую вечность… Хозе-Мария-Мигуэль Диац с сжатыми бровями, твердым взглядом глядел только вперед, и тот же восторг переполнял его грудь… Он знал, что он свободен, что никто в целом мире теперь не сравняется с ним, потому что все хотят жизни… А он… Он хочет только свободы.
Лодка встала на самой вершине вала, дрогнула, колыхнулась и начала опускаться… Со стены ее видели в последний раз… Но еще долго маленький форт посылал с промежутками выстрел за выстрелом бушующему морю…
VII
А наутро солнце опять взошло в ясной синеве. Последние клочки туч беспорядочно неслись еще по небу; море стихало, колыхаясь и как будто стыдясь своего ночного разгула… Синие тяжелые волны все тише бились о камни, сверкая на солнце яркими веселыми брызгами.
Дальний берег, освеженный и омытый грозой, рисовался в прозрачном воздухе. Всюду смеялась жизнь, проснувшаяся после бурной ночи.
Небольшой пароход крейсировал[133]133
Крейсировать, крейсерство – плавание военного судна в определенном районе с целью разведки, охраны берегов.
[Закрыть] вдоль берега, расстилая по волнам длинный хвост бурого дыма. Кучка испанцев следила за ним со стены форта.
– Наверное, погиб, – сказал один. – Это было чистое безумие… Как вы думаете, дон Фернандо?
Молодой офицер повернул к говорившему задумчивое лицо.
– Да, вероятно, погиб, – сказал он. – А может быть, смотрит на свою тюрьму с этих гор. Во всяком случае, море дало ему несколько мгновений свободы. А кто знает, не стоит ли один миг настоящей жизни целых годов прозябания!..
– Однако что это там? Посмотрите… – И офицер указал на южную оконечность гористого берега. На одном из крайних мысов, занятых лагерем инсургентов, в синеющей полосе замелькали кучками белые вспышки дыма. Звука не было слышно, только суетливые дымки появлялись и гасли, странно оживляя пустынные ущелья. С моря в ответ отрывисто грянул пушечный выстрел, и, когда дым весь лег на сверкающие искрами волны, все опять стихло. И берег и море молчали…
Офицеры переглянулись… Что значило это непонятное оживление на позициях восставших туземцев?.. Ответ ли это на вопрос об участи беглеца? Или просто случайная перестрелка внезапной тревоги?..
Ответа не было…
Сверкающие волны загадочно смеялись, набегая на берег и звонко разбиваясь о камни…
1900
Огоньки
Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами, мелькнул огонек.
Мелькнул ярко, сильно, совсем близко…
– Ну, слава богу! – сказал я с радостью. – Близко ночлег!
Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и опять апатично налег на весла.
– Далече!
Я не поверил: огонек так и стоял, выступая вперед из неопределенной тьмы. Но гребец был прав: оказалось действительно далеко.
Свойство этих ночных огней – приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею близостью. Кажется, вот-вот еще два-три удара веслом – и путь кончен. А между тем – далеко!..
И долго еще мы плыли по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось, в бесконечной дали, а огонек все стоял впереди, переливаясь и маня, – все так же близко и все так же далеко…
Мне часто вспоминается теперь и эта темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней и раньше и после манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла…
Но все-таки… все-таки впереди – огни!..
1900
Комментарии
Составившие книгу произведения перепечатываются из Собрания сочинений В. Г. Короленко в десяти томах (М.: ГИХЛ, 1953–1956), тт. 1, 2, 3, 8. При написании комментариев использованы материалы «Примечаний», имеющиеся в этом издании.
Пугачевская легенда на Урале
Написана осенью 1900 года и должна была войти четвертой главой в очерки Короленко «У казаков». Однако, когда очерки уже были сданы в печать, набраны и даже сверстаны, автор изъял из них «Легенду» и до революции не печатал. Только в 1918 году он передал текст «Пугачевской легенды на Урале» журналу «Голос минувшего», где они появились в 1922 году, в книге 10, то есть после смерти писателя.
Интерес к личности Пугачева и пугачевскому движению в целом возник у Короленко еще в конце 80-х годов. Но участие в помощи голодающим (1892–1893), поездка в Америку (1893), участие в Мултанском деле (1895–1896), переезд в Петербург, текущие литературные и общественные дела постоянно отвлекали Короленко от работы над исторической повестью о пугачевском движении. Жалуясь в письме к жене от 4 июня 1899 года на сутолоку столичной жизни, Короленко пишет: «Единственным утешением за все это время служил мне только Емелька. Как только урывался свободный часок, я сейчас же за книги и свои записные книжки».
Записные книжки Короленко содержат библиографические указания, по которым можно установить, что им было прочитано множество исторических сочинений, относящихся ко времени Пугачева. Иногда Короленко заносил в них выписки из исторических источников, краткие конспекты глав и картин своей будущей повести «Набеглый царь». При чтении исторических работ Короленко внимательно отмечал черты художественного образа Пугачева: его мужество и силу воли, независимость и нелюбовь к «советникам и указчикам», черты великодушия, а вместе с тем и наивного хвастовства, нарочитую театральность его парадных выходов и т. п. Везде Короленко прослеживал крайнюю жестокость правительственных мер против участников восстания. В библиотеке писателя сохранились три тома книги Н. Дубровина «Пугачев и его сообщники» (СПб., 1884) с пометками Короленко, которых насчитывается более четырехсот.
Развитие замысла исторической повести о Пугачеве вызвало необходимость поехать в те места, где возникло и окрепло с первых же шагов мощное народное движение, потрясшее основы помещичье-крепостнической России. Предания о крестьянских восстаниях писатель собирал и во время поездки летом 1890 года в Арзамас; в июне 1891 года он ездил в Уфу; лето и раннюю осень 1900 года он провел в Области уральского войска.
Работая в Уральском войсковом архиве, Короленко внимательно вчитывался в старинные дела, делал обширные выписки, стараясь восстановить широкую картину жизни и нравов XVIII века на окраине России перед восстанием, уяснить себе исторические особенности Южного Урала и разобраться в деталях пугачевского движения в тех местах. В письме к Н. Ф. Анненскому 16 августа 1900 года Короленко, в частности, сообщал, что «среди множества дел… почти совсем не встречается преступлений пугачевцев, тогда как верные слуги Екатеринушки – были народ ой-ой вороватый… познакомился с природой, людьми и их будничными делишками».
Чуть позже, 29 августа того же года, Короленко писал жене: «Читаю дела и выписываю. С первым томом пугачевских бумаг справился дня в два-три. Второй том оказался гораздо содержательнее. Выписок приходится делать много. Это задерживает. Зато картина встает довольно полная… Канва для моей будущей работы все расширяется. Мелочи и крупные факты действительных событий все более и более выясняются. Это, конечно, именно только канва, своего рода рамка, на которой придется вышить свой узор. Но некоторые детали уж теперь просятся на бумагу почти в готовом виде. А во-вторых, знаю, что в историческом отношении теперь не навру, колорит времени и места передам, а в некоторых подробностях, быть может, будет кое-что новое даже и для историков… Картина человеческой неправды и подлости, с одной стороны, неясные инстинкты дикой воли, с другой стороны, и среди этих темных разбушевавшихся сил – мечта о какой-то будущей правде, как звезда среди туч, – вот как мне рисуется основная нота моей повести. Но в плане все еще много неясного. И работы много. Придется отрываться часто для других вещей. И читать еще, читать много. Нужно ознакомиться с бытовыми мелочами екатерининского времени».
Много интересного и яркого материала дали Короленко поездки по казачьим станицам, где он беседовал с казаками, фотографировал исторические места. В письме к матери от 20 июля 1900 года он писал: «Езжу по окрестностям Уральска и по ближним станицам. Вчера почти 1/2 дня провел в казачьей станице, окруженный самыми типичными уральцами-раскольниками. Народ суровый, решительный и упорный… Этот день в „Свистуне“ (так называется слобода) объяснил мне не меньше, чем, может быть, неделя чтения источников».
Короленко побывал на реке Таловой, где стоял умет (постоялый двор) казака Оболяева, куда к Пугачеву явились первые участники восстания. «Поездка в общем вышла очень удачная, – писал он Е. С. Короленко 28 августа 1900 года. – Место „умета“ разыскал с полной точностью и третьего дня стоял над речкой Таловой, на том самом клочке земли, где был постоялый двор и где Пугачев начинал свое дело. Остановились мы на ночлег на постоялом дворе в поселке, и я снял внутренний вид и наружность этих дворов, самого первобытного и очень оригинального вида. Более чем вероятно, что умет Оболяева имел такой же вид, ни на какие российские заезжие дворы не похожий. Жизнь этого поселка тоже очень оригинальная, и все вместе сильно действует на воображение». Доказательством этого воздействия на воображение явилось продолжение письма, в котором Короленко дал сцену первой встречи Пугачева, переодетого купцом, с казачьим старшиной Мартемьяном Бородиным.
Среди материалов Короленко к повести «Набеглый царь» сохранились отрывки, по которым можно проследить развитие замысла писателя. Он намеревался показать Пугачева еще в период Прусской войны; наметил образ одного из главных героев – интеллигента екатерининского времени молодого офицера Скаловского, выступающего с критикой непорядков русской армии и присоединяющегося к пугачевскому восстанию. Особое внимание Короленко уделял роли в восстании угнетенных национальностей окраинной России. В план писателя входило показать Петербург того времени, Екатерину и ее окружение для того, чтобы связать жизнь центра с событиями на Урале и Поволжье. Произведение должно было широко и полно представить разные стороны общественной, экономической и политической жизни России XVIII века, дать картину крупнейшего народного восстания и по-новому раскрыть образ его руководителя Е. И. Пугачева.
Поселившись в Полтаве с осени 1900 года, Короленко в первые годы продолжал собирание исторических материалов; в 1903–1904 годах писал разным лицам в Уфу и Оренбург, делал запросы об архивных данных, касающихся Пугачевского восстания; пытался получить ответы на ряд вопросов от престарелого участника Пугачевского восстания, жившего в Тобольске.
Большой подготовительный материал, однако, остался неиспользованным: писатель все более отходил от своего замысла к другим художественным темам, а, начав с 1905 года работу над «Историей моего современника», вынужден был окончательно отказаться от повести «Набеглый царь».
Материалы к повести «Набеглый царь» опубликованы в «Записных книжках 1880–1900» (Гослитиздат, 1935) и «Избранных письмах», т. 3 (Гослитиздат, 1936).
Траубенберг – генерал-майор, в декабре 1771 года прибыл из Оренбурга в Яицкий городок (Уральск) для следствия о казаках, отказавшихся выполнять очередную воинскую повинность, и произвел над ними жестокую расправу. Был убит восставшими яицкими казаками 13 января 1772 года.
Слепой музыкант
«Слепой музыкант», с подзаголовком «этюд», впервые был опубликован в десяти номерах газеты «Русские ведомости» в 1886 году. Неожиданно для автора редакция газеты начала печатать данное ей для просмотра начало, когда не было еще написано продолжение, и это заставило Короленко работать над произведением с чрезвычайной поспешностью. Некоторые главы за недостатком времени он писал прямо набело. «Слепой музыкант» имел большой успех: повесть еще не была полностью напечатана в газете, а редакция журнала «Русская мысль» предложила перепечатать ее в журнале. Высказывая свои колебания на этот счет, Короленко писал Г. А. Мачтету: «Без сомнения, рассказ придется сильно сгладить и переделать кое-что, но за крупную перестройку не имею мужества взяться». Все же Короленко значительно переработал «Слепого музыканта» для журнала. В первое отдельное издание, вышедшее в 1888 году, автор опять ввел изменения (вычеркнул, в частности, названия отдельных глав и переработал заключительную главу). При жизни автора «Слепой музыкант» выходил более чем в пятнадцати изданиях, и в каждое он вносил те или иные поправки. Особенно значительные дополнения Короленко ввел в шестое издание, в 1898 году, снабдил его предисловием «От автора», которое при дальнейших изданиях неизменно перепечатывалось.
Психология слепых занимала Короленко с давних пор. «По отношению к интересующему Вас произведению, – пишет он 9 ноября 1894 года переводчику Л. Гольшману, – могу прибавить, что здесь (то есть в Ровно), еще мальчиком я познакомился впервые с слепой девушкой. Это была взрослая уже племянница нашей домовладелицы, слепорожденная. У нее было необыкновенно развитое осязание. Она очень любила щупать материи, покупаемые ее знакомыми и подругами, часто оценивала их с точки зрения красоты и раздражалась до слез, когда ей говорили, что она об этом не имеет понятия. Эпизод с падучей звездой вечером… приведен целиком из детских воспоминаний об этой бедной девушке. Кроме нее, я наблюдал еще мальчика, постепенно терявшего зрение, затем – молодого человека, ослепшего в первые дни после рождения. Он был отчасти музыкант. Наконец слепой звонарь в Саровской пустыни, слепорожденный, рассказами о своих ощущениях подтвердил ту сторону моих наблюдений, которая касается беспредметной и жгучей тоски, истекающей из давления неосуществленной и смутной потребности, света. Он рассказывал мне, как он молится, чтобы бог дал ему „увидеть свет-радость хоть в сонном видении“. Это было на верхушке высокой колокольни, куда он привел меня по узкой темной лестнице. Снизу доносился шум монастырского движения, полного богомольцев, вверху нас обдавал ветер, приносивший свежесть и аромат окружающего бора, и бедный слепец, разнеженный и растроганный, выкладывал передо мной свою наболевшую и подавленную душу. Мне говорили часто и говорят еще теперь, что человек может тосковать лишь о том, что он испытал. Слепорожденный не знал света и не может тосковать по нем. Я вывожу это чувство из давления внутренней потребности, случайно не находящей приложения. Концевой аппарат испорчен – но весь внутренний аппарат, реагировавший на свет у бесчисленных предков, остался и требует своей доли света. Саровский звонарь своими бесхитростными рассказами убедил меня окончательно в верности этого взгляда».
В 1916 году профессор психологии А. М. Щербина (слепой с двухлетнего возраста) выступал с лекцией о «Слепом музыканте», изданной им отдельной брошюрой, под заглавием: «„Слепой музыкант“ Короленко, как попытка зрячих проникнуть в психологию слепых (в свете моих собственных наблюдений)». Щербина оспаривал точку зрения Короленко о неизбежности тоски по недостижимому у слепорожденных, приводя в пример самого себя, не знавшего света и тем не менее счастливого и удовлетворенного своей жизнью. «Щербина человек очень почтенный и прямо замечательный, – писал Короленко А. Г. Горнфельду 14 февраля 1916 года, – если принять во внимание огромную силу, употребленную на преодоление трудностей, не существующих для зрячих, Щербина – позитивист до мозга костей. Он или судьба за него сделали то, что хотел сделать мой Максим. Разбил задачу на массу деталей, последовательных этапов, разрешил их одну за другой, получил от этой суммы определенных слагаемых удовлетворение „достижения“, и это закрыло от него дразнящую тайну недостижимого светящегося мира. И он успокоился… в сознании. И уверяет, что он доволен и счастлив без полноты существования. Доволен – да. Счастлив – наверное нет».