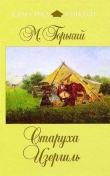Текст книги "Повести и рассказы"
Автор книги: Владимир Короленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
«Что ты, что ты, дядя Буран! – говорю ему. – Нешто живому человеку могилу роют? Мы тебя на амурскую сторону свезем, там на руках понесем… Бог с тобой».
«Нет уж, братец, – отвечает старик, – против своей судьбы не пойдешь, а уж мне судьба лежать на этом острову, видно. Так пусть уж… чуяло сердце. Вот всю-то жизнь, почитай, все из Сибири в Расею рвался, а теперь хоть бы на сибирской земле помереть, а не на этом острову проклятом…»
Подивился я тут на Бурана – совсем не тот старик стал: говорит как следует, в полной памяти, глаза у него ясные, только голос слабый. Собрал нас всех вокруг себя и стал наставлять.
«Слушайте, говорит, ребята, что я стану рассказывать, да запоминайте хорошенько. Придется теперь вам без меня по Сибири идти, а мне здесь оставаться. Дело ваше теперь очень опасно – пуще всего, что Салтанова убили. Слух теперь пройдет об этом деле далеко: не то что в Иркутске, в Расее об этом деле узнают. Станут вас в Николаевском сторожить. Смотри, ребята, идите опасно; голод, холод терпите, а уж в деревни-то заходите поменьше, города обходите подальше. Гиляка и гольда не бойтесь – эти вас не тронут. Ну, теперь замечайте хорошенько, стану вам про дорогу по амурской стороне рассказывать. Будет тут перед Николаевским городом заимка, в той заимке наш благодетель живет, приказчик купца Тарханова. Торговал он раньше на Соколином острову с гиляками, заехал с товарами в горы да и сбился с дороги, заблудился. А с гиляками у него нелады были, ссора. Увидели они, что забрался он в глухое место, и застукали его в овраге; совсем было убили, да как раз на ту пору шли мы самым тем оврагом, соколинские бродяжки… В первый раз еще тогда я с Соколина уходил. Вот заслышали мы, что русский человек в тайге голосом голосит, кинулись в овраг и приказчика от гиляков избавили; с тех самых пор он нашу добродетель помнит. „Должен я, говорит, по гроб моей жизни соколинских ребят наблюдать…“ И действительно, с тех пор нашим от него всякое довольствие идет. Разыщите его – счастливы будете и всякую помощь получите».
Вот рассказал нам старик все дороги, наставление дал, а потом говорит:
«Теперь, говорит, ребята, вам времени-то терять незачем. Прикажи-ка, Василий, на этом месте домовину мне вырыть, потому что место хорошее. Пусть хоть ветер с амурской стороны долетает да море оттуда плещет. Не мешкайте, полно, ребята! Принимайтесь за работу живее!»
Послушались мы.
Тут старик под кедрой сидит, а тут мы ему могилу роем; вырыли могилу ножами, помолились богу, старик уж у нас молчит, только головой качает, слезно плачет. Село солнце, старик у нас помер. Стемнело, мы уж и яму сровняли.
Как выплыли мы на середину пролива, луна на небо взошла, посветлело. Оглянулись все, сняли шапки… За нами, сзади, Соколиный остров горами высится, на утесике-то Буранова кедра стоит…
VII
Переехали мы на амурскую сторону, а уж там гиляки говорят: «Салтанова голова… вода». Бедовые эти инородцы, сороки им на хвосте вести носят. Что ни случись, все в ту же минуту узнают. Повстречали мы их несколько человек у моря, рыбу они ловили. Мотают головами, смеются; видно, что рады сами. А мы думаем: хорошо, мол, вам, чертям, смеяться, а нам-то каково! Из-за этой головы нам, может, всем теперь своих голов не сносить. Ну, дали они нам рыбы, расспросили мы их про все дороги, какие тут были, и пошли себе по своей. Идем по земле, словно по камню горячему: каждого шороху пугаемся, каждую заимку обходим, от русского человека тотчас в тайгу хоронимся, следы заметаем. Страшно ведь…
Днем больше в тайге отдыхали, по ночам шли напролет. К Тархановой заимке подошли на рассвете. Стоит в лесу заимка новая, кругом огорожена, вороты заперты накрепко. По приметам выходит та самая, про какую Буран рассказывал. Вот подошли мы, вежливенько постучались, смотрим: вздувают в заимке огонь. «Кто, мол, тут, что за люди?»
«Бродяжки, говорим, от Бурана Стахею Митричу поклон принесли».
А на ту пору Стахей Митрич, главный-то приказчик тархановский, в отлучке находился, а на заимке подручного оставил, и был от него подручному наказ: в случае придут соколинские ребята, давать им по пяти рублей на брата, да сапоги, да полушубок, белья и провизии – сколько потребуется. «Сколько бы их ни было, говорит, всех удовлетвори, собери работников, да при них выдачу и засвидетельствуй. Тут и отчет весь!»
А уж на заимке тоже про Салтанова узнали. Приказчик-то увидел нас и испужался.
«Ах, братцы, говорит, не вы ли же этого Салтанова прикончили? Беда ведь!»
«Ну, мол, мы аль не мы, об этом разговаривать нечего. А не будет ли от вашей милости какой помощи? От Бурана мы к Стахею Митричу с поклоном».
«А сам-то Буран что же? Али опять на остров попал?»
«Попал, говорим, да приказал долго жить».
«Ну, царство ему небесное… Хороший бродяга был, честных правил, хотя и незадачливый. Стахей Митрич и по сю пору его вспоминает. Теперь, чай, в поминанье запишет, только вот имя-то ему как? Не знаете ли, ребята?»
«Не знаем мы. Буран да Буран, так и звали. Чай, покойник и сам-то свое имя забыл, потому что бродяге не к чему».
«То-то вот. Эх, братцы, жизнь-то, жизнь ваша!.. Захочет поп об вас богу сказать и то не знает, как назвать… тоже, чай, у старика в своей стороне родня была: братья и сестры, а может, и родные детки».
«Как, чай, не быть. Бродяга-то хоть имя свое крещеное бросил, а тоже ведь и его баба родила, как и людей…»
«Горькая ваша жизнь, ох горькая!»
«Чего горше: едим прошенное, носим брошенное, помрем – и то в землю не пойдем. Верно! Не всякому ведь бродяге и могила-то достанется. Помрешь в пустыне – зверь сожрет, птица расклюет… Кости и те серые волки врозь растащут. Как же не горькая жизнь?»
Пригорюнились мы… Хоть жалостные-то слова мы для приказчика говорим – потому сибиряку чем жалостнее скажешь, то он больше тебя наградит, – ну а все же видим и сами, что правда, так оно и по-настоящему точка в точку выходит. Вот, думаем, он сейчас зевнет, да перекрестится, да и завалится спать… в тепле, да в сытости, да никого-то он не боится, а мы пойдем по дикой тайге путаться глухою ночью да, точно нечисть болотная, с петухами от крещеных людей хорониться.
«Ну, однако, ребята, – говорит приказчик, – пора мне и на боковую. Жертвую вам от себя по двугривенному на брата да по положению что следует получите и ступайте себе с богом. Рабочих всех будить не стану – трое есть у меня понадежнее, так они и засвидетельствуют для отчету. А то как бы с вами беды не нажить… Смотрите в Николаевский город лучше не заглядывайте. Намеднись я оттуда приехал: исправник ноне живет бойкой; приказал всех прохожих имать, где какой ни объявится. „Сороке, говорит, пролететь не дам, заяц мимо не проскачет, зверь не прорыщет, а уж этих я молодцов соколинцев изымаю“. Счастливы будете, ежели удастся вам мимо пройти, а уж в город-то ни за коим делом не заходите».
Выдал он нам по положению, рыбы еще дал несколько да от себя по двугривенному накинул. Потом перекрестился на небо, ушел к себе на заимку и дверь запер. Погасили сибиряки огни, легли спать – до свету-то еще не близко. А мы пошли себе своею дорогой, и очень нам всем в ту ночь тоскливо было.
Ох и люта же тоска на бродягу живет! Ночка-то темная, тайга-то глухая… дождем тебя моет, ветром тебя сушит, и на всем-то на всем белом свете нет тебе родного угла, ни приюту… Все вот на родину тянешься, а приди на родину, там тебя всякая собака за бродягу знает. А начальства-то много, да начальство-то строго… Долго ли на родине погуляешь – опять тюрьма!
Да еще и тюрьма-то иной раз раем вспоминается, право… Вот и в ту ночь идем-идем, вдруг Володька и говорит:
«А что, братцы, что-то теперь наши поделывают?»
«Это ты про кого, мол?»
«Да наши, на Соколином острову, в седьмой казарме. Чай, спят себе теперь, и горюшка мало!.. А мы вот тут… Эх, не надо бы и ходить-то…»
Прикрикнул я на него: «Полно, мол, тебе бабиться! И не ходил бы, коли дух в тебе короткий, – на других тоску нытьем нагоняешь».
А сам, признаться, тоже задумался. Притомились мы, идем – дремлем; бродяге это в привычку на ходу спать. И чуть маленько забудусь, сейчас казарма и приснится. Месяц будто светит, и стенка на свету поблескивает, а за решетчатыми окнами – нары, а на нарах арестантики спят рядами. А потом приснится, и сам будто лежу, потягиваюсь… Потянусь – и сна не бывало… Ну, нет того сна лютее, как отец с матерью приснятся. Ничего будто со мною не бывало – ни тюрьмы, ни Соколиного острова, ни этого кордону. Лежу будто в горенке родительской, и мать мне волосы чешет и гладит. А на столе свечка стоит, и за столом сидит отец, очки у него надеты, и старинную книгу читает. Начетчик был. А мать будто песню поет.
Проснулся я от этого сна – кажись, нож бы в сердце, так в ту же пору. Вместо горенки родительской – глухая тропа таежная. Впереди-то Макаров идет, а мы за ним гусем. Ветер подымется, пошелестит ветвями и стихнет. А вдали, сквозь дерев, море виднеется, и над морем край неба просвечивает – значит, скоро заря и нам куда-нибудь в овраге хорониться. И никогда-то – может, и сами слышали, – никогда оно не молчит, море-то. Все будто говорит что-то, песню поет али так бормочет… Оттого мне во сне все песня и снилась. Пуще всего нашему брату от моря тоска, потому что мы к нему непривычны.
Стали ближе к Николаевскому подаваться; заимки пошли чаще, и нам еще опаснее. Как-никак, подвигаемся помаленьку вперед, да тихо; ночью идем, а с утра забиваемся в глушь, где уж не что человек – зверь не прорыщет, птица не пролетит.
Николаевск город надо бы подальше обойти, да уж мы притомились по пустым местам, да и припасы кончились. Вот подходим к реке под вечер, видим: на берегу люди какие-то. Пригляделись, ан это «вольная команда»[75]75
Вольную команду составляют каторжники, отбывшие положенный срок испытания. Они живут не в тюрьме, а на вольных квартирах, хотя все же и они лично и их труд подвергаются известному контролю и обусловлены известными правилами. (Примеч. В. Г. Короленко).
[Закрыть] с сетями рыбу ловит. Ну и мы без страху подходим:
«Здорово, мол, господа вольная команда!»
«Здравствуйте, – отвечают. – Издалеча ли бог несет?»
Слово за слово, разговорились. Потом староста ихний посмотрел на нас пристально, отозвал меня к сторонке и спрашивает:
«Вы, господа проходящие, не с Соколиного ли острову? Не вы ли это Салтанова „накрыли“?»
Постеснялся я, признаться, сказать ему откровенно всю правду. Он хоть и свой брат, да в этаком деле и своему-то не сразу доверишься. Да и то сказать: вольная команда все же не то, что арестантская артель: захочет он, например перед начальством выслужиться, придет и доложит тайком – он ведь «вольный». В тюрьмах у нас все фискалы наперечет – чуть что, сейчас уже знаем, на кого думать. А на воле-то как узнаешь?
Вот видит он, что я позамялся, и говорит опять:
«Вы меня не опасайтесь: я своего брата выдавать никогда не согласен, да и дела мне нет. Не вы, так и не вы! А только, как было слышно в городе, что на Соколине сделано качество, и вижу я теперь, что вас одиннадцать человек, то я и догадался. Ох, ребята, беда ведь это, право, беда! Главное дело: качество-то большое, да и исправник у нас ноне дошлый. Ну, это дело ваше… Пройдете мимо – счастливы будете, а покамест вот осталось у нас артельного припасу достаточно, и как нонче нам домой возвращаться, то получайте себе наш хлеб, да еще рыбы вам отпустим. Не нужно ли котла?»
«Пожалуй, говорю, лишний не помешает».
«Берите артельный… Да еще из городу ночью я вам кое-чего привезу. Надо ведь своему брату помощь делать».
Легче тут нам стало. Снял я шапку, поклонился доброму человеку; товарищи тоже ему кланяются… Плачем… И то дорого, что припасами наделил, а еще пуще того дорого, что доброе слово услыхали. До сих пор шли, от людей прятались, потому знаем: смерть нам от людей предстоит, больше ничего. А тут пожалели нас.
Ну, на радостях-то чуть было беды себе не наделали.
Как отъехала вольная команда, ребята наши повеселели. Володька даже в пляс пустился, и сейчас мы весь свой страх забыли. Ушли мы в падь, называемая та падь Дикманская, потому что немец-пароходчик Дикман в ней свои пароходы строил… над рекой… Развели огонь, подвесили два котла, в одном чай заварили, в другом уху готовим. А дело-то уж и к вечеру подошло, глядишь – и совсем стемнело, и дождик пошел. Да нам в то время дождик, у огня-то за чаем, нипочем показался.
Сидим себе, беседуем, как у Христа за пазухой, а о том и не думаем, что от нас на той стороне городские огни виднеются, стало быть, и наш огонь из городу тоже видать. Вот ведь до чего наш брат порой беспечен бывает: по горам шли, тайгой, так и то всякого шороху пугались, а тут против самого города огонь развели и беседуем себе, будто так оно и следует.
На счастье наше, жил в то время в городу старичок чиновник. Был он в прежнее время в N. тюремным смотрителем. А в N. тюрьма большая, народу в ней перебывало страсть, и все того старика поминали добром. Вся Сибирь Самарова знала, и как сказали мне недавно ребята, что помер он в третьем годе, то я нарочно к попу ездил, полтину за помин души ему отдал, право! Добрейшей души старичок был, царствие ему небесное, только ругаться любил… Такой был ругатель, просто беда. Кричит, кричит, и ногами топает, и кулаки сжимает, а никакого страху от него не было. Уважали его, конечно, во всякое время, потому что был старик справедливый. Никогда от него арестанту обиды не было, никогда ничем не притеснял, копейкой артельной не прибытчился, кроме того, что добровольно артель за его добродетель награждала. Не забывали, надо правду говорить, и его арестанты, потому что семья у него была не малая… Имел доход порядочный…
В то время старичок этот был уж в отставке и жил себе в Николаевске на спокое, в собственном домишке. И по старой памяти все он с нашими ребятами из вольной команды дружбу водил. Вот сидел он тем временем у себя на крылечке и трубку покуривал. Курит трубку и видит: в Дикманской пади огонек горит. «Кому же бы это, думает, тот огонек развести?»
Проходили тут двое из вольной команды, подозвал он их и спрашивает:
«Где ноне ваша команда рыбу ловит? Неужто в Дикманской пади?»
«Нет, – говорят те, – не в Дикманской пади. Ноне им повыше надо быть. Да и то, никак вольной команде нонче в город возвращаться».
«То-то вот и я думаю… А видите, вон огонек за рекой горит?»
«Видим».
«Кому же у того огня быть? Как по-вашему?»
«Не могим знать, Степан Савельич. Какие-нибудь проходящие».
«То-то, проходящие… Нет у вас, подлецов, догадки о своем брате подумать, все я об вас обо всех думай… А слыхали, что исправник третьего дня про соколинцев-то сказывал? Видали, мол, их недалече… Не они ли это, дурачки, огонь развели?»
«Может статься, Степан Савельич. Не диво, что и они развели».
«Ну, плохо ж их дело! Вот ведь, подлецы, чего делают!.. Не знаю, исправник-то в городе ли? Коли не вернулся еще, так скоро вернется; увидит этот огонь, сейчас команду нарядит. Как быть? Жаль ведь мерзавцев-то: за Салтанова им всем своих голов не сносить! Снаряжай-ка, ребята, лодку…»
Вот сидим мы у огня, ухи дожидаемся – давно горячего не видали. А ночь темная, с окияну тучи надвинулись, дождик моросит, по тайге в овраге шум идет, а нам и любо… Нашему-то брату, бродяжке, темная ночь – родная матушка; на небе темнее – на сердце веселее.
Только вдруг татарин у нас уши насторожил. Чутки они, татары-то, как кошки. Прислушался и я, слышу: будто кто тихонько по реке веслом плещет. Подошел ближе к берегу, так и есть: крадется под кручей лодочка, гребцы на веслах сидят, а у рулевого на лбу кокарда поблескивает.
«Ну, говорю, ребята, пропали наши головы… Исправник!»
Вскочили все, котлы опрокинули – в тайгу!.. Не приказал я ребятам врозь разбегаться. Посмотрим, мол, что еще будет: может, гурьбой-то лучше спасемся, если их мало. Притаились за деревьями, ждем. Пристает лодка к берегу, выходят на берег пятеро. Один засмеялся и говорит:
«Что, дурачки, разбежались? Небось выйдете все – я на вас такое слово знаю. Видишь, удалые ребята, а бегают как зайцы!»
Сидел рядом со мной Дарьин за кедрой.
«Слышь, говорит, Василий? Чудное дело: голос у исправника будто знакомый».
«Молчи, говорю, что еще будет. Немного их».
Вышел тут один гребец вперед и спрашивает:
«Эй, вы, не бойтесь!.. Кого вы в здешнем остроге знаете?»
Притаили мы дух, не откликаемся.
«Да что вы это, лешие! – окликает тот опять. – Сказывайтесь, кого вы в здешнем остроге знаете, может, и нас узнаете тоже».
Отозвался я:
«Да уж знаем ли, нет ли, а только если б век вас не видать, может, и нам и вам лучше бы было. Живьем не дадимся».
Это я товарищам признак подал, чтобы готовились. Их всего пятеро – сила-то наша. Беда только, думаю, как начнут из револьвера палить – в городе-то услышат. Ну, да уж заодно пропадать. Без бою все-таки не дадимся.
Тут старик сам заговорил:
«Ребята, говорит, неужто никто из вас Самарова не знает?»
Дарьин опять меня толкнул:
«Верно! Кажись, это N-ской смотритель… А что – спрашивает громко, – вы, ваше благородие, Дарьина знавали ли когда?»
«Как, мол, не знать, – старостой у меня в N. находился. Федотом, кажись, звали».
«Я самый, ваше благородие. Выходи, ребята! Это отец наш».
Тут все мы вышли.
«Что же, мол, ваше благородие, неужто вы нас ловить выехали? Так мы на это никак не надеемся».
«Дураки вы! Пожалел я вас, олухов. Вы это что же с великого-то ума надумали – прямо против города огонь развели?»
«Обмокли, говорим, ваше благородие. Дождик».
«Дожди-ик? А еще называетесь бродяги! Чай, не размокнете. Счастлив ваш бог, что я раньше исправника вышел на крылечко трубку-то покурить. Увидел бы ваш огонь исправник, он бы вам нашел место, где обсушиться-то… Ах, ребята, ребята! Не очень вы, я вижу, востры, даром что Салтанова поддели, кан-нальи этакие! Гаси живее огонь да убирайтесь с берега туда вон, подальше, в падь. Там хоть десять костров разводи, подлецы!»
Ругается старик, а мы стоим вокруг, слушаем да посмеиваемся.
Потом перестал кричать и говорит:
«Ну, вот что: привез я вам в лодке хлеба печеного да чаю кирпича три. Не поминайте старика Самарова лихом. Да если даст бог счастливо отсюда выбраться, может, доведется кому в Тобольске побывать – поставьте там в соборе моему угоднику свечку. Мне, старику, видно, уж в здешней стороне помирать, потому что за женой дом у меня взят… Ну и стар уж… А тоже иногда про свою сторону вспоминаю. Ну а теперь прощайте. Да еще совет мой вам: разбейтесь врозь. Вас теперь сколько?»
«Одиннадцать», – говорим.
«Ну и как же вы не дураки? Ведь про вас теперь, чай, в Иркутске знают, а вы так всею партией и прете».
Сел старик в лодку, уехал, а мы ушли подальше в падь, чай вскипятили, сварили уху, раздуванили[76]76
Раздуванить – разделить.
[Закрыть] припасы и распрощались – старика-то послушались.
Мы с Дарьиным в паре пошли. Макаров пошел с черкесами. Татарин к двум бродягам присоединился; остальные трое тоже кучкой пошли. Так больше мы и не видались. Не знаю, все ли товарищи живы или помер кто. Про татарина слыхал, будто тоже сюда прислан, а верно ли – не знаю.
В ту же ночь, еще на небе не зарилось, мы с Дарьиным мимо Николаевска тихонько шмыгнули. Одна только собака на ближней заимке взлаяла.
А как стало солнце всходить, мы уж верст десяток тайгой отмахали и стали опять к дороге держать. Тут вдруг слышим – колокольчик позванивает. Прилегли мы тут за кусточком, смотрим – бежит почтовая тройка, и в телеге исправник, закрывшись шинелью, дремлет.
Перекрестились мы тут с Дарьиным: слава те господи, что вечор его в городе не было. Чай, нас ловить выезжал.
VIII
Огонь в камельке погас. В юрте стало тепло, как в нагретой печи. Льдины на окнах начали таять, и из этого можно было заключить, что на дворе мороз стал меньше, так как в сильные морозы льдина не тает и с внутренней стороны, как бы ни было тепло в юрте. Ввиду этого мы перестали подбавлять в камелек дрова и я вышел наружу, чтобы закрыть трубу.
Действительно, туман совершенно рассеялся, воздух стал прозрачнее и несколько мягче. На севере из-за гребня холмов, покрытых черною массой лесов, слабо мерцая, подымались какие-то белесоватые облака, быстро пробегающие по небу. Казалось, кто-то тихо вздыхал среди глубокой холодной ночи, и клубы пара, вылетавшие из гигантской груди, бесшумно проносились по небу от края и до края и затем тихо угасали в глубокой синеве. Это играло слабое северное сияние.
Поддавшись какому-то грустному обаянию, я стоял на крыше, задумчиво следя за слабыми переливами сполоха. Ночь развернулась во всей своей холодной и унылой красе. На небе мигали звезды, внизу снега уходили вдаль ровною пеленой, чернела гребнем тайга, синели дальние горы. И ото всей этой молчаливой, объятой холодом картины веяло в душу снисходительною грустью, – казалось, какая-то печальная нота трепещет в воздухе: «далеко, далеко!»
Когда я вернулся в избу, бродяга уже спал, и в юрте слышалось его ровное дыхание.
Я тоже лег, но долго еще не мог заснуть под впечатлением только что выслушанных рассказов. Несколько раз сон, казалось, опускался уже на мою разгоряченную голову, но в эти минуты, как будто нарочно, бродяга начинал ворочаться на лавке и тихо бредил. Его грудной голос, звучащий каким-то безотчетно-смутным ропотом, разгонял мою дремоту, и в воображении одна за другой вставали картины его одиссеи[77]77
Одиссея (по имени Одиссея, героя одноименной поэмы древнегреческого поэта Гомера) – то есть жизнь, проведенная в странствиях, сопряженных с препятствиями и приключениями.
[Закрыть]. По временам, когда я начинал забываться, мне казалось, что надо мной шумят лиственницы и кедры, что я гляжу вниз с высокого утеса и вижу белые домики кордона в овраге; а между моим глазом и белою стеною реет горный орел, тихо взмахивая свободным крылом. И мечта уносила меня все дальше и дальше от безнадежного мрака тесной юрты. Казалось, меня обдавал свободный ветер, в ушах гудел рокот океана, садилось солнце, залегали синие мороки, и моя лодка тихо качалась на волнах пролива.
Всю кровь взбудоражил во мне своими рассказами молодой бродяга. И думал о том, какое впечатление должна производить эта бродяжья эпопея, рассказанная в душной каторжной казарме, в четырех стенах крепко запертой тюрьмы. И почему, спрашивал я себя, этот рассказ запечатлевается даже в моем уме не трудностью пути, не страданиями, даже не «лютою бродяжьей тоской», а только поэзией вольной волюшки? Почему на меня пахнуло от него только призывом раздолья и простора, моря, тайги и степи? И если меня так зовет она, так манит к себе эта безвестная даль, то как неодолимо должна она призывать к себе бродягу, уже испившего из этой отравленной неутолимым желанием чаши?
Бродяга спал, а мои мысли не давали мне покоя. Я забыл о том, что привело его в тюрьму и ссылку, что пережил он, что сделал в то время, когда «перестал слушаться родителей». Я видел в нем только молодую жизнь, полную энергии и силы, страстно рвущуюся на волю…
Куда?
Да, куда?..
В смутном бормотании бродяги мне слышались неопределенные вздохи о чем-то. Я забылся под давлением неразрешимого вопроса, и над моим изголовьем витали сумрачные грезы… Село вечернее солнце. Земля лежит громадная, необъятная, грустная, вся погруженная в тяжелую думу. Нависла молчаливая тяжелая туча… Только край неба отсвечивает еще потухающими лучами зари да где-то далеко, под задумчиво синеющими горами, стоит огонек…
Что это: родное пламя давно оставленного очага или блудящий огонь над ожидающею во мраке могилой?..
Заснул я очень поздно.
IX
Когда я проснулся, было уже, вероятно, часов одиннадцать. На полу юрты, прорезавшись сквозь льдины, играли косые лучи солнца. Бродяги в юрте не было.
Мне нужно было съездить по делам в слободу, поэтому я запряг коня в маленькие саночки и выехал из своих ворот, направляясь вдоль улицы селения. День был яркий и сравнительно теплый. Мороз стоял градусов около двадцати, но… все в мире относительно, и то самое, что в других местах бывает в развал зимы, мы здесь воспринимали как первое дыхание наступившей весны. Клубы дыма, дружно поднимаясь изо всех слободских юрт, не стояли прямыми неподвижными столбами, как бывает обыкновенно в большие морозы, – их гнуло к западу, веял восточный ветер, несущий тепло с Великого океана.
Слобода почти наполовину населена ссыльными татарами, и так как в тот день у татар был праздник, то улица имела довольно оживленный вид. То и дело где-нибудь скрипели ворота и со двора выезжали дровни или выбегали рысцой верховые лошади, на которых, раскачиваясь в стороны, сидели хмельные всадники. Эти поклонники Магомета[78]78
Поклонники Магомета – последователи магометанской религии.
[Закрыть] не особенно строго блюдут запрещение корана[79]79
Коран – священная книга магометан.
[Закрыть], и потому как верховые, так и пешеходы выписывали вдоль и поперек улицы самые причудливые зигзаги. Порой какой-нибудь пугливый конек кидался в сторону слишком круто, дровни опрокидывались, лошадь мчалась вдоль улицы, а хозяин подымал целую тучу снеговой пыли собственною фигурой, волочась на вожжах. Не сдержать коня и вывалиться с дровней – это во хмелю может случиться со всяким; но для «хорошего татарина» позорно выпустить из рук вожжи, хотя бы при таких затруднительных обстоятельствах.
Но вот прямая как стрела улица приходит в какое-то особенное, суетливое оживление. Ездоки приворачивают к заборам, пешие сторонятся, татарки в красных чадрах, нарядные и пестрые, сгоняют ребят по дворам. Из юрт выбегают любопытные, и все поворачивают лица в одну сторону.
На другом конце длинной улицы появилась кучка всадников, и я узнал бега, до которых и якуты и татары большие охотники. Всадников было человек пять, они мчались как ветер, и когда кавалькада приблизилась, то впереди я различил серого конька, на котором вчера приехал Багылай. С каждым ударом копыт пространство, отделявшее его от скакавших сзади, увеличивалось. Через минуту все они промчались мимо меня как ветер.
Глаза татар сверкали возбуждением, почти злобой. Все они на скаку размахивали руками и ногами и неистово кричали, отдавшись всем корпусом назад почти на спины лошадям. Один Василий скакал «по-расейски», пригнувшись к лошадиной шее, и изредка издавал короткие свистки, звучавшие резко, как удары хлыста. Серый конек почти ложился на землю, распластываясь в воздухе, точно летящая птица.
Сочувствие улицы, как всегда в этих случаях, склонилось на сторону победителя.
– Эх, удалой молодца! – вскрикивали в восторге зрители, а старые конокрады, страстные любители дикого спорта, приседали и хлопали себя по коленам в такт ударам лошадиных копыт.
В половине улицы Василий догнал меня, возвращаясь на взмыленном коне обратно. Посрамленные соперники плелись далеко сзади.
Лицо бродяги было бледно, глаза горели от возбуждения. Я заметил, что он уже «выпивши».
– Закутил! – крикнул он мне, наклоняясь с коня, и взмахнул шапкой.
– Дело ваше… – ответил я.
– Ничего, не сердись!.. Кутить могу, а ум не пропью никогда. Между прочим, перемёты[80]80
Перемёты – здесь: два мешка, связанные вместе.
[Закрыть] мои ни под каким видом никому не отдавай! И сам просить стану – не давай! Слышишь?
– Слышу, – ответил я холодно, – только уж вы, пожалуйста, пьяным ко мне не приходите.
– Не придем, – ответил бродяга и хлестнул коня концом повода.
Конек захрапел, взвился, но, отскакав сажени три, Василий круто остановил его и опять нагнулся ко мне:
– Конек-то золото! Об заклад бился. Видели вы, как скачет? Теперича я с татар что захочу, то за него и возьму. Верно тебе говорю, потому татарин хорошего коня обожает до страсти!
– Зачем же вы его продаете? На чем будете работать?
– Продаю – подошла линия!
Он опять хлестнул коня и опять удержал его.
– Собственно потому, как встретил я здесь товарища. Все брошу. Эх, мил-лай! Посмотри, вон татарин едет, вон, на чалом жеребчике… Эй, ты, – крикнул он ехавшему сзади татарину, – Ахметка! Подъезжай-ка сюда.
Чалый жеребчик, играя головой и круто забирая ногами, подбежал к моим саночкам. Сидевший на нем татарин снял шапку и поклонился, весело ухмыляясь. Я с любопытством взглянул на него.
Плутоватая рожа Ахметки вся расцвела широкою улыбкой. Маленькие глазки весело сверкали, глядя на собеседника с плутовской фамильярностью. «Мы, брат, с тобой понимаем друг друга, – как будто говорил каждому этот взгляд. – Конечно, я плут, но ведь в том-то и дело, не правда ли, чтобы быть плутом ловким?» И собеседник, глядя на это скуластое лицо, на веселые морщинки около глаз, на оттопыренные тонкие и большие уши, как-то особенно и потешно торчавшие врозь, невольно усмехался тоже. Тогда Ахметка убеждался, что его поняли, удовлетворялся и снисходительно кивал головой в знак солидарности во взглядах.
– Товарища! – кивнул он головой на Василия. – Вместе бродяга ходил.
– А теперь-то ты где же проживаешь?.. Я что-то раньше в слободе тебя не видал.
– За бумагам пришел. Приискам ходим, спирту таскаем[81]81
Торговля водкой на приисках и вблизи приисков строго воспрещена, и потому в таежных приисках Ленской системы развился особый промысел – спиртоносов, доставляющих на прииски спирт в обмен на золото. Промысел чрезвычайно опасный, так как в наказание за это полагаются каторжные работы, и, кроме того, дикая природа сама по себе представляет много трудностей. Множество спиртоносов гибнет в тайге от лишений и казачьих пуль, а нередко и под ножами своей братии из других партий. Зато промысел этот выгоднее приисковой работы. (Примеч. В. Г. Короленко).
[Закрыть].
Я взглянул на Василия. Он потупился под моим взглядом и подобрал поводья лошади, но потом поднял опять голову и вызывающе посмотрел на меня горящими глазами. Губы его были крепко сжаты, но нижняя губа заметно вздрагивала.
– Уйду с ним в тайгу… Что на меня так смотришь? Бродяга я, бродяга!..
Последние слова он произнес уже на скаку. Через минуту только туча морозной пыли удалялась по улице вместе с частым топотом лошадиных копыт.
Через год Ахметка опять приходил в слободу «за бумагам», но Василий больше не возвращался.
1885