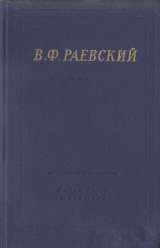
Текст книги "Полное собрание стихотворений"
Автор книги: Владимир Раевский
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
Эта характеристика относится и к стилю Раевского, и к стилю других поэтов-декабристов, например Кюхельбекера в его гражданских и «библейских» стихах начала 20-х годов. При всем том Раевский в большей степени, чем другие декабристы, поэт-рационалист, тяготеющий к поэзии дидактической. Философский и дидактический пафос приводит Раевского к фразеологии выспренней, к сложному синтаксису и архаизированной лексике, что, как уже отмечалось, не было исключением в высокой поэзии 1810-х годов. Однако шероховатость стиха, сложные периоды, длинные, затрудненные обороты речи составляют особенность поэтического стиля Раевского, стремившегося к выражению своей индивидуальности, к поискам яркого, броского слова, которое вызывало бы эмоциональный эффект, пробуждало общественное сознание. Эта борьба Раевского за обретение своего голоса была мучительной и долгой. Ученический период его творчества затянулся. Лишь впитав в себя, творчески переработав и усвоив разнообразные поэтические традиции, Раевский смог подойти к созданию стихотворений, ставших в одном ряду с лучшими достижениями революционной гражданской поэзии 1820-х годов.
4
Переход декабристской идеологии в новое качество отражается и на литературной деятельности поэтов-революционеров. Более решительная постановка многих литературных проблем – несомненное следствие обострения политической борьбы в начале 1820-х годов.
В истории декабристской литературы это время характеризуется приходом целого ряда молодых поэтов, вступивших на литературное поприще в 20-е годы или незадолго перед тем. В 1820 году заявляют о себе два крупнейших поэта декабризма: Рылеев, напечатавший в октябрьском номере «Невского зрителя» сатиру «К временщику», и Кюхельбекер, выступивший 22 марта в Вольном обществе любителей российской словесности с программным стихотворением «Поэты». Именно с этого времени Рылеев и Кюхельбекер становятся на путь революционной поэзии и высоко несут ее знамя.
Ученический, подражательный период в творчестве этих поэтов-декабристов не прошел для них бесследно. Обогащенные опытом новой поэтической школы (изображение интимного настроения человека, а также достижения в области языка и стиха), они затем обращаются к проблемам, поставленным иными литературными группами, и пытаются по-своему решать их.
Принятое декабристской поэзией в эпоху ее формирования традиционное прямолинейное противопоставление частного – общественному, личного – государственному в значительной мере усложняется или снимается в поэзии зрелого декабризма.
Борьба идет как за новое содержание поэзии (активный герой, патриотический сюжет), так и за самобытную форму ее.
Образ героя декабристской поэзии 20-х годов во многом определил ее политическую направленность, ее идейное и литературное своеобразие. От гражданской поэзии XVIII века и вольнолюбивой поэзии начала XIX века декабристы восприняли образ свободолюбивого патриота – выразителя высокой мысли, одержимого одной страстью – любовью к родине или ненавистью к тирании. Такой образ – цельный и прямолинейный – характерен и для гражданских произведений раннего декабризма. Со временем образ этот меняется, делается постепенно все многограннее и конкретнее. Об этом, в частности, красноречиво свидетельствует творческий путь Рылеева. Поначалу в его думах герои даются как люди целеустремленные, страстные, одержимые одним чувством. Рогнеда одержима чувством мести, Дмитрий Донской и Иван Сусанин – любовью к родине, Волынский – свободолюбием, Наталья Долгорукова – преданностью мужу.
То же характерно и для отрицательных образов. Святополк, Глинский, Дмитрий Самозванец даны как рабы страстей, что характерно вообще для декабристской трактовки отрицательного героя. Однако в «Думах» Рылеева, созданных в основном в 1821–1822 годах, как и в «Опытах священной поэзии» Глинки, намечается образ героя противоречивого, сложного, характерного для романтической поэзии. Это Курбский, Борис Годунов, Мазепа.
Положительный герой декабристской поэзии – чаще всего идеализированный человек прошлого (исторические и мифологические персонажи) или идеализированный образ современника. В последнем случае он тоже изображается как высокий герой, освобожденный от частных подробностей. Таковы Мордвинов и Ермолов у Рылеева, Ермолов у Кюхельбекера и т. д. Часто таким высоким героем является образ поэта. Катенин, например, видел такого героя в лице Гомера, Софокла и легендарных певцов древности. У Рылеева это Баян и особенно Державин, а также Байрон. Высокий герой Кюхельбекера, как правило, – всегда поэт. Декабристские представления о роли поэзии, о назначении поэта, об искусстве «высоком и прекрасном», представления в равной степени романтические и просветительские, находят яркое отражение в созданных ими образах.
Поэт в стихотворениях декабристов выступает и как образ автобиографический, как лирический герой произведения, выражающий чувства и мысли автора. Этот образ также претерпевает заметную эволюцию в декабристской лирике 20-х годов. Эволюция эта очень интересна.
Лирика сентиментализма и раннего романтизма по преимуществу изображала не комплекс чувств и настроений, а отдельные чувства и настроения. Это или горечь разлуки, или страдание от измены возлюбленной, или радость любви взаимной, или тоска по отцветающей молодости и т. п. Стихотворение (элегия, послание, романс) описывает одно чувство и настроение, которое дается в традиционном плане (сходные образы, терминология, набор традиционных поэтических декораций для описания каждого чувства).
В лирике зрелого романтизма возникает изображение человека как неповторимой индивидуальности, как единство различных, часто противоречивых, чувств и страстей. В этом же направлении развивается и поэзия декабристов.
Герой в их элегиях, посланиях (жанрах не гражданских, посвященных описанию частных, интимных переживаний человека) обогащается чертами гражданского, общественного деятеля. На первых порах происходит соединение каких-то черт общественного и частного, причем соединение пока что не вполне органичное. В работе Л. Я. Гинзбург «О проблеме народности и личности в поэзии декабристов» говорится: «В тревожной, напряженной обстановке, в атмосфере противоречий, неизбежно присущих сознанию дворянских революционеров, оторванных от народа, возникают черты по-новому понятого современного героя. Расторгнутые рационализмом сферы деятельности человека (общественный человек и частный человек) тяготеют теперь к слиянию в единство – еще метафизическое – героической, „избранной“ личности революционного романтизма»[27]27
Сб. «О русском реализме XIX в. и вопросах народности в литературе», М. – Л., 1960, с. 74.
[Закрыть].Это метафизическое слияние происходит уже в начале 20-х годов и проявляется в «Думах» Рылеева. Путь, которым шла декабристская поэзия к этому своеобразному синтезу, любопытен и показателен.
Индивидуализированный лирический герой возникает у поэтов гражданского романтизма раньше всего в камерных интимно-лирических жанрах, которым они не придавали существенного значения, поскольку по-прежнему видели свою цель в создании поэзии агитирующей, воспитывающей, поучающей. Показательно, что стихи, отражающие свои собственные переживания и сомнения, поэты-декабристы часто вовсе не предназначали для печати.
Стихи эти – род дневниковых записей в виде размышлений, писем, беглых зарисовок. А между тем именно этот путь, побочный, как считали декабристы, оказался чрезвычайно плодотворным для развития русской лирики. Не достигнув на этой дороге больших творческих побед, декабристская поэзия тем не менее отразила одну из важнейших закономерностей поэтического движения 1820-х годов. Интересно в этом плане проследить эволюцию образа героя в лирике крупнейших декабристских поэтов.
Так, у Кюхельбекера герой в ранних стихах условен и традиционен. В элегиях 1817–1820 годов – это унылый мечтатель, стремящийся к небесной «отчизне», оплакивающий свои жизненные разочарования и увядшую молодость («Осень», «Элегия», «Отчизна», «Ночь», «Пробуждение», «Седой волос»[28]28
Последнее стихотворение не опубликовано; оно хранится в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР (фонд В. К. Кюхельбекера).
[Закрыть] и другие). Примерно с 1820 по 1821 год в лирике Кюхельбекера начинает преобладать иной герой – восторженный юноша, пламенный поклонник свободы, мечтающий сражаться за нее и даже погибнуть. Таким представляется он в «Греческой песне», «К Ахатесу» и в некоторых других стихотворениях, написанных за границей в 1821 году. Образ высокого мужественного героя создает Кюхельбекер в посланиях Ермолову и Грибоедову, а также в трагедии «Аргивяне», над первым вариантом которой работает в 1821–1822 годах.
Понятия «поэт» и «революционер» у Кюхельбекера отождествляются. Таков образ Байрона в его оде, написанной по случаю смерти британского поэта. При некоторых формальных просчетах (стремление выдержать все приемы канонической оды, что в 1824 году было уже анахронизмом) ода «Смерть Байрона» – яркое произведение декабристской гражданской поэзии, воссоздающее образ высокого положительного героя.
Что касается лирического образа, отражающего мысли и настроения самого автора, то в стихах Кюхельбекера 1822–1824 годов он отделяется от идеального героя и в какой-то степени противопоставляется ему.
Жизненные испытания, разочарования, уже не вымышленные, как в элегиях 1817–1819 годов, а подлинные, накладывают отпечаток на образ лирического героя, которого тяготят вечные скитания, отсутствие пристанища и покоя. Его омрачают сомнения в своих силах, в значительности собственного поэтического дарования. Такого рода настроения звучат в послании Грибоедову, в «Пророчестве», «К Вяземскому».
Как известно, Кюхельбекер выступил против унылой элегии, противопоставив ей оду как жанр, способный вместить темы государственного, общенародного значения. Однако в собственной поэтической практике он от элегии не отказался. В 1823–1824 годах им написан целый лирический цикл, тематически связанный с пребыванием в имении Закуп, Смоленской губернии, у сестры.
Стихотворения эти во многом продолжают элегическую традицию. Здесь мы находим изображение природы, камерного мира, интимных чувств героя. Однако они отличны от элегических настроений раннего Кюхельбекера своей внутренней сложностью. Уютный быт дворянской усадьбы, который описывает поэт, – только временное прибежище для него. За его порогом – огромный неустроенный мир, и в этот мир должен вернуться герой Кюхельбекера, вернуться добровольно. Он не может быть здесь счастлив, у него иные мерки счастья, чем у обитателей Закупа. Это, несомненно, декабристская тема, нашедшая отклик в таких стихах Раевского, как «Пришлец! здесь родина твоя…».
В послании «Криштофовичу» Кюхельбекер противопоставляет себя своему успокоившемуся от жизненных тревог приятелю-домоседу (вспомним, что подобные мотивы отражены в одном из вариантов «Послания Батенькову» Раевского):
Будь счастлив, друг, в своем приюте тихом,
В объятиях подруги молодой!
А я – прости! дорога предо мной:
Не помяни меня, Евмений, лихом!
Ты в пристани, ты можешь отдохнуть
В семье своей от жизненной работы;
Прошли твои печали и заботы,
Но мой еще суров и мрачен путь!
Эта бесприютность и смятенность героя (черты, несомненно, автобиографические) подчеркнуты в его закупских элегиях.
Лирический герой Кюхельбекера, похожий на героя Раевского своей неуспокоенностью, в то же время отличен от него. Певец Кюхельбекера – человек мятущийся, ищущий места в жизни, это скиталец прежде всего. У Кюхельбекера больше, чем у других поэтов-декабристов, заметно внимание к внутренней противоречивости человеческого характера, к дисгармоничности современного человека[29]29
Черты рефлексии, скептицизма как нечто типичное для человека того времени изображает Кюхельбекер в незаконченном, но чрезвычайно любопытном наброске 1825 года «Меламегас». – См.: «Русская литература», 1963, № 4, с. 151–154.
[Закрыть].Так корректируется созданный ранее гражданской поэзией прямолинейный образ героя, лишенный противоречий и психологической конкретности.
Более цельный образ революционного героя мы находим в лирике Рылеева. Герой его поэзии – гражданин, в лирических жанрах – поэт-гражданин. Образ этот развит в посвящении «Войнаровского» Бестужеву, в послании Бестужеву («Хоть Пушкин суд мне строгий произнес…»), в элегии «Ты посетить, мой друг, желала…» и особенно в «Гражданине».
Основная тема стихотворения – противопоставление Гражданина «изнеженным», «переродившимся славянам», влачащим «свой век младой» в «постыдной праздности». Эта тема уже намечена в «Отрывках из „Фарсалии“» Ф. Глинки, она звучит в тюремных стихах Раевского и в полемических статьях Кюхельбекера. Эта тема в «Гражданине» развита и продолжена.
В «Гражданине» нет мотивов жертвенности, обреченности, свойственных некоторым другим произведениям Рылеева. Исторический оптимизм, вера в то, что все будет так, как должно быть, характеризуют эту поэтическую прокламацию.
Образ целеустремленного и высокого героя, нарисованного с проникновенным лиризмом, не отменяется, а уточняется в интимных элегиях Рылеева, связанных с любовной темой. Усложняя изображение человеческого чувства, показывая противоречие в душе героя, Рылеев, несомненно, исходит из своего жизненного опыта, из пережитого и перечувствованного в действительности.
Так, совершенно новое освещение получила тема любовного страдания в элегии «Ты посетить, мой друг, желала…». Мотивировка отказа от счастья, от любви говорит о большой смелости Рылеева-лирика, тесно связывающего интимные и гражданские, политические темы. Знаменитые слова:
Любовь никак нейдет на ум:
Увы! моя отчизна страждет,
Душа в волненьи тяжких дум
Теперь одной свободы жаждет —
неоднократно цитировались в подтверждение ригоризма героя, который отвергает все личное ради достижения своей высокой цели. Думается, однако, что элегия отражает более сложное состояние человека.
Во-первых, героиня далеко не безразлична герою. Он говорит о ней с нежностью и благодарностью. Ее любовь могла бы принести счастье и успокоение. Но герой отрекается от нее. Причина – «несходство характеров» – мотив, широко распространенный в позднейшей лирике, но совершенно неожиданный в элегии 20-х годов:
Полна душа твоя всегда
Одних прекрасных ощущений,
Ты бурных чувств моих чужда,
Чужда моих суровых мнений.
Прощаешь ты врагам своим,
Я не знаком с сим чувством нежным,
И оскорбителям моим
Плачу отмщеньем неизбежным.
Причина расхождения – не измена возлюбленной, не охлаждение к ней героя, а различие их взглядов на мир, то, что женщина «чужда» устремлениям героя. Вероятно, общность целей и интересов могла бы стать залогом прочной и счастливой любви. Гражданину Рылеева свойственно ожидать и от любимой женщины гражданских чувств.
Стремление к психологизму дает себя знать и в творчестве такого поэта, как Ф. Глинка, несмотря на то, что герой его лирики по-прежнему остался фигурой условной, мифической. Речь идет о библейских стихах Ф. Глинки начала 20-х годов – «Опытах священной, поэзии», с их образом пророка как лирического героя всего цикла. Показательно, что образ этот дан в различных поворотах: грешник, мучимый сознанием своей слабости, несовершенства и одиночества, человек, начинающий постигать истину, обретший надежду, и, наконец, суровый библейский праведник[30]30
Для Глинки, как и для других его современников (Кюхельбекера, Пушкина), пророк явился идеальным поэтом. В некоторых стихотворениях Глинка – прямой предшественник Пушкина:
Воздвигнись, мой пророк.Ты будешь божьими устами!Иди, разоблачай порокВ толпах, смущенных суетами:Звучи в веках живой глагол!(«Пророк»)
[Закрыть], образ которого Глинкой несколько переосмыслен. «Муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста», превращается в борца, национального героя – «небесного гражданина»: «Он будет памятен отчизне, Благословит его народ…»
Изображение сложности и противоречивости душевного состояния героя показывает, что психологизм, рефлексия, свойственные позднему романтизму, проникают и в поэзию декабристов. И все-таки у декабристов акцент делается не на изображении противоречий, из которых нет выхода, а на показе того пути, по которому следует идти. Внутренний разлад, борьба с самим собой, слабости и сомнения – это, по их мнению, зло, которое не только нужно, но и можно преодолеть. Здесь и отголоски наивных рационалистических представлений прошлого о добре и зле как категориях абсолютных и не смешивающихся, здесь и исторический оптимизм, связанный с эпохой возникающей революционной ситуации, здесь и романтическое сознание своей избранности и глубокой правоты. Во всяком случае, поэзии декабристов чуждо самоцельное изображение сложной человеческой натуры, они никогда не могли бы присоединиться к словам Лермонтова: «Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить – это уж бог знает!» (предисловие к «Герою нашего времени»). Нет, они были убеждены, что способы исцеления будут открыты и проведены в жизнь. И хотя они вносят в поэзию свои страдания, размышления и сомнения, хотя герои их часто не просто целеустремленные люди «без страха и упрека», а образы, осложненные чертами реальных людей, – их поэзия непременно подводила итог, давала оценки, учила и направляла. Часто осознавая обреченность дела, которому они служили, декабристы видели великий смысл в той великой жертве, которую они должны принести родине и народу, и «радостно благословляли» «свой жребий».
Если в поэзии Рылеева и Кюхельбекера индивидуализация в изображении героической личности достигалась, как мы видели, в основном посредством психологического усложнения, то другой, хотя и родственный способ конкретизации героя определился в стихах Раевского. Это путь прямого отражения в лирике своей биографии, непосредственного отклика на события и факты собственной жизни. Надо сказать, что из всех поэтов-декабристов именно у Раевского в те годы было больше всего оснований для подобных художественных откровений.
В то время как свершение героического подвига для Рылеева, Кюхельбекера, А. Бестужева и других декабристов было насущной жизненной потребностью, еще не нашедшей практического применения, у Раевского она в значительной мере реализовалась. Его революционно-пропагандистская работа в армии, арест, следствие, тюремное заключение, борьба с опаснейшим врагом, прибегавшим к угрозам, шантажу, лжесвидетельствам, – все это уже сообщило его жизни героический характер. Она приобрела высокий смысл и эстетическую значимость.
Тема высокого подвижничества, целеустремленности, выполнения своего долга, тяжелого, но неизбежного, нашла последовательное выражение в лирике Раевского начала 20-х годов. От условного героя-эпикурейца и героя-мечтателя Раевский идет к изображению человека с высокими интересами, интеллектуально развитого, не находящего в силу этого покоя и удовлетворения в жизни. Личное и общественное приходит в нем к слиянию. Человек этот способен одновременно переживать и кончину друга, и скорбь при виде существующих общественных «неустройств» («Элегия I»). Насыщение образа лирического героя реальными автобиографическими чертами приводит к его конкретизации, к большей убедительности и правдивости. По этому пути Раевский идет еще дальше в своих стихах, написанных в 1822–1824 годах в Тираспольской крепости (послание «К друзьям в Кишинев», «Певец в темнице»).
Примечательно, что в его стихотворениях появляется множество конкретных автобиографических деталей – рассказ об аресте и следствии, такие подробности, как упоминание о двух подставных свидетелях, пересказ собственных рассуждений и ответов на вопросы Военно-судной комиссии. Вместе с тем Раевский дает здесь и обобщенный образ борца, узника, который не покорился судьям, который мужественно продолжает свое дело.
Скажите от меня О<рлов>у,
Что я судьбу мою сурову
С терпеньем мраморным сносил.
Нигде себе не изменил
И в дни убийственный жизни
Немрачен был, как день весной,
И даже мыслью и душой
Отвергнул право укоризны.
(«К друзьям в Кишинев»)
Эта самохарактеристика удивительно совпадает с характеристикой Раевского, данной Ф. П. Радченко и приводившейся выше. Упоминание Орлова также подчеркивает автобиографизм этих строк. Так конкретизирует Раевский образ своего героя, отходя от общих мест и традиционных положений, к которым он прибегал в более ранних стихах. Целеустремленность, суровость – главные черты героя Раевского, и мы не можем сомневаться в искренности и правдивости его, когда он говорит о себе:
Я неги не любил душой,
Не знал любви, как страсти нежной,
Не знал друзей, и разум мой
Встревожен мыслию мятежной.
Забавы детства презирал,
И я летел к известной цели,
Мечты мечтами истреблял,
Не зная мира и веселий.
(«Певец в темнице»)
И хотя эти строки не согласуются с признаниями ранних стихов Раевского, в которых воспевались и «нега», и «нежная страсть», и «дружба», трудно усомниться в их программном значении для поэта Раевского. Он переосмысляет здесь свой взгляд на счастье, провозглашает свой идеал героя и поэта. Он требует отказаться от легкой поэзии, эпикурейских тем, «оставить другим певцам любовь». Этот известный призыв, обращенный к Пушкину, перекликается с прозаическим отрывком Раевского «Нет, не одно честолюбие увлекает меня…», где сказано: «Любовь есть страсть минутная, влекущая за собой раскаяние. Но патриотизм, сей светильник жизни гражданской, сия таинственная сила, управляет мною. Могу ли видеть порабощение народа, моих сограждан, печальные ризы сынов отечества, всеобщий ропот, боязнь и слезы слабых, бурное негодование и ожесточение сильных – и не сострадать им?»[31]31
В. Раевский, Стихотворения, «Б-ка поэта» (М. с.), Л., 1952, с. 223.
[Закрыть]
Эта тема, характерная для декабристов, стала, как мы помним, центральной в элегии Рылеева «Ты посетить, мой друг, желала…»
Тюремные стихотворения Раевского и прежде всего два послания 1822 года являются в известном смысле итогом его поэтического творчества.
Тема наслаждения, радостей и утех, воспевание «дев, как май прекрасных», «вин Вакха», «сладкой неги», «душистой розы», «лазоревых небес» и т. п. присутствует в значительной степени в тюремных стихах. Однако темы эти пересмотрены. Вся эта праздничная сторона жизни воспринимается теперь как нечто эфемерное, противостоящее реальной, подлинной жизни. В послании «Друзьям в Кишинев» собственная трагическая судьба рассматривается еще как обидное и противоестественное исключение. Поэт надеется, что участь его друзей не будет омрачена, он только призывает их к деятельности, к борьбе. Однако в стихотворении «Певец в темнице» Раевский уже говорит о неизбежности и известной закономерности страданий в этом несправедливом мире. Все радости и утехи прекрасны, но они не могут дать человеку счастья, так как подлинная жизнь – это цепь мучений и несправедливостей. Единственное, что может принести счастье и наполнить жизнь высоким значительным содержанием, – это борьба за справедливость. Сам Раевский вступил на этот путь, и это дает ему право поучать своих друзей. Здесь развивается та агитационная тема декабристской поэзии, которая нашла наиболее яркое и законченное выражение в «Гражданине» Рылеева.
Увлечение национальным, народным, повышенный интерес к отечественной истории заметно сказывается в декабристской литературе уже в начале 20-х годов. Это явление, несомненно, находится в связи с отказом декабристских писателей от условного, абстрактного изображения русской действительности. Раевский – один из первых поэтов декабристского лагеря, отбросивших в своих стихах римские и прочие иноземные декорации, – был в числе убежденных ревнителей национального своеобразия и народности поэзии. По свидетельству И. П. Липранди, Раевский «утверждал, что в русской поэзии не должно приводить имена ни из мифологии, ни исторических лиц древней Греции и Рима, что у нас и то и другое – свое, и т. п.»[32]32
«Русский архив», 1866, вып. 9, стлб. 1255–1256.
[Закрыть] Судя по «Воспоминаниям» того же Липранди, Пушкин обратил внимание на реализацию этих положений Раевского в его «Певце в темнице». «Начав читать „Певца в темнице“, он <Пушкин> заметил, что Раевский упорно хочет брать все из русской истории, что и тут он нашел возможность упоминать о Новгороде и Пскове, о Марфе Посаднице и Вадиме…» [33]33
«Русский архив», 1866, вып. 9, стлб. 1255–1256. Однако в своих ранних «анакреонтических» стихотворениях сам Раевский злоупотреблял именами из античной мифологии: «нектар благовонный», «резвые хариты», «любовь Киприды», «юная Геба», «Вакх вожатый», «брег Коциты», «Вакх пред нами», и т. п. И все же И. П. Липранди был прав. В годы знакомства и дружбы с Пушкиным (1820–1822) Раевский действительно старался в поэзию брать все «свое».
[Закрыть]
Конечно, особый интерес для Раевского, как и для других декабристов, представляли те эпизоды отечественной истории, в которых ярко проявлялась приверженность русских людей к свободе и народовластию. В послании «К друзьям в Кишинев» Раевский напоминает о «веке полночной славы», о «священных временах» Новгорода и Пскова, «когда гремело наше вече». Новгородская тема, возникшая еще в литературе XVIII века, была, как известно, широко использована декабристами. Причем Раевский – один из первых декабристов, воскресивших ее. Он упоминает Марфу Борецкую и Вадима, говорит о свободном вече, которое «сокрушало… царей кичливых рамена». Если в стихах Раевского, как и ранее в парижской лекции Кюхельбекера (1821), новгородская тема поставлена, но подробно не раскрыта, то в последующем творчестве революционных и вольнолюбивых поэтов тема эта подвергается значительно более обстоятельной разработке.
Замысел трагедии «Вадим» Пушкина[34]34
Возможно, что обращение самого Пушкина к новгородской теме, замысел трагедии «Вадим», который поэт обдумывал именно в этот период, произошло не без влияния Раевского. Не только самый материал, но и трактовка его в вольнолюбивом, типично декабристском духе говорит о связи этого замысла с поэзией гражданского романтизма.
[Закрыть], думы Рылеева «Вадим» и «Марфа Посадница», повесть Кюхельбекера «Адо», стихотворение В. Н. Григорьева «Берега Волхова», стихотворения А. И. Одоевского, написанные уже после 1825 года, – во всех этих произведениях история вольного Новгорода и Пскова трактуется как прекрасные и великие страницы русской истории. Обращаясь к ним, Раевский приходит к печальным размышлениям о ходе русской истории, о судьбе русского народа, который он называет «немым», «дремлющим в тайном страхе» («Певец в темнице»). В другом месте Раевский говорит о «народном сне» и «дремлющей свободе». Образ спящего народа необычайно выразителен. Он – свидетельство горьких мыслей декабриста о настоящем и в то же время надежды на будущее. Народ проснется. Эта мысль заканчивает оба тюремных послания Раевского. Он видит новую зарю на востоке, он слышит «валкальный звон», «поколебавший подземные своды» и пробудивший народ. Речь здесь идет о начавшемся освободительном движении в Греции, получившем огромный общественный резонанс во многих европейских странах. В России тема борющейся Греции проходит через всю гражданскую поэзию начала 20-х годов и особенно подробно разрабатывается декабристами. Вольнолюбивые идеи здесь находят непосредственную связь с историческими и этнографическими интересами молодых романтиков. Раевский ставит эту тему только в плане политическом. Он видит в начавшемся движении противодействие страшным силам европейской реакции и говорит о долге, зовущем «под тень священную знамен, на поле славы боевое». Призывы участвовать в освободительной борьбе характерны и для стихотворений других декабристов (Кюхельбекера, Рылеева), связанных с греческой темой. Но Раевский, при всем своем оптимизме, вообще характерном для декабристов до 14 декабря 1825 года, все-таки прекрасно понимает и силу самовластья, и трудности борьбы с ним. Его собственная судьба – яркий тому пример.
В посланиях из Тираспольской крепости говорил человек с вполне сложившимся политическим мировоззрением, декабрист-республиканец, твердо веривший в успех революционного дела, хотя и понимавший, что народ к этому делу еще не подготовлен. Раевский не просто разоблачал существующий строй, но призывал к прямому действию, к продолжению борьбы, он выдвигал революционно-политические идеалы и указывал средства для достижения их. В то же время поэт находил суровые клеймящие слова для обличения деспотизма и крепостничества. Династию царей Раевский называет «бичей кровавый род».
Послания Раевского произвели большое впечатление на Пушкина. И. П. Липранди рассказывает в «Воспоминаниях» о чтении Пушкиным стихов Раевского и его оценке отдельных мест и образов. Пушкин проявил особый интерес к изображению народа и тирана у Раевского. «Как это хорошо, как это сильно, – говорил Пушкин, по словам Липранди, – мысль эта мне никогда не встречалась, она давно вертелась в моей голове; но это не в моем роде, это в роде Тираспольской крепости, а хорошо». На вопрос Липранди, что ему так понравилось, Пушкин, окончив чтение, повторил строки:
Как истукан, немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе:
Над ним бичей кровавый род
И мысль и взор казнит на плахе.
«Он повторил последнюю строчку, присовокупив: – Никто не изображал так сильно тирана:
„И мысль и взор казнит на плахе“.
Хорошо выражение и о династии: „Бичей кровавый род“, – присовокупил он и прибавил, вздохнув: „После таких стихов не скоро же увидим этого спартанца“»[35]35
Цит. по статье М. А. Цявловского «Стихотворения Пушкина, обращенные к В. Ф. Раевскому». – «Временник пушкинской комиссии», т. 6, М. – Л., 1941, с. 46–47.
[Закрыть].
Одновременно с восторженным отношением к стихам, обличающим тиранию, Пушкин высказал много критических замечаний, отметив, что наряду с отдельными смелыми образами в целом «стихи нехороши, а притом это не ново» (речь шла о темах любовных, эпикурейских в посланиях Раевского). Пушкин видел, что Раевский находится в поисках нового, «гражданского» стиля, – он добивается энергии стиха, вводя смелые и даже рискованные образы, подчас не решаясь еще порвать с устаревшими традициями и штампами. Оттого он и оказался более удачливым в отрывках, в отдельных поэтических речениях, чем в целых стихотворениях. Найдя себя в политической лирике, Раевский не смог развернуть до конца своего дарования. Стихи его интересны как опыт предрылеевской декабристской поэзии.
Пушкин очень удачно назвал Раевского спартанцем; спартанцем Раевский был также и в стихах, которые поражают своей суровой мужественной интонацией убежденного и смелого бойца.
Тираспольские послания Раевского через Пушкина стали известны и другим кишиневским друзьям поэта-узника. Пушкин, например, читал «Певца в темнице» поручику Таушеву, который состоял в кишиневской тайной организации и был предан Раевскому. Интересное свидетельство о широкой распространенности тюремных стихов Раевского находим мы в рукописной тетради Кюхельбекера 1824–1825 годов. Кюхельбекер, живший в эти годы в Москве и Петербурге, наряду с другими выписками из интересовавших его сочинений переписывает близкие ему по духу стихи[36]36
Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (фонд В. К. Кюхельбекера).
[Закрыть]:
Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь,
Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный взор
Влекут как явный заговор,
Как преступление на плаху
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шепотом роптать!
Пушкин, размышлявший над теми же вопросами, которые поставлены в посланиях Раевского, решил ответить поэту-узнику. Первый набросок ответа обрывается начальными строками: «Недаром ты ко мне воззвал Из глубины глухой темницы». Затем Пушкин сделал следующий набросок: «Не тем горжусь я, мой певец…». Основная тема его – размышление о назначении поэта, о его подлинном призвании. Но и этот набросок остался незавершенным. Наконец, Пушкин пишет третий по счету набросок: «Ты прав, мой друг, напрасно я презрел…». Здесь Пушкин как бы отвечает на вопросы Раевского, поставленные в «Певце в темнице» («Ты знал ли радость?..», «Ты знал ли дружества привет?..» и т. д.). Пушкин говорит, что он, в отличие от героя Раевского, «знал» «дружбу», «любовь», «труд и вдохновенье», «досуг», «клики радости» и «лепетанье славы шумной». Однако познав все это, герой пушкинского стихотворения приобрел печальный жизненный опыт и понял, что все это не дает счастья. К тому же выводу, как мы помним, был близок и Раевский, однако если поэт-декабрист полон оптимистических надежд и видит смысл жизни в борьбе, то Пушкин приходит к иному выводу, не разделяя иллюзий Раевского. Пушкин с горечью признается:








