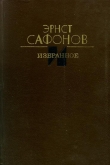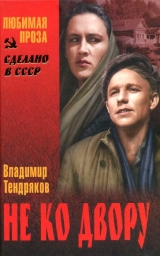
Текст книги "Не ко двору (сборник)"
Автор книги: Владимир Тендряков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Старуха оставалась неподвижной – пальто, наброшенное на костлявые плечи поверх ночной рубахи, босые, уродливые, с узловатыми венами ноги, жидкие, тускло-серые космы, длинное, с жесткими морщинами, деревянное лицо – непробиваема, по-прежнему недоброжелательна.
– Евдокия-а! Колька же!.. Отца!.. Из ружья!..
Легкое движение вскосмаченной головой – мол, понимаю! – скользящий взгляд на двустволку, затем осторожно, чтоб не свалилось пальто, старуха освободила руку, перекрестившись в пространство, неспешно, почти торжественно:
– Царствие ему небесное. Достукался-таки Рафашка!
Всем телом женщина дернулась, вцепилась обеими руками себе в горло, забилась на полу:
– В-вы!.. Что в-вы за люди?! Кам-ни-и! Кам-ни!! Он никого не жалел, и ты… Ты – тоже!.. Ты же мать ему – слезу хоть урони!.. Камни-и-и бесчувственные!!
Старуха хмуро глядела, как бьется на полу рядом с брошенным ружьем женщина.
– Страш-но-о!! Страш-но-о среди вас!!
– Ну хватя, весь наш курятник переполошишь.
Тяжело ступая босыми искривленными ногами по неровным, массивным, оставшимся с прошлого века половицам, старуха прошла к столу, налила из чайника воды в кружку, поднесла к женщине: – Пей, не воротись… Криком-то не спасешься.
Женщина, стуча зубами о кружку, глотнула раз-другой – обмякла, тоскливо уставилась сквозь стену, обклеенную пожелтевшими, покоробленными обоями.
– Дивишься – слезы не лью. Оне у меня все раньше пролиты – ни слезинки не осталось.
Минут через пятнадцать старуха была одета – длинное лицо упрятано в толстую шаль, пальто перепоясано ремешком.
– Встань с пола-то. И сырое с себя сыми, в кровать ляг, – приказала она. – А я пойду… прощусь.
По пути к двери она задержалась у ружья:
– Чего ты с этим-то прибегла?
Женщина тоскливо смотрела сквозь стену и не отвечала.
– Ружье-то, эй, спрашиваю, чего притащила?
Вяло пошевелившись, женщина выдавила:
– У Кольки выхватила… да поздно.
Старуха о чем-то задумалась над ружьем, тряхнула укутанной головой, отогнала мысли.
– Кольку жаль! – с сердцем сказала она и решительно вышла.
5
Он считал: педагог в нем родился одной ночью в разбитом Сталинграде.
Кажется, то была первая тихая ночь. Еще вчера с сухим треском лопались мины среди развалин, путаная канитель пулеметных длинных и лающе-коротких автоматных очередей означала линию фронта, и дышали «катюши», покрывая глухими раскатами изувеченную землю, и на небе расцветали ракеты, в их свете поеживались причудливые остатки домов с провалами окон. Вчера была здесь война, вчера она и кончилась. Поднялась тихая луна над руинами, над заснеженными пепелищами. И никак не верится, что уже нет нужды пугаться тишины, затопившей до краев многострадальный город. Это не затишье, здесь наступил мир – глубокий, глубокий тыл, пушки гремят где-то за сотни километров отсюда. И хотя по улицам средь пепелищ валяются трупы, но то вчерашние, новых уже не прибавится.
И в эту-то ночь неподалеку от подвала бывшей одиннадцатой школы, где размещался их штаб полка, занялся пожар. Вчера никто бы не обратил на него внимания – бои идут, земля горит, – но сейчас пожар нарушал мир, все кинулись к нему.
Горел немецкий госпиталь, четырехэтажное деревяное здание, до сих пор счастливо обойденное войной. Горел вместе с ранеными. Ослепительно золотые, трепещущие стены обжигали на расстоянии, теснили толпу. Она, обмершая, завороженная, подавленно наблюдала, как внутри, за окнами, в раскаленных недрах, время от времени что-то обваливается – темные куски. И каждый раз, как это случалось, по толпе из конца в конец проносился вздох горестный и сдавленный – то падали вместе с койками спекшиеся в огне немецкие раненые из лежачих, что не могли подняться и выбраться.
А многие успели выбраться. Сейчас они затерялись среди русских солдат, вместе с ними, обмерев, наблюдали, вместе испускали единый вздох.
Вплотную, плечо в плечо с Аркадием Кирилловичем стоял немец, голова и половина лица скрыты бинтом, торчит лишь острый нос и тихо тлеет обреченным ужасом единственный глаз. Он в болотного цвета, тесном хлопчатобумажном мундирчике с узкими погончиками, мелко дрожит от страха и холода. Его дрожь невольно передается Аркадию Кирилловичу, упрятанному в теплый полушубок.
Он оторвался от сияющего пожарища, стал оглядываться – кирпично раскаленные лица, русские и немецкие вперемешку. У всех одинаково тлеющие глаза, как глаз соседа, одинаковое выражение боли и покорной беспомощности. Свершающаяся на виду трагедия ни для кого не была чужой.
В эти секунды Аркадий Кириллович понял простое: ни вывихи истории, ни ожесточенные идеи сбесившихся маньяков, ни эпидемические безумия – ничто не вытравит в людях человеческое. Его можно подавить, но не уничтожить. Под спудом в каждом нерастраченные запасы доброты – открыть их, дать им вырваться наружу! И тогда… Вывихи истории – народы, убивающие друг друга, реки крови, сметенные с лица земли города, растоптанные поля… Но историю-то творит не господь бог – ее делают люди! Выпустить на свободу из человека человеческое – не значит ли обуздать беспощадную историю?
Жарко золотились стены дома, багровый дым нес искры к холодной луне, окутывал ее. Толпа в бессилье наблюдала. И дрожал возле плеча немец с обмотанной головой, с тлеющим из-под бинтов единственным глазом. Аркадий Кириллович стянул в тесноте с себя полушубок, накинул на плечи дрожащего немца, стал выталкивать его из толпы:
– Шнель! Шнель!
Немец без удивления, равнодушно принял опеку, послушно трусил всю дорогу до штабного подвала.
Аркадий Кириллович не доглядел трагедию до конца, позже узнал – какой-то немец на костылях с криком кинулся из толпы в огонь, его бросился спасать солдат-татарин. Горящие стены обрушились, похоронили обоих.
В каждом нерастраченные запасы человечности. Историю делают люди.
Бывший гвардии капитан стал учителем и одновременно кончал заочно пединститут.
Школьные программы ему внушали: ученик должен знать биографии писателей, их лучшие произведения, идейную направленность, должен уметь по заданному трафарету определять литературные образы – народен, реакционен, из числа лишних людей… И кто на кого влиял, кто о ком как отзывался, кто представитель романтизма, а кто критического реализма… Одного не учитывали программы – литература-то показывает человеческие отношения, где благородство сталкивается с подлостью, честность со лживостью, великодушие с коварством, нравственность противостоит безнравственности. Отобранный и сохраненный опыт человеческого общежития!
Ты возмутился хозяйкой Ваньки Жукова, жалующегося в письме к деду: «Взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать». Но не странно ли – ты совсем не возмущаешься, когда знакомый старшеклассник просто так, походя, ради удовольствия отпускает затрещину пробегающему мимо малышу. Сильный на твоих глазах обижает слабого потому только, что он сильный. Достойный ли ты человек, если относишься к этому равнодушно?
Вы прочитали роман Толстого «Воскресение», давайте пофантазируем: что, если бы Нехлюдов от внутренней трусости или стыда отвернулся от Кати Масловой? Как бы он жил дальше? Женился? Обзавелся семьей? Был бы спокоен?..
Литература помогла Аркадию Кирилловичу завязать в школе сложное соперничество за достоинство: кто чувствовал в себе силу, выискивал случай кинуться на защиту слабого; слабый гордился собой, если мог сказать нелестную правду в глаза сильному; невиновный сносил наказание за чужие грехи молча, но горе тому, кто трусливо допустит, чтоб за его вину наказали другого…
Во всем этом, да, было много игры и много показного. Но можно ли сомневаться, что со временем у детей показное благородство не станет привычкой, а игра – жизнью? В последние годы даже инспектора гороно публично отмечали – ученик сто двадцать пятой школы своим поведением завидно отличался от учеников других школ.
Аркадий Кириллович верил, что от него идут в большую жизнь духовно красивые люди, не способные ни сами обижать других, ни мириться с обидчиками, не терпящие подлости и обмана, сознающие свое моральное превосходство. И те, с кем будут они сталкиваться, невольно начнут оглядываться на себя. В любом человеке таятся запасы человечности. Аркадий Кириллович ни на минуту не забывал перемешанную толпу бывших врагов перед горящим госпиталем, толпу, охваченную общим страданием. И безызвестного солдата, кинувшегося спасать недавнего врага, тоже помнил. Он верил – каждый из его учеников станет запалом, взрывающим вокруг себя лед недоброжелательства и равнодушия, освобождающим нравственные силы. Историю делают люди. Он, Аркадий Кириллович Памятнов, рядовой педагог, вносит в историю свой скромный вклад…
Он верил сам и заставлял верить других. К нему тянулись, к его слову прислушивались, его совета искали не только ученики, но и их родители. И Соня Потехина в отчаянье бросилась звонить среди ночи не кому-то, а ему!
Сейчас Аркадий Кириллович сидел в кухне, подперев кулаком тяжелую голову. За стеной, в нескольких шагах лежал рослый мужчина с черепом, развороченным выстрелом из ружья. Его ученик убил своего отца! Его ученик… Один из тех, кто вызывал в нем горделивую веру.
Что это?
Случайная гримаса судьбы или же жестокое наказание за допущенную ошибку?
Если и сумеет тут кто-то подсказать, то только он – Коля Корякин. Если сумеет…
Тишина кругом. Аркадий Кириллович уже собирался подняться, чтоб идти вниз, как вдруг услышал крадущиеся шаги. Он вздрогнул, распрямился и… увидел в дверях кухни все того же Василия Потехина в натянутой на лоб беретке, в широкой дошке с меховым воротником.
6
– Не вытерпел. Пришел спросить: увидели?.. Ну и как?..
Прежнее необъяснимое недружелюбие в голосе и настороженная неприязнь в глазах.
Лицо Василия Петровича всегда поражало несогласованностью – крупный подбородок и под беретом обширный лоб мыслителя, а между ними суетно-невыразительные черты, вздернутый, вдавленный в переносье нос, дряблая бескостность на месте скул, маленький аккуратный женский рот, почти неприличный над крутым подбородком. Похоже, господь бог замыслил вылепить человека и умным и волевым, но сплоховал, измельчил, напутал, так и выпустил в свет недоделанным.
– Коля у вас? – спросил Аркадий Кириллович. – Я хочу его видеть.
– А зачем?
– Василий Петрович, что с вами?
– Прозрел.
– В чем?
– В том, какой вы опасный.
– Не очень-то удобно выяснять сейчас отношения, но уж раз начали – договаривайте.
– Все умиляются на вас, и я тоже, как все… – Василий Петрович качнул беретом в сторону комнаты, где лежал убитый. – Охладило. А вам… Позвольте вас спросить: вам ничего?.. Вас совесть не грызет?
Неужели этот человек разглядел со стороны то, что мучило смутными подозрениями? Аркадий Кириллович почувствовал зябкость в спине. Но волнения не выдал, спросил спокойно:
– Вы считаете – между убийством и мной есть прямая связь?
– Прямая? Да нет, кривенькая, с загибчиками…
– Докажите.
– Не смей мириться с плохим – требовали от ребят?
– Требовал.
– И будь хорошим без никаких уступочек – тоже требовали?
– Тоже.
– Так что ж выходит: поперек жизни становись, ребятки. Вникните – страшно же это! Малая щепка реку не запрудит.
– Считаете, что я как-то настроил Колю Корякина?
– Считаю – подвели мальчишку, как меня в свое время.
– Вас?
Василия Петровича всего передернуло, даже голос у него сразу стал тоньше:
– А то нет! Был человек человеком, растущим инженером считали. Так стукнуло меня к вам сунуться – справедливости великой, видите ли, захотелось. А вы известный специалист по справедливости, апостол святой! И полез я с вашей святостью, как Иван-дурак с плачем на свадьбу, другим настроением испортил, а сам с помятыми боками за дверью оказался. Кто я теперь?.. Наряды выписываю на починку газовых плиток. К большому делу не подпускают – людей подвел.
– Так я виноват в том, что не отказал вам в помощи?
Василий Петрович резко подался вперед, словно сломался в пояснице, – разлившиеся зрачки, задранный нос, кривящиеся губы:
– Не помогайте! Просить будут – никогда не помогайте! Отказывайте! – С жарким дыханием, шепотом: – Хуже людям сделаете.
И этот выпад, горячее до ненависти убеждение наконец-то возмутили Аркадия Кирилловича.
– Мне пятьдесят четыре года, – сказал он жестко и холодно. – За свою жизнь я многим помог, благодарностей слышал достаточно, а вот такой упрек! – только от вас.
Василий Петрович откачнулся, сразу потускнел, стал просто хмур.
– И я благодарил, если помните… Теперь вот опомнился, – проворчал он в сторону. – Да во мне ли дело? В Соньке… Дочь мне родная, боюсь за нее. Доучите вы ее – тоже на рога полезет… Ну-у нет! Не хочу! Переведу из школы…
В это время за темным окном, внизу, со дна ночной ямы, послышался шум моторов, скрип тормозов, хлопанье дверок, смутные голоса. Василий Петрович передернул плечами, подобрался:
– Милиция подкатила. Наконец-то!
Он боком двинулся к двери, но в дверях задержался, обернулся к Аркадию Кирилловичу, бросил:
– А Гордин-то прав! Во всем прав!
Бесшумно исчез.
Гордин?.. В свое время Потехин постоянно произносил эту фамилию, и каждый раз с выстраданным проклятием. Даже для Аркадия Кирилловича неведомый Гордин стал олицетворением нечистоплотности, лживости, безудержного корыстолюбия. Пока не забылся.
А по лестнице прибойной волной стали нарастать шаги. Чем ближе, тем, казалось, больше становилось идущих, словно на каждом этаже распахивались двери, присоединялись люди, росла толпа.
Аркадий Кириллович опоздал к Коле Корякину, сейчас милиция возьмет его под свою опеку, придется просить разрешения свидеться.
Аркадий Кириллович поднялся, чтоб встретить надвигающуюся процессию.
7
Невысокий человек с фатоватой выправочкой, в ладно сидящем темном плаще, в глянцеватой от дождя легкомысленной кожаной кепочке с намеком на козырек, лицо скуластенькое, несолидные усики и быстрые, цепкие черные глаза.
– Я инспектор уголовного розыска Сулимов, а вы кто? – спросил он чеканно. За начальственной строгостью пряталась молодая простодушная задиристость.
– Я учитель Памятнов, Аркадий Кириллович.
– И что вы здесь делаете?
– Пока ничего. Только переживаю.
– Гм…
Инспектор Сулимов оживленно ощупывал блестящими смородиновыми глазками, явно оценивал столь неуместного возле преступления пожилого, представительного учителя с внушительным, иссеченным крупными складчатыми морщинами лицом.
– Это мой ученик… – выдавил Аркадий Кириллович.
– Вы здесь живете? Как вы сюда попали раньше нас?
– Здесь живет еще одна моя ученица. Она вызвала меня по телефону.
– И часто вас так… среди ночи?
– Впервые.
– Все-таки что же вы намереваетесь тут делать?
– Вот собирался встретиться с ним. И не успел.
– С преступником?
– Он для вас преступник, для меня – ученик.
– Надеетесь чем-то ему помочь?
– А вы считаете, что он не нуждается в помощи?
– Нет, не считаю.
– Ну так если кто-то и сможет помочь ему, то, думается, только я. Его матери самой, наверное, нужна помощь.
– Однако вы самонадеянны. Уж не думаете ли, что способны снять с него вину?
– Его виной займетесь вы. Я – им самим.
– Что это значит?
– Это значит, что он не случайно сорвался на столь ужасный поступок, заставило что-то страшное. И нетрудно представить, в каком состоянии он теперь находится. Кто-то должен понять его, кто-то, кому он может довериться. А мне он всегда доверял.
Сулимов задумался, отвел в сторону взгляд. Из комнаты, где лежал убитый, доносились озабоченные голоса, там уже действовали его помощники.
– А он нормален? – осторожный вопрос.
– Вполне.
– Тем хуже, – нахмурился Сулимов.
– Так вы разрешите мне сейчас поговорить с ним? – попросил Аркадий Кириллович.
– Аркадий Кириллович!.. – торжественно уставился прямо в глаза Сулимов, всем своим видом показывая, что не упустил из разговора ни одного слова, даже имя-отчество с лета запомнил. – Аркадий Кириллович, не лучше ли нам поговорить с ним вместе? Вы нам поможете что-то открыть, мы – вам.
– Я даже не уверен, товарищ Сулимов, что он распахнется и передо мной одним, а уж при вас скорей всего совсем замкнется.
– Я не могу допустить вас к нему, пока сам не допросил. Вообще до окончания следствия свидания не разрешены.
Аркадий Кириллович надолго подавленно замолчал. Сулимов пытливо косил на него острым глазом, наконец заговорил:
– Ему же будет легче, если первый допрос пройдет в присутствии учителя, которому привык верить. На меня он невольно станет глядеть – враг перед ним, и беспощадный. А если окажетесь рядом вы, значит, поймет – имеет дело не с врагами. Не лишайте его поддержки.
Аркадий Кириллович помедлил, навесив брови, деревенея тяжелыми складками, неуверенно согласился:
– Что ж… Выбора у меня нет. Пусть будет так. Мне прикажете ждать?.. И долго?..
Появился озабоченный офицер милиции, хмуро доложил Сулимову:
– Наповал… А ружья вот нигде не найдем.
– Не думаю, что долго, – ответил Сулимов Аркадию Кирилловичу. – Дело, по всему видать, ясное, петельки распутывать не придется… Пошли, Тищенко.
Аркадий Кириллович снова остался один в кухне. За стеной часы, висящие над убитым, хрипло пробили четыре раза – мрачный благовест.
8
Сулимов, однако, исчез надолго.
Вокруг шла непонятная толкотня. Появлялись и исчезали новые люди – некто, увешанный фотоаппаратами; растерянная и перепуганная пара: женщина в рабочем ватнике и небритый мужчина в коробом сидевшей кожимитовой куртке (должно быть, дворники); санитары в белых халатах о чем-то шумно заспорили с милицией, оставили после себя в прихожей громоздкие носилки. Мелькание людей, хлопанье дверей, душно и жарко, а перед глазами – под яростной люстрой рослый детина, прилипший соломенной головой к черной луже…
Все дико, чуждо, все нереально – не верится, что за окном в сырой тьме стоит знакомый город, что через несколько часов для всех начнется обычный день, люди проснутся, сядут завтракать, побегут на работу. Кошмарный сон…
Самым невнятным из всего, вызывающим сосущую тревогу был недавним разговор с Василием Петровичем Потехиным. Теперь на досуге Аркадий Кириллович с подозрительной придирчивостью перебирал все, что случилось прежде между ними.
А случилось, в общем-то, самое обычное. Однажды в школе после родительского собрания Потехин подошел к Аркадию Кирилловичу, глядя кроличьими глазами, стал рассказывать: работает в самом крупном СМУ города, руководит там газовым хозяйством, укладывает газовые трубы, когда дома уже стоят, а дворы и подъездные пути залиты асфальтом, пробивает через этажи дымоходы, когда стены оштукатурены, покрашены, полы покрыты паркетом, рабочие постоянно простаивают, чтоб их задобрить, приходится приписывать им взятую с потолка работу – словом, на стройке разнузданный шабаш, обходящийся государству во многие сотни тысяч рублей. Василий Потехин просил совета. Какой мог дать еще совет Аркадий Кириллович – терпи, участвуй и дальше в расхитительстве? Да, он настроил Василия Петровича, да, помог ему связаться и с обкомом, и с городскими курирующими организациями…
То ли Василий Петрович Потехин оказался жидок для крупной войны, то ли слишком могущественным был его противник – некий Гордин, ворочавший СМУ, но волна прошла, поднятая шумиха утихла, и Василий Потехин оказался не у дел.
Он и потом жаловался Аркадию Кирилловичу, строил перед ним планы возмездия – Гордин, баснословный растратчик, Гордин, бесстыдный очковтиратель, Гордин, мастер всучивать взятки и крутить интриги, Гордин должен быть упрятан в тюрьму, на меньшее Василий Петрович не соглашался. Но очень скоро смирился, притих и уже не встречался с Аркадием Кирилловичем. Эпопея забылась, у Аркадия Кирилловича хватало своих забот.
И вот сейчас Потехин снова вспомнил… Можно, пожалуй, как-то объяснить его обиду на советчика – на лихое толкнул! Но чем объяснить его признание – Гордин прав?..
Далекий Гордин вдруг странным образом связался с непоправимым поступком близкого Коли Корякина. В другое бы время Аркадий Кириллович отмахнулся: какая там связь – воспаленный бред! Но в эту ночь все странно, все чудовищно неправдоподобно, ничего не понятно, приходится с придирчивостью вглядываться и в то, что кажется бредовым.
Уже не раз из комнаты покойника раздавался сиплый бой часов, всегда пугающе неожиданный, заставляющий вздрагивать, а Сулимов не появлялся.
9
Он вошел в кухню, но не один, за ним ввалилась рослая старуха в подпоясанном пузырящемся пальто, тепло укутанная платком. Позади старухи маячила милицейская фуражка.
– Не проси лучше, бабушка, – терпеливо убеждал старуху Сулимов. – Не для глаз матери картинка.
За время отсутствия он, видать, бурно действовал – плащ скинут, кепочка сбита на затылок, лицо запаренное, не утратившее энергичности, в щеголеватом, полуспортивного покроя костюме некая разлаженность, и галстук сполз в сторону, и сорочка под ним расстегнута на одну пуговицу.
– Я, милый, к страшному-то привыкла, – обрезала сурово старуха. – Не жалей меня.
– К такому не привыкают, мать. И потом, там сейчас работа…
– А я не уйду, покуда его не увижу. Сын же он мне, сын родной, бесчувственные вы!
– Что ж, жди. Будут выносить – позовем.
– На улицу не пойду. Здесь останусь. Не молоденькая, чтоб на ногах…
– Усадите ее где-нибудь, – распорядился Сулимов.
Милиционер, маячивший за спиной старухи, выступил вперед, бережно взял за локоть:
– Я тебе, бабка, стульчик вынесу, у дверей подежуришь. А здесь не положено. Никак!
– Ну все. Ради бога простите, – обратился Сулимов к Аркадию Кирилловичу. – Сейчас мы поедем в управление.
За стеной вдруг раздался вой, хриплый, нечленораздельный, удушливый. Сулимов дернулся с места, но выскочить не успел – в дверях вырос смущенный Тищенко:
– Старуха эта вырвалась, перехватить не успели. Откуда только и резвость взялась.
– Голо-овуш-ка-а горька-ая-а! Жи-ызнь моя-а рас-прокля-а-та-ая-а! – Хриплый вой обрел членораздельность.
– Упала на труп, вцепилась – не отдерешь! – Тищенко крутанул фуражкой. – Ага! Подняли… Ишь ты, на ногах не стоит, на ручках неси… Посадите на лестнице, пусть поостынет.
У Сулимова ощетинились усики, блеснули под ними мелкие зубы:
– Тищенко! Ты чем думаешь? Мать убитого сына увидела!.. Сюда ее! И повежливей!
– Будет вам морока – нанянчитесь! – проворчал Тищенко, однако поспешно скрылся.
– Го-о-оспо-оди-и! За что невзлюбил?! Прежде дал бы мне-е помереть! На старости-то лет ви-идеть такое!..
Старуха вместе с сопровождающими втиснулась в кухню. Платок сполз у нее с головы, открыв седые неопрятные космы, изрубленное морщинами лицо слепо, открыт только провально-черный, без зубов рот. На минуту в кухне стало до духоты тесно.
Аркадий Кириллович вскочил с табуретки, усадил старуху. Она упала лицом на стол, стала кататься седой головой по клеенке с веселыми цветочками.
– Перед смертью-то уви-идеть такое!.. Гос-по-ди-и!..
Тищенко, пугливо оглядываясь, молчком выдавил из кухни сопровождавших, прикрыл старательно стеклянную дверь.
Сулимов морщился от крика, крутил головой в кепочке, словно повторял движения седой головы старухи. Аркадий Кириллович, в расстегнутом плаще, в свесившемся кашне, в косо сидящей шляпе, нависал над старухой, своим крупным, пропаханным глубокими складками лицом.
– Чем я так не угодила, гос-по-ди-и?! За что про-о-кля-та? Устал-ла-а! Устал-ла-а! Моченьки нет! И пожаловаться кому?! Кто услышит?!
– Мы слышим, мать, – обронил в седой затылок Аркадий Кириллович.
И старуха притихла, оторвалась от стола, все еще не разогнувшаяся до конца, сгорбленная, судорожно пошарила рукой на груди, горестно высморкалась в конец платка и всхлипнула с содроганием, как всхлипывают успокаивающиеся дети. И это детское странно выглядело у седой дряхлой женщины с измятым, опухшим, столь тяжелым лицом, что его не смогло одухотворить даже и горе.
– Вы-то слышите, да что вам мое-то, – выдавила она.
Аркадий Кириллович опустился рядом с ней.
– Раз уж мы здесь, то, значит, есть дело и нам до твоей беды.
Старуха тупо взирала остановившимися глазами на цветочки, рассыпанные по клеенке, на запавшем виске под седым клоком билась толстая вена, пыталась выползти на морщинистый лоб, в такт ей еле приметно содрогались концы вздыбленных волос, отсчитывая натужные удары старого сердца. И снова вздох, но уже не детский, не со всхлипом, не прерывистый, а тягучий, сдавленный, вздох человека, изнемогающего от жизни.
– В беде родился, бедой и кончил, – тихо и внятно произнесла старуха, замолчала.
Слышно было, как поскрипывали ботинки переминающегося над ней Сулимова.
– И пока жил, все-то времечко от него к другим беда шла… Только беда.
– А его самого к беде никто не толкал? – спросил Аркадий Кириллович.
Старуха впервые подняла на него тусклые глаза, должно, вопрос чем-то поразил ее.
– Бог толкал, никто больше, – ответила с твердым убеждением.
– Ты его в детстве часто била?
– Не… В сердцах когда, покуда не подрос и совсем от рук не отбился.
– А любила ты его сильно?
Старуха грузно зашевелилась, выдавила стон:
– Он же мне жизнь вывернул… Малой, на руках был, а уж из родной деревни погнал, это в голодные-то годы!.. И никто уж больше не сватался, никому из-за него не нужна была. Бобылкой так век и прожила. Некуды было от него спрятаться. И теперя вот… не спрячешься! По ночам блазниться будет…
По изрытым щекам старухи потекли слезы, скрюченные пальцы то сжимались, то разжимались на веселой, в цветочках клеенке. Сулимов достал пачку из-под сигарет, в сердцах скомкал, бросил – пуста! – сказал:
– Говорил же – не для тебя картинка. Не послушалась.
– Сатана толкнул… Как захватило за душеньку, так и не пускает, дай, думаю, одним глазком на непутевого… Всем-то он жизнь портил, всех-то он наказывал, за это его бог и наказал!.. А он и тута… Он и мертвый-то, мертвый пуще живого страшон!.. Люди добрые! Не дайте ему других губить! Он всему виноват, как перед господом говорю! О-он! О-он! Сатаной клейменный! В позорище зачала, в стыде выносила, в горестях вынянчила! До того еще, как на свет появился, бедой был. Со свету сгинул – добрых людей наказывает! Да кто же о-он, кого родила-а?
Старуха сорвалась на кликушеский речитатив, морщины стянулись, глаза закатывались, губы прыгали, выбрасывая мятые слова. Сулимов ошарашенно стоял посреди кухни – кепочка на затылке, глаза навыкате со смятенным мерцанием, подрагивают несолидные усики. Аркадий Кириллович сидел возле старухи, устало распустив складки на лице, не шевелясь, пряча угрюмый взгляд под бровями.
Скрюченные пальцы старухи царапали клеенку, ее ломало – вот-вот свалится на пол, забьется в истерике.
Аркадий Кириллович тряхнул ее за плечо:
– Хватит, старая! – Обернулся к инспектору: – Распорядитесь, чтоб отвезли ее домой.
Сулимов очнулся от столбняка:
– Счас!
Сверкнул на трясущуюся старуху глазом, кинулся в прихожую.
10
Наконец-то они двинулись к выходу, Сулимов напористо впереди, Аркадий Кириллович поспевал за ним, Тищенко сзади.
Лестничная площадка сейчас была густо населена. В стороне от величавого, затянутого в шинельное сукно и ремни милиционера тесно сбились полуодетые перепуганные жильцы соседних квартир. И этажом ниже вперемежку – застегнутые на все пуговицы пальто и мятые пижамы, бледные лица, всклокоченные прически, вопрошающие немотно глаза. Дом проснулся, дом растревожен.
У плотно прикрытой двери своей квартиры стоял Василий Потехин в расхлюстанной дошке, с бодливо выставленным на спускающегося Аркадия Кирилловича лбом: ну да, с начальством ходишь, никому невдомек, каков ты есть, один я насквозь тебя вижу!
Они вышли из подъезда, их встретило низкое, до безразличия спокойное небо, подпираемое дымчатыми домами. Аркадий Кириллович с наслаждением захлебнулся влажным воздухом, чувствуя, как тает в нем скопившаяся отрава, яснеет голова.
Но он опустил взгляд с небе на землю и вздрогнул – перед ним стояла толпа угрожающе сбитая, выжидательно молчащая, угрюмо-неподвижная. И желтые с голубым милицейские машины, и фургон «Скорой помощи» с тревожно-красными крестами, и сумеречные шинели милиции, сдерживающей толпу. Под сглаженно-равнодушным небом, под моросящим освежающим дождичком, обычным утром, средь обычной улицы – странное людское скопление. Город, не успев начать день, прервал его, забыв о делах и заботах, сбежался, с настороженной праздностью замер перед сторонним бедствием, доказывая своим вниманием – не мелочь, масштабное событие!
Сулимов кивком указал на канареечную машину, туда! Возле машины все остановились, стали закуривать неспешно, сосредоточенно, словно исполняя необходимый ритуал. Аркадию Кирилловичу тоже протянули надорванную пачку. Он бросил курить лет десять назад, но сейчас взял сигарету, поспешно прикурил, осторожно затянулся, вместе с другими принялся разглядывать толпу.
В упор толпа выглядела иной – не слитной, не неподвижной, не угрожающей. В ней происходило робкое, подавленно-суетное шевеление – задние протискивались вперед, передние недовольно теснились, с беспокойством и опаской оглядывались на сдерживающую милицию. Выныривали и исчезали лица, мужские и женские, старые и молодые – разные, но с одинаковой оскорбительной озабоченностью, как бы не пропустить чего, утолить любопытство. Аркадий Кириллович почувствовал – сотни жадных глаз ощупывают и его, он участник действа, таинственный мрачный жрец преступности, потому в нем все интригует: шляпа, натянутая на лоб, небрежно выбившееся кашне, поношенный плащ, сигарета в руке, сумрачное лицо, более сумрачное, должно быть, чем у тех, кто стоит рядом. Сулимов и его товарищи, верно, привыкли к такому вниманию, скучающе глядели на толпу, курили, молчали, чего-то ждали.
Неожиданно толпа вздрогнула, качнулась вперед и замерла. Аркадий Кириллович, повинуясь направленным мимо него взглядам, обернулся и увидел Колю Корякина. Массивный милиционер, что стоял на верхней лестничной площадке, вел Колю за локоть, красная лапища касалась бережно, с медвежьей лаской, шаг твердый, решительный, на всю ступню. Рядом с этим плотски грубым, туго налитым, багрово-жарким, стянутым ремнями милиционером Коля выглядел немочным до призрачности, не человек, а видимость – бескровное, с бескровными губами узкое лицо, гривка невнятно рыжих волос, рвущаяся вперед, непрочно тонкая шея, короткое пальтишко нараспашку, нетвердая поступь нескладных ног в расклешенных джинсах – но убийца! И чем он беспомощнее, тем опаснее должен казаться толпе – зря, что ли, собрал столько милиции, и какая богатырская ручища держит его сейчас за локоть!
И все-таки Аркадий Кириллович с надеждой вглядывался в лица – мир не без добрых людей, не могут же совсем не сочувствовать, кто-то же охвачен жалостью. Но нет, всех оглушило самозабвенное – не пропусти момента, исчезнет, не повторится!




![Книга Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести автора Владимир Тендряков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-sobranie-sochineniy.-tom-5.-pokushenie-na-mirazhi-roman.-povesti-120265.jpg)