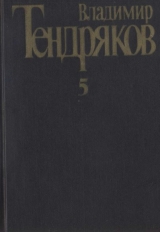
Текст книги "Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести"
Автор книги: Владимир Тендряков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Взвыла сирена, толпа зашевелилась, начала тесниться, расступаясь перед машиной.
11
Милицейская машина, не задерживаясь у светофоров, визжа скатами на поворотах, за двадцать минут доставила к дому старуху Корякину. За дорогу та успокоилась – «такая уж судьба Рафашке, против бога не попрешь», – вошла к себе с лицом измятым, хмурым, но таящим значительность: узнала такое, что другим неведомо.
На полу по-прежнему валялось ружье. Анна, лежавшая на койке, со стоном подняла навстречу голову с упавшими на лицо спутанными волосами.
– Ну?! – с нетерпеливой дрожью, блестя лихорадочным глазом сквозь волосы.
– Чего – ну? – огрызнулась старуха. – Уж не ждешь ли, что обрадую чем?
– Кольку видела?
– Кольку теперя от людей сторожат… А Рафаила… Ох, лучше б и не видеть, Гo-ос-по-ди! За все грехи свои сполна ответил!
Анна судорожно передернулась.
Старуха начала медленно разоблачаться, раскручивала шаль, угрюмо бубнила:
– Вот ведь, родился нечаянно и умер невзначай, отца не знал, от сына погиб… Жизнь!
– Что с Колюхой сделают?
– Аль догадаться трудно? Судить будут, не без того… Парня жаль – тоже косо жизнь начинает.
Анна сбросила с койки босые ноги.
– Мать! А откуда кому известно, что это он?..
Старуха с подозрением покосилась:
– То-то, что на другого не свалишь.
У Анны на бледном лице кривился темный рот, глубоко запавшие глаза – в суетливом горячечном мерцании, острые плечи напряженно приподняты, тонкие руки вкогтились в одеяло.
– Я, а не он в Рафаила-то из ружья… Откуда кому известно? Может, Колька наговаривает на себя, меня спасает?..
Долгим пасмурным взглядом старуха обвела невестку, с горькой пренебрежительностью ответила:
– Полно-ко, кого омманешь… Ни себя не морочь, ни других. Хоть бы похитрей была, спросят – на первом же слове запутаешься… Ты? Из ружья?.. Да ты на мышь не замахивалась.
– А вот довел, довел! Восемнадцать лет мучил, каждый вечер от него смерти ждала. Одно спасение – ружье! Не Кольку пусть судят – меня!
– Не тебе, голубушка, врать, не им слушать.
– А ты подтверди: мол, я не раз стращала – одно мне остается… Подтверди, спасем Кольку. Самой же парня жалко.
Старуха потерянно махнула узловатой рукой:
– Не блажи. На старости нелепицу плести, срамоту на себя брать…
Анна соскочила с койки, наструненно вытянулась, казалось, стала куда выше ростом, дрожащая, в жеваном халате, ведьмачьи патлатая, в синеву бледная, с одичалым бегающим взглядом.
– Кто-то должен ответить за Рафашку. Так – я! Я! Не он! Пробьюсь к кому нужно… Сейчас же! И заставлю, заставлю поверить! Ружье принесу… Из этого ружья – своими руками… Я! Я! А не он!..
– Иди, – сказала старуха. – В тюрьму, поди, не посадят, а в дурдом как раз попадешь.
– Достань мне пальто какое и на ноги обувку…
– Ты мои наряды знаешь, в любое влезай.
– У соседей попроси.
– Не путай, девка, хуже будет. Издалека даже на виновницу непохожа, а уж ковырнут чуть – и совсем поймут, из чьих рук ружье стрелило.
– Виновница?.. А кого еще и винить, как не меня! Уж Колюхи-то я куда виновней!
– Во-во! Еще чуток – и сама поверишь.
– Нет, виновна я, виновна кругом! Не я бы, жил Рафашка. Другая баба, вроде Милки хотя бы, давно бы скрутила его в бараний рог или бросила к чертям собачьим. А я терпела… И как терпела! Видела же, видела, что добром не кончится, а цеплялась. Зачем? Кто должен был Кольку оберечь? Кто, как не я? В аду парнишка варился. Рафашка на пьяные глаза понять не мог, я-то всегда трезвой была. Я мать, потому сделай, освободи себя и сына. Нет! Нет! Ничего! Палец о палец не ударила, только терпела и еще муки свои сыну навязывала. Не вина ли это? Да неужель не поймут, что судить меня, меня нужно, не мальчишку!.. Докажу!.. Евдокия, мне надо идти! Сейчас!
– Поостынь, успеется.
– Евдокия, Милка же, верно, ничего не знает. Позвони ей, она и одежду привезет… Пуховым позвони, а я тут умоюсь, причешусь… Ради Кольки прошу, Евдокия!
И старуха испугалась неистовости в голосе Анны.
– Ошалела, девка. Вот уж воистину в тихом омуте черти водятся. Да ладно, ладно, не стони. Мне-то что, позову Милку, пусть она нянчится.
Тряся сокрушенно головой, ворча, Евдокия стала натягивать пальто. Телефона во флигеле не было, при нужде звонить бегали через двор, в подъезд соседнего дома.
Прошло едва ли более получаса, как темно-зеленые «Жигули» резко затормозили прямо перед окном. Приехала Людмила Пухова, подруга Анны еще с девических времен. Вызвав немотное удивление старичков и старушек, жильцов флигеля, она энергичной и решительной поступью проследовала к Евдокии Корякиной. Если Анна всегда выглядела потерянно и забито – стертое лицо, худа, болезненна, мала ростом, – то Людмила, где бы ни появлялась, привлекала к себе внимание. В последние годы она сильно располнела, но не утратила прежней горделивой осанки, двигалась с напором, с достоинством неся пышную грудь и гладкое бровастое лицо, смущала взглядом сквозь приспущенные ресницы, поражала шальной модностью своих нарядов. И сейчас, сорвавшаяся впопыхах по звонку, она явилась с подведенными глазами, распространяя крепкий запах духов, но белые щеки ее дрожали, а губы кривились. Она накинулась на Анну, прижала ее голову к груди, по-бабьи в голос запричитала:
– Страдалица ты моя-а! Довел-таки бешеный, не остерегла я тебя!.. Горемычная моя!..
Попричитав, резко отстранилась, всхлипнула, платочком промокнула глаза, села попрочней, деловито сказала:
– Давай думать, что сделать можно.
– Уже придумала, – подсказала старуха, – вину на себя брать хочет.
– Зачем? – без удивления, скорей заинтересованно спросила Людмила.
– Поди знай.
– Так разве ж не виновата я? – слабо произнесла Анна.
– Ты?! Какая, к лешему, ты виновница! – Людмила Пухова когда-то, как и Анна, была простой барачной девкой, не стеснялась сильных выражений. – Ежели и виноват кто, так я, дура. Кто толкнул тебя к Рафашке? Я же! Думалось – тиха да покладиста, не посмеет обидеть такую, сживетесь куда с добром. Ой, ошиблась! Всю жизнь кляну себя.
– Чего уж давнее ворошить, – поеживаясь как от озноба, возразила Анна. – Все ошибались, все! А за наши ошибки один Колюха ответит. По-че-му?! По-че-му он, а не я? Справедливость-то где?!
– Разберутся. Не убивайся зря-то. Я Коле адвоката хорошего найду, сама его наструню, все выложу, что было. Возле закона тоже, поди, люди сидят – поймут.
Но решимость старой подруги не успокоила Анну:
– А мне что – сидеть да ждать? С ума же сойду!
– Не жди, сходи поговори – вреда не будет. Узнаешь что к чему, нам расскажешь, – согласилась Людмила, с затаенным страданием разглядывая Анну.
– Одежку-то мне привезла?
– Не знаю, подойдет ли. На скорую руку похватала.
– Лишь бы срамоту прикрыть. Вот оденусь и пойду сейчас.
– А куда? К кому – знаешь?
– Не, – растерялась Анна.
– Э-эх! Простота! – Людмила резко встала. – Одевайся, а я узнаю к кому… Где телефон-то тут? Евдокия, идем со мной, одежду захватишь, в машине она.
И только сейчас, когда двинулась к выходу, Людмила заметила лежащее на полу ружье, споткнулась, оглянулась на Анну. Та подавленно кивнула: из него.
– Обеспамятела – выхватила у парня и ну-ко сюда притащила, – пояснила старуха.
Только теперь, при виде лоснящегося черными стволами ружья, Людмила, должно быть, зримо представила картину убийства: свалили Рафаила Корякина, здорового мужика, страшного в пьяном озверении! Бешеного Рафку, которого она, Людмила, знала с девичества!
– Анька… – обессиленно, с хрипотой произнесла, и лицо ее сразу увяло, на гладких щеках проступили вмятины. – Анька, молчишь, тихая? Да крикни же, прокляни – я сосватала, я! С моего слова началось… Выругай, все мне легче.
Анна вяло отмахнулась:
– Своего ума недостало, что уж других корить.
И нарядная, пахнущая духами Людмила грубо, по-мужицки выругалась, перешагнула через ружье, вышла.
Через пятнадцать минут Анна, одетая в слишком просторное, отливающее лягушачьей зеленью пальто из жатой кожи, в берете с кокетливыми вишенками, слушала Людмилу.
– Вот записала для памяти: Су-ли-мов… Старший лейтенант Сулимов: пятьдесят первая комната, Колькино дело ведет. Я тебя довезу до управления, а там уж сама действуй.
Анна сунула бумажку в карман, поднялась, взяла с пола ружье.
– С ружьем на свидание, – криво усмехнулась Людмила.
– Снесу. Поди, ищут его.
Старуха напомнила:
– Скажи ей, чтоб себя зазря не оговаривала.
– Не сумеет, – хмуро обронила Людмила. – Для этого уметь врать надо.
Они ушли, старая Евдокия осталась одна, села на помятую койку, сложила на коленях мослаковатые руки и задумалась.
12
Необжито-чистый кабинет с несолидным письменным столом, солидным сейфом в углу и неистребимым канцелярским запахом эдакой легкой бумажной залежалости. Прочно усевшись за стол, Сулимов деловито разложил перед собой листы бумаги, бланки, блокнот, ручку, пачку сигарет и закурил.
– Так! – сказал он удовлетворенно. – Думаю, лучше без всякой подготовочки – сейчас и приступим.
– К чему? – не понял Аркадий Кириллович.
– К допросу Николая Корякина.
– В моем присутствии?..
– Процессуальный кодекс предусматривает присутствие педагога. Имеете право задавать вопросы, высказывать свое мнение, отказаться подписать протокол, если не согласны. Словом, вы, так сказать, законный участник.
Аркадий Кириллович, нахмурясь, задумался – выпирающий лоб, свалявшиеся, с проседью волосы, тяжелые опущенные веки, резкие складки от носа к углам решительно сжатого рта.
– Предупреждаю, – сказал он хмуро. – Я буду пристрастным.
– Вот и хорошо, – согласился Сулимов. – Значит, мне придется быть беспристрастным вдвойне. – Он снял с телефона трубку: – Приведите Корякина.
Ожидание показалось Аркадию Кирилловичу долгим и неловким – молчали, старались даже не глядеть друг на друга, словно боялись, как бы по нечаянности не возникло ощущение сговоренности.
Наконец дверь раскрылась, милиционер, молодой, с наивно-старательным выражением суровости на добродушно-губастой физиономии, впустил впереди себя Колю Корякина, солидно козырнул Сулимову, вышел.
Он встал перед ними, нескладно долговязый, оцепеневший, ноги, не успевшие сделать рассчитанный шаг, в неловком неустойчивом положении, и чувствуется – мешают повисшие руки. Поразили Аркадия Кирилловича светлые, широко распахнутые глаза, ни мысли в них, ни страха, никакого живого чувства, глядят прямо и, должно быть, ничего не видят. Своего учителя тоже.
– Садитесь, – пригласил Сулимов, указывая на стул.
С послушанием робота Коля шагнул вперед, сел на краешек стула, вцепился пальцами в острые коленки и снова замер – тонкая шея доверчиво вытянута, острый подбородок задран, и под ним натужно пульсирует нежная ямка.
– Эй, мальчик, очнись! – окликнул Сулимов. – Не к людоедам в гости пришел. Даже знакомых не узнаешь.
Коля вздрогнул, взглянул на Аркадия Кирилловича, и в его сквозно-прозрачных глазах появилось смятение, в бескровных сплющенных губах – кривой судорожный изгиб.
– Корякин Николай Рафаилович… Учащийся… Родился когда? – начал Сулимов допрос.
– В пятьдесят восьмом… Второго ноября, – тихо, с сипотцой ответил Коля.
– Еще нет и шестнадцати?
– Нет.
Сулимов бросил взгляд на Аркадия Кирилловича. Тот сидел прямой, неподвижный, из-под тяжелых век разглядывал неловко пристроившегося на кончике стула Колю, крупные складки на лице набрякли, обвисли. Нет еще и шестнадцати парню! Не вырос, несамостоятелен, за таких всегда кто-то отвечает. А он сам решил взять ответственность за родителей… Вытянутая шея, острый подбородок, бледная невнятная гримаса и сведенные пальцы на острых коленках. Некому отвечать за него, кроме учителя. Изрытое, неподвижное, темное лицо Аркадия Кирилловича… Сулимов невольно поежился.
– Скажи, давно ли твой отец стал приходить домой пьяным? – спросил он.
– Всегда приходил.
– То есть ты не помнишь, когда он начал пить?
– Он всегда пил.
– Но бывал же он когда-нибудь и трезвым?
– Утром… Пьяный только вечером.
– Так-таки каждый вечер?
Коля замялся, взволнованный, еле приметный румянец просочился на скулах.
– Я… Я, кажется, не так сказал… Неточно. Не всегда. Нет! Бывали вечера, когда трезвый, совсем трезвый… Даже много вечеров бывало. Иной раз неделями и даже месяцами в рот не брал. И тогда все хорошо. Потом снова, еще хуже, тогда уж каждый вечер… Да!
– Приходил пьяным и бил тебя?
– Меня – нет. Не бил он меня. Он мамку бил… и посуду.
– Если даже под горячую руку ты подворачивался, ни разу не ударил?
– Когда я на него сам кидался, тогда ударял или за дверь выталкивал, чтоб не мешал. Но не бил… так, как мамку.
– Ты кидался на него?
– Маленьким был – боялся, очень боялся, сам убегал… К соседям. К Потехиным чаще всего… А потом… потом ненавидеть стал. Что ему мать сделала? Как вечер подходит, она сама не своя. И не ругала его. Нет. А он все равно накидывался. Он же здоровый, никто из мужиков с ним не связывался, любого бы поколотил. Мамка совсем слабая… Здоровый и бешеный. Он бы все равно ее убил. Мне смотреть и ничего не делать? Не мог же! Не мог! – Колин голос из тусклого, глухого до шепота стал тонким и звонким. – Я ему честно, в глаза – не тронь, убью! Но по-че-му?! По-че-му он не слушал?!
– Ты его предупреждал?
– Да. Только он плевал на мои слова.
– И что ты ему говорил?
– То и говорил…
– Какие слова?
Коля склонил голову, с трудом выдавил:
– Что убью… если мать тронет.
– И сколько раз ты его так предупреждал?
– Много. Он и не слышал словно…
Сулимов помолчал. Аркадий Кириллович сидел по-прежнему прямой и неподвижный.
– Мы не нашли ружье. Где оно? – оборвал молчание Сулимов.
– Мать выхватила. Когда… когда уже все… И убежала с ним.
– Но ты ведь не знал, что ружье было заряжено?
– Знал.
Сулимов, до сих пор участливо-сдержанный, неожиданно рассердился:
– Слушай, дружок, не бросайся так легко словами. Здесь каждое неосторожное слово подвести может. И сильно! Откуда ты мог знать, что висящее на стене ружье заряжено?
– Так я же его сам и заряжал. Мать разряжала, а я снова…
– Выходит, она знала, что ты собираешься убить отца?
– Так я же при ней ему говорил – слышала.
– И верила?
– Не знаю… Но ружье-то разряжала…
– А почему она не спрятала его от тебя?
– Отец не давал.
– Что-о?
– Пусть, говорит, висит где висело, не смей трогать.
– Но сам-то отец почему же тогда его не спрятал?
Коля впервые вскинул на следователя глаза, обдал его родниковым всплеском:
– Он… он, наверно, хотел…
– Чего?
– Чтоб я его… убил, – тихо, с усилием и убежденно.
Сулимов и Аркадий Кириллович ошеломленно поглядели друг на друга.
– Что за чушь, Коля, – выдавил Аркадий Кириллович.
– Он же сам себя… не любил. Я знаю.
Слышно было, как за стенами кабинета живет большой населенный дом – где-то хлопали двери, бубнили далекие голоса, раздавались приглушенные телефонные звонки. Два взрослых человека, недоуменные и пришибленные, почти со страхом разглядывали мальчика.
– Себя не любил?.. – В голосе Сулимова настороженная подозрительность. – Он что, говорил тебе об этом?
– Никогда не говорил.
– Так откуда ты взял такое?
Коля тоскливо поёжился.
– Видел…
– Что именно?
– Как он утром ненавидит.
– Ну знаешь!
– Просыпается и ни на кого не смотрит и всегда уйти торопится. И пил он от этого. И мать бил потому, что себя-то нельзя избить. И часто пьяным ревел… Я бы тоже себя ненавидел на его месте… Он раз в ванной повеситься хотел… Не получилось – за вытяжную решетку веревку зацепил, а та вывалилась. И у открытого окна еще стоять любил, говорил – высота тянет. Умереть он хотел!
Коля неожиданно вытянулся на стуле, дрожа подбородком, едва справляясь с непослушными кривящимися губами, закричал вибрирующе и надтреснуто:
– Но зачем?! Зачем ему, чтоб я?.. Я!.. Тогда бы уж – сам! Не жди, чтоб я это сделал!.. – И захлебнулся, обмяк, похоже, испугался своего крамольного откровения.
Аркадий Кириллович подался всем телом:
– Ты лжешь, Коля! Выставляешь себя преднамеренным убийцей – готовился заранее, заряжал ружье на отца! Не лги!
– Заряжал! Заряжал! Да!
– Ты для того заряжал, чтоб отец видел, как ты его ненавидишь, а сам наверняка рассчитывал – мать разрядит, до убийства не допустит. Или не так?.. И в этот раз ты думал, что ружье разряжено.
Коля, выгнув спину, сцепив челюсти, глядел в сторону, ответил не сразу, с трудом:
– Я его зарядил за полчаса перед отцом…
– Не верю! – упрямо мотнул головой Аркадий Кириллович.
– Я знал… Да! Почти знал, что случится… Да! Готовился!
Сулимов беспомощно развел руками.
– Коля! Ты бредишь! – воскликнул Аркадий Кириллович.
– Я ждал отца… Каждый вечер мы с матерью ждали… Мать как полоумная из угла в угол начинала тыкаться. Легко ли видеть – спрятаться хочет, а некуда. Глядишь – и все внутри переворачивается. Каждый вечер… А тут – нет его и нет, мать совсем уж места себе не находит, я в углу с ума схожу. За полночь перевалило давно… И ясно же, ясно обоим – чем позднее приползет, тем хуже. После поздних пьянок мать неделями отлеживалась… Ждем, его нет и нет. Да сколько можно?.. Сколько можно грозить отцу и ничего не делать, тряпка я… Мать в кухню ушла, ну я – к ружью… Разряжено. А патроны у меня припасены, сунул в оба ствола, закрыл, повесил… Даже на душе легче стало… Я знал, Аркадий Кириллович, знал! Готовился! Не надо меня спасать.
Аркадий Кириллович ссутулился, слепым лицом уставился в пол.
– Не надо спасать… – повторил он. – Легко нам это слышать! Нам, взрослым и умудренным, которые не научили тебя, зеленого, как справиться с бедой – с крутой бедой, Коля! Твоя вина – наша вина!
– А что вы могли? – глухо возразил Коля. – Отца бы мне нового подарили?
– Что-то бы смогли… Да-а… Знали, что у тебя творится. Но издалека… Издалека-то не обжигает, а близко ты никого не подпускал.
Коля вскинул взгляд на учителя, секунду молчал, вздрагивая губами, и снова вибрирующим, рвущимся голосом стал выкрикивать:
– Вы же, вы, Аркадий Кириллович! Вы учили… Воюй с подлостью – учили! Не жди, учили, чтоб кто-то за тебя справился!.. Неужели не помните? А я вот запомнил! Ваши слова в последнее время у меня в голове стучали – воюй, воюй, не жди! А я ждал, ждал, тряпкой себя считал, медузой – мать спасти не могу!..
– Спас! – с досадой не выдержал Сулимов. – Куда как хорошо теперь матери будет – ни сына, ни мужа, одна как перст на белом свете.
– Зна-а-ю-у! Зна-ю-у! – вскинулся Коля. – Всех вас лучше знаю! Она тоже видела на полу его кровь, тоже всю жизнь это помнить будет… А мне как? Как мне, Аркадий Кириллович?! Он, если хотите, даже любил меня! Да! Да! Я себя не жалею, и вы – не надо! Никто не смейте! И на суде так скажу – не жалейте!!
На тонкой вытянутой шее набухли вены, плечи дергались…
Сгорбившийся Аркадий Кириллович поднял веки, остро глянул на Сулимова, чуть приметно кивнул. Сулимов поспешно потянулся к телефону…
13
Дверь за Колей Корякиным закрылась. На скуластом лице Сулимова дернулись несолидные усики.
– Все-таки папино наследство сказывается. Папа, похоже, лез на смерть, сын рвется на наказание.
Нахохленный Аркадий Кириллович обронил в пол:
– Мое наследство сказывается.
– То есть? – насторожился Сулимов.
– Один из соседей Корякиных этой ночью мне бросил в лицо – ты виноват! Я вот уже четверть века внушаю детям: сейте разумное, доброе, вечное! Мне они верили… Верил и он, сами слышали – воюй с подлостью! Мои слова в его голове стучали, толкали к действию… И толкнули.
Сулимов кривенько усмехнулся:
– Уж не прикажете ли внести в дело как чистосердечное признание?
– А разве вы имеете право пренебречь чьим-либо признанием?
– Имею. Если оно носит характер явного самооговора.
– Да только ли самооговор? Мой ученик, оказавшийся в роли преступника, при вас же объявил это.
– При мне, а потому могу со всей ответственностью заявить: мотив недостаточный, чтоб подозревать вас в каком-либо касательстве к случившемуся преступлению.
– А не допускаете, что другие тут могут с вами и не согласиться?
У Аркадия Кирилловича на тяжелом лице хмурое бесстрастие. Сулимов иронически косил на него птичьим черным глазом.
– Многие не согласятся. Мно-огие-е! – почти торжественно возвестил он. – Нам предстоит еще выслушать полный джентльменский набор разных доморощенных обвинений. Будут обвинять соседей – не урезонили пьяницу, непосредственное начальство Корякина – не сделали его добродетельным, участковому влетит по первое число – не бдителен, не обезвредил заранее; ну и школе, то есть вам, Аркадий Кириллович, достанется – не воспитали. Всем сестрам по серьгам. И что же, нам всех привлекать к ответственности как неких соучастников?.. Простите, но это обычное словоблудие, за которым скрывается ханжество… Принесите, товарищ Памятнов, себя в жертву этому ханжеству. Похвально! Даже ведь капиталец можно заработать – совестливый, страдающая душа.
Аркадий Кириллович все с тем же рублено-деревянным лицом, лишь с трудом приподняв веки, уставясь на Сулимова исподлобья, заговорил медленно и веско:
– Готов бы, Сулимов, склонить голову перед вашей мудростью. Готов, ежели б уверен был – знаете корень зла, не пребываете в общем невежестве. Но вы же нисколько не проницательнее других. Даже мне, непосвященному, заранее известно, как поступите: мальчик убил своего отца – очевидный факт, значит, виноват мальчик и никто больше. Конечно, вы учтете и молодость, и смягчающие вину обстоятельства, я же видел, как вам хотелось, чтоб ружье самозарядилось… Нет, Сулимов, вы не желаете мальчику зла, но тем не менее не постесняетесь выставить его единственным виновником этого тяжелого случая. Ищете статью кодекса. А потому – отметай все подряд, даже признания тех, кто чувствует свою ответственность за преступление.
Сулимов вскочил из-за стола, пробежался по тесному кабинету, навис над Аркадием Кирилловичем, спросил:
– Вы ждете, чтоб я выкопал корень зла?
– Наивно, не правда ли?
– Да, детски наивно, Аркадий Кириллович! Злые корни ой глубоко сидят, до них не докопались академии педагогических и общественных наук, институты социологии, психологии и разные там… Да высоколобые ученые всего мира роются и никак не дороются до причин зла. А я-то всего-навсего рядовой работник милиции. Ну не смешно ли с меня требовать – спаси, старший лейтенант Сулимов! Что? Да человечество, не меньше! Пас, Аркадий Кириллович! Признаюсь и не краснею – пас!.. А того, кто меня станет уверять – мол, знаю корень, – сочту за хвастуна. Пожалуй, даже вредного. В заблуждение вводит, воображаемое за действительное выдает, мутную водичку еще больше мутит. Так что уж не обессудьте – мне придется действовать как предписано.
– То есть выставить пятнадцатилетнего Колю Корякина ответственным за гримасы, которые нам корчит жизнь?
– Конечно, я же бездушный милиционер, за ребрами у меня холодный пар, могу ли я жалеть мальчишку?..
– Не надо скоморошничать, – оборвал Аркадий Кириллович. – Я видел, как вам хотелось получить козырь в руки в виде не заряженного руками Коли ружья. Жалели его, но это не помешает обвинить его.
– Вы сами сказали: мальчик убил – очевидный факт. Не станете же вы от меня требовать, чтоб я его скрыл или выгодно извратил.
– Хотел бы, чтоб за этим очевидным фактом вы постарались увидеть не столь наглядно очевидное: мальчик – жертва каких-то скрытых сил.
– Одна из таких сил – вы?
– Не исключено.
– Ну так есть и более влиятельная сила – какое сравнение с вами! – растленный отец мальчишки! Вот его обещаю вам не упустить из виду, постараюсь вызнать о нем что смогу и выставить во всей красе. Если я этого не сделаю в дознании, всплывет в предварительном следствии.
– Всплывет, – согласился Аркадий Кириллович. – Только с мертвого взятки гладки.
Сулимов вздохнул:
– То-то и оно, на скамью подсудимых в качестве ответчика не посадишь, но смягчающим вину обстоятельством послужит. Только смягчающим! И даже не столь сильным, как неведение мальчишки о заряженности ружья.
Вздохнул и Аркадий Кириллович:
– Я вам нужен еще?
– Несколько слов о мальчике: как учился, как вел себя в школе, скрытен, застенчив, общителен, с кем дружил?..
Снова нахохлившись, уставившись в угол, Аркадий Кириллович стал не торопясь рассказывать: Коля Корякин был трудным учеником, неожиданно для всех изменился, причина не совсем обычная, даже сентиментально-лирическая – полюбил девочку…
Сулимов записывал.
Внизу, возвращая дежурному отмеченный пропуск, Аркадий Кириллович мельком увидел женщину в пузырящемся дорогом кожаном пальто, с легкомысленными вишенками на берете. Он так и не узнал в ней мать Коли Корякина…
Низкое небо придавило город, моросил дождь, по черным мостовым напористо шли машины – звероподобно громадные грузовики и самосвалы, мокро сверкающие легковые. Люди втискивались в автобусы, роево теснились возле дверей магазинов, скучивались у переходов. Город, как всегда, озабоченно жил, не обращая внимания ни на небо, ни на дождь, ни на страдания и радости тех, кто его населяет. И, уж конечно, событие, случившееся этой ночью в доме шесть по улице Менделеева, никак не отразилось на суетном ритме большого города. Стало меньше одним жителем, стало больше одним преступником – ничтожна утрата, несущественно приобретение.
14
Кто не бредил в детстве подвигами Ната Пинкертона и Шерлока Холмса? Григорий Сулимов после окончания института сам напросился, чтоб его направили в органы дознания. Шерлоки Холмсы и комиссары Мегрэ, романтические гении-одиночки криминального сыска, не совмещались с будничной, суетной работой городского угрозыска. Но и тут по-прежнему остаешься разведчиком преступлений, раньше всех определяешь их характер, пробуешь найти ключ к раскрытию – первооткрыватель в своем роде!
Сулимов выводил на чистую воду мошенников, отыскивал набезобразивших хулиганов, имел даже на своем счету одно раскрытое и довольно запутанное убийство – шофер сбил машиной забеременевшую от него девицу, сменил скаты, чтоб не уличили по следу… Сулимова еще пока считали «подающим надежды», отзывались снисходительно: «Грамотен, но верхним чутьем не берет». Верхним чутьем брали те, кто институтов не кончал, но проработал в уголовном розыске не один десяток лет.
И раньше Сулимову случалось натыкаться – нарушение закона налицо, но нарушителю невольно сочувствуешь, попал человек в клещи, лихое заставило. Однако его, Сулимова, долг – защита закона от любых нарушений, что будет, если такие, как он, станут руководствоваться личными симпатиями и антипатиями? Оправдывающих мотивов он старался не проглядеть, но чувства свои всегда держал в узде. Вот и сейчас он рассчитывал на одно – мальчишка схватился за ружье сгоряча, не знал, что оно заряжено. Расчет не оправдался… Этот учитель Памятнов предлагает переложить тяжелую вину мальчика на плечи других, в том числе и на свои собственные. Пристегнуть к преступлению неповинных людей – противозаконно да и бессовестно. Нет уж, что случилось, то случилось – мальчишка совершил убийство! Его жаль? Да! Твое личное, не впутывай это в службу, где не принадлежишь сам себе!
Единственное, что было в силах Сулимова, – разузнать по возможности подробнее о темной жизни убитого отца – Корякина. Чем темнее окажется эта жизнь, тем оправданней будет поступок сына…
Больше всех может порассказать о покойном Рафаиле Корякине его мать, та самая страховидная старуха, что кликушествовала на исходе ночи перед ним и учителем Памятновым. Сулимов уже потянулся к трубке, чтобы узнать адрес старухи, как телефон сам зазвонил… Снизу сообщили – явилась мать Николая Корякина, принесла ружье, слезно просит принять ее сейчас.
Его неприятно поразил ее наряд – дорогое неуклюжее пальто и претенциозные вишенки на берете, – но усохшее, изможденное лицо, стянутое мелкими тусклыми морщинками, запавшие, воспаленные глаза с истошным мерцанием и просящее, беззащитное выражение сразу заставили поверить: замученная, искренняя, ни капли наигрыша.
Корякина Анна Васильевна, 1937 года рождения, домохозяйка… Ей всего тридцать семь лет, но глядится уже старухой.
– Собиралась соврать вам… – Ловящий, с мольбой взгляд, голос виноватый, срывающийся, пальцы нервно теребят пуговицы. – Спешила к вам и думала: скажу, что я… я, а не Колька из ружья-то… Да ведь все равно же не поверите. Не научилась врать, хотелось бы – ох хотелось! – да не смогу… Может, покойный Рафаил еще и меня виноватее, но о нем-то чего теперь толковать… Ну а после него – я! Я к этой беде привела, не сын!
– Расскажите, как было.
– Как?.. – Она вся сжалась в просторном пальто, по сморщенному лицу пробежала судорога. – Гос-по-ди! Просто ли рассказать… Ведь это давно у нас началось, еще до Коленькиного рождения, можно сказать, сразу после свадьбы. Первый раз он побил меня на другой же день как расписались.
– И после шли постоянные пьяные побои?
– Может, и случался когда передых, но потом-то он всегда добирал свое.
– И в этот раз он ввалился пьяным… В каком часу?
– Поздно. Поди, в час, а то и в начале второго… Но не спали. Где там уснуть, когда шаги выслушиваешь… Ох-ох, всю-то жизнь я вечерами слушала да обмирала! Не любя женился, ненавидя жил…
– Да как же так не любя и поженились?
– Сама все время гадала, как это случилось. Он по Милке Краснухиной с ума сходил, а та от себя его оттолкнула да в мою сторону указала – вот, мол, кто тебе пара. Я, дура, согласилась. Молода была, девятнадцать только исполнилось. И одна как перст, даже в деревне родных не осталось… Первая моя дурость, да если б последняя… Все на моей глупости и замешалось.
– Он что – по этой Краснухиной тосковал?
– Прежде, может, и тосковал, да за двадцать-то лет прошло. Людмила в ту же пору замуж вышла, из Краснухиной Пуховой стала. Не-ет, просто ему втемяшилось – нелюба, а он такой: кого невзлюбит, жизни не даст. Другие-то от него посторониться могут, а то и постоять за себя. Я всегда у него под рукой, и характеру у меня никакого – вот и вытворял. Я всяко пыталась – ублажала, сапоги с пьяного стаскивала. Только от покорности моей он еще пуще лютовал. Бесила покорность. А коли возражу, ну тогда и совсем: «Ты, тварь, дышать не смей, не только голову подымать!» Тварь – это еще ласково…
– Н-да, рисуночек.
– А в эту ночь он стол толкнул, на нем ваза стояла… Хорошая ваза, сам покупал. Не думайте, что он недомовит был. Даже пьяный о доме вспоминал, если, конечно, не шибко пьян, что-то купит, принесет… Ну а потом осатанеет – бьет. Да и то, пожалуй, с расчетом – тарелки смахнуть ничего не стоит, а вот телевизор ни разу не тронул…
– Так что с этой вазой?
– Столкнул он ее, а я ойкнула, не удержалась. «Ах, жаль тебе!..» И набросился, а тут Колька… Колюха давно уже стал встревать промеж нами…
– Он стращал отца, что убьет?
Анна не ответила, уставилась в пол, мертвенная бледность отчетливей означила морщинки на усохшем лице.
– Говорите все как есть, – строго приказал Сулимов.








