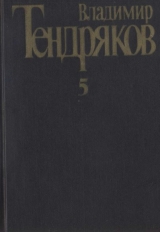
Текст книги "Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести"
Автор книги: Владимир Тендряков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Дом номер 101 оказался напротив автобусной остановки – «с калиткой ветхою, обрушенным забором…». При дождливом рассвете ее обиталище поразило меня своей неприкаянной ветхостью и заброшенностью: щербатая, обморочно запрокинувшаяся изгородь, неряшливо клочковатые, обнаженные кусты, ржавая осевшая железная крыша за ними. И сама калитка болезненно перекошена, как физиономия алкаша, хватившего на опохмелку ту самую первую, которая «колом». И пронизывающая серая мгла, все мокро, черно, разбухло, поникло от промозглой сырости.
Весь этот конец Молодежной улицы выглядит запущенным, несовременно нищенским. На нем печать обреченности, никто здесь не ремонтирует свои дома, не поправляет заборы, хозяйские руки уже не прикасаются ни к чему – ни свежевыструганной доски, ни пятна яркой покраски, тусклота, кособокость, подпорки. Здесь не живут, а доживают.
Скоро ревущие бульдозеры, подымая облака пыли, свалят эту вековую бревенчатую труху, сметут с земли, освободят путь наступающему городу. И жители этого провинциального конца Молодежной улицы станут самыми обычными горожанами, для которых водопроводный кран заменит скрипучий колодезный ворот, газовая плита – печь с челом, лоджия или балкон – крылечко-веранду. А дом под номером 101, пожалуй, обветшалей других. У меня сжалось сердце: вот как выглядит снаружи Майкино счастье – перекошено и обречено!
Я стоял под навесиком автобусной остановки. Появлялись люди, ждали вместе со мной, исчезали с подходившими автобусами. Навес плохо спасал от дождя, я промок, продрог, ветер насквозь продувал меня. И в шагах двадцати, за черным, тускло отсвечивающим шоссе, за широкой лужей на обочине страдальческая калитка, ведущая в обиталище счастья, похожее на заброшенный пустырь. Да не ошибка ли? Может ли Майя жить в такой заброшенности? И есть ли тут вообще живая душа?.. Но не мог же Иван Игнатьевич дать мне ложный адрес. Я мерз и ждал, подходили и уходили автобусы, оставляя меня в одиночестве. А время тянулось и тянулось, а дождь лил и лил, день давным-давно уже вызрел, мокро поникший день, какой-то тусклолуженый. Конца ему не было.
Первое шевеление жизни за заборчиком я, как ни странно, проглядел. Увидел Гошу Чугунова, когда он вынырнул из-за кустов, завозился, открывая перекошенную калитку. Он вышел и остановился перед разлившейся лужей – в мешковатой поролоновой куртке, в кургузой кепчонке, слишком легкомысленной даже для его невнушительной бороденки.
Тяжелый грузовик с двумя прицепами, угрожающе устремленный, закрыл на секунду от меня Гошу, и, когда, овеянный брызгами, с ветром прогромыхал мимо, я увидел рядом с Гошей ее… Голова закутана в шерстяной платок, воротник плаща поднят, плечи вздернуты – непривычного облика, слишком простовата, ни дать ни взять аборигенка этой городской провинции, никак не та Майя, которую я видел недавно.
Ну, вот и свершилось.
Глубоко засунув руки в карманы плаща, я двинулся наискосок через дорогу, чтоб обойти лужу и встать лицом к лицу с ней. Зверовидно громадный МАЗ взвизгнул тормозами, вильнул, обдал меня водяной пылью, с негодующим ревом ушел.
Они узнали меня, когда я подошел вплотную.
Из-под платка, скрывающего брови, распахнулись глаза – сплошные немотно изумленные зрачки. И до горловой спазмы трагически надломленные губы. В трех шагах от меня, подойти ближе уже не смог – перестали слушаться ноги.
Я хотел ей сказать, что колокольчик прокаженного звенит надо мной… Но я вгляделся в ее разверстые, остановившиеся глаза и в них увидел себя – мокрого, окоченевшего до мертвенности, измученного ожиданием, раздавленного страхом перед ней. Нужно ли ей говорить, она знает все, ничего не открою. Наверняка она знала и до этой встречи… Имела ли то высокое счастье, в каком она с горящим лицом уверяла недавно мать и отца? Может быть… Она лишь скрыла тогда, что это ее высокое отравлено мною – думает, изводится оттого, что я ею брошен в проказе… Я там, за семейным столом, не выглядел столь жалким, потому набралась сил и скрыла…
Сейчас ее губы гнулись, ресницы вздрагивали, а глаза плавились. А я стоял и ничего не мог выдавить из себя. Молчание сгущалось и давило, звон в ушах, трудно дышать. Она не смела и не считала своим правом оборвать это молчание, я понял, будет терпеть, пока в силах держаться на ногах. Я явился, я и обязан что-то сказать, сделал над собой усилие и сам поразился своему неподатливо-хриплому, простуженно-шершавому голосу:
– Мне… Мне надо посмотреть на тебя, Майка… Я уйду… Я только взгляну… Я начинаю видеть тебя всюду… Мерещишься… Я, кажется, схожу с ума, Майка…
И губы ее побелели, скулы окаменели, а из расплавленных глаз хлынуло – даже не страдание, а что-то покорное, униженное, почти собачье.
Все! Свершилось!.. Я понял это и не удивился, не обрадовался. Не слова, нет, а сам звук моего больного голоса сломал ее. Теперь она уже вместе со мной станет сходить с ума.
Мне нужно сейчас повернуться и уйти, оставить ее один на один с Гошей, со счастливым Гошей, столь непохожим на меня. И Гоша станет ей чужим, а со временем – ненавистным.
Следовало уйти, но оторвать себя от нее я не мог. Стоял, мучился, мучил ее. Не слушались ноги.
И тут выступил он.
– Старик, – сказал он, и борода его раздвинулась в широкой улыбке, светлые глаза смотрели дружески, прямо и просто, а голос задушевен и торжествен. – Что делать, старик, мы любим друг друга.
До сих пор мне было не до него – рядом Майя, ничего не существовало, кроме нее: Майя, ее глаза, ее побелевшие губы. Теперь пришлось повернуться к нему. Сухое лицо стало как будто поглаже, борода поопрятней, не столь клочковата, и глаза светлые, непорочно чистые, гляди не гляди, ни тени в них, ни пятнышка – сквозные. И узкие плечи его горделиво разведены под просторной, словно надутой, курткой, и на тонкой шее вздрагивает не закрытый бородой острый кадычок – ничуть не взволнован, не растревожен, весь нараспашку, правый человек, готовый ко всепрощению и отзывчивости. Дружеская улыбка и… «Что делать, старик, мы любим друг друга». Явно без всякой задней мысли, со святой убежденностью.
Он даже и не подозревает о своей жестокости. Все видел, все слышал – перед тобой же человек с оскверненной жизнью! Хоть на секунду ощути свою вину, хоть посочувствуй. Нет! «Что делать, старик…» Делать нечего, так тому и быть. И при этом готов любить от души… Вот так, любя, с простецкой улыбкой пройдет по костям другого и не поймет. «Что делать…»
Никогда прежде не испытывал к нему ненависти. Сейчас она вспыхнула внезапно, ослепила и помутила.
Только что мы стояли друг против друга – один шаг. Он открыто и дружески улыбался всей бородой, а я таращил на него глаза. Не помню, как я шагнул вперед, помню лишь, как мой кулак встретил его улыбку… Что-то хрустнуло под моим кулаком, и он свалился.
Раздался надсадно-раненый вопль. Перед моими глазами оказались ее безумные глаза, растянутый рот, бледное, искаженное от ненависти ее лицо.
– Т-ты!! Т-ты!! Под-лец!
Сбитый с ног Гоша неуклюже пытался утвердиться на четвереньках, и борода его на длинной тонкой шее пьяно покачивалась над грязной землей.
– Т-ты!! Бей!! Меня бей!! Меня!!!
Я не мог выдержать опаляющей ненависти, отвернулся, вяло и тупо пошел прочь сквозь дождь.
Удивительно, в эту минуту я отстраненно и трезво замечал все, что происходило кругом: взъерошенная дворняга подымала на забор лапу, горбатенький «Запорожец» старого выпуска промчался по шоссе в мутном облачке брызг, с автобусной остановки взирала на нас женщина с кошелкой.
Дома на кухонном столе лежал оторванный листок календаря – 29 ноября, пятница. Сегодня полное затмение луны…
Ее искаженное гневом и ненавистью лицо: «Подлец!! Меня бей!! Меня!!!» А за минуту до этого она меня любила. Почти любила… И: «Под-лец!!» И Гоша, ползающий по грязной земле, борода, качающаяся на тонкой шее…
Если бы он хоть имел такие же широкие плечи, как у меня. Нет, худ, тощ, никак не кулачный боец. Бил слабого! А я был всегда убежден: лучше его, заполненней, честней, добрей. Добрей?! И кулаком так, что хрустнуло.
Кровь ударила в голову… Кровь туземцев деревни Полянка, где запутанные сердечные дела парни извечно решали кулаками.
Не греши на родную деревню. Взыграла злоба, слепая и бессмысленная, жившая в твоей глубине. Взыграл зверь, который в тебе прячется!
«Под-лец!!»
Вот и конец всему! Она уже не вернется – ни скоро, ни через год, ни через десять лет!..
Шел затяжной, ровный, холодный дождь за окном. Сумерки сгустились, день угас. Меня знобило, я сегодня еще ничего не ел. Моя человечья оболочка продолжала жить, хотела согреться, просила горячего чая. Я послушно встал, зажег газ под чайником, включил свет.
Листок отрывного календаря передо мной – 29 ноября, пятница… Буду помнить этот проклятый день.
«Луна будет находиться в созвездии Тельца, над звездным скоплением Гиад… около Альдебарана…» Сейчас без пяти минут пять. Затмение уже началось.
Дождь за темным окном, обложной дождь над городом. Где-то там, над дождем, в кажущемся соседстве с далекой звездой Альдебаран затемняется наш величественный спутник. Где-то взрываются светила, гибнут и рождаются миры. Никому нет до этого дела на нашей Земле, кроме ученых чудаков, вроде академика Маркова. Дождь, дождь над нами, скрывающий вселенную…
Тот же дождь сейчас идет и над Настиным омутом. И уже не кричат там потусторонними голосами лягушки. У нее было прозрачное русалочье лицо…
С затмения Луны у нас началось, затмением кончилось. А оказывается, эти затмения происходят куда чаще, чем я думал.
Да пусть всегда исходит на меня твой свет!
Да будешь ты вечна…
Вечность оказалась смехотворно короткой – от одного затмения до другого.
И остался для меня лишь один вечный вопрос: может ли человек понять человека, человек человека уважать и любить?
День закончен. Пережил его, переживу вечер, лягу спать. И ко мне, должно быть, снова явится незнакомец, всепонятливый, сострадающий призрак кого-то, живущего в стороне.
Может ли человек понять человека, человек человека уважать и любить? Может, есть такие, да наяву их встретить трудно – призрачны.
29 ноября, пятница. На земле дождь, а в небесах очередное событие… над скоплением Гиад, около звезды Альдебаран. Недосягаемо далека, как эта звезда, для меня Майя. А ее-то близость и делала мне близким весь, мир, все человечество. Что же, жить удаленным от всех?..
Полное для меня затмение.
………………………………………………………………
Затмения преходящи. Пусть найдется такой, кто бы не проходил сквозь них.
Переплетены люди между собой. Проросли люди друг в друга многими, многими связями. А самая простейшая, самая короткая человеческая связь – Он и Она! – начало всему. В ней прочность нашего бытия. Тут чаще всего у нас рвется. Тут каждый проходит экзамен на проникновенность – он в нее, она в него! Пойми и признай человека, единственного из всех, назначенного делить с тобой путь. Пойми! Нет, трудно.
Воистину: за понимание друг друга люди платят кровью и кусками жизни.
Мы оба заплатили сполна.
1977
Расплата
Повесть
Часть первая1
В глубине дома номер шесть по улице Менделеева во втором часу ночи раздался выстрел. Дверь квартиры на пятом этаже распахнулась, из нее вырвалась растерзанная, простоволосая женщина с ружьем в руках, ринулась вниз по лестнице, кружа с этажа на этаж, задыхаясь в бормотании:
– Бож-ж мой!.. Бож-ж мой!.. Бож-ж-ж!..
Спящий город уныло мок под дождем, расплывшиеся фонари, держа на себе громаду холодной и сырой ночи, уходили вдаль, в черную преисподнюю. Женщина с ружьем, отбежав от подъезда, остановилась, дико оглянулась.
Дождь вкрадчиво шептал, дом уходил в небо черной глыбой (темней дегтярной ночи), лишь с дремотной усталостью тускло светились окно над окном по лестничным пролетам да высоко, на пятом этаже, горели ясно и ярко еще два окна. Выстрел никого не разбудил.
Женщина издала стон и, прижимая ружье, бросилась по пустынной улице под фонарями, по лужам на асфальте, в кухонном развевающемся халатике, в тапочках на босу ногу:
– Бо-ож-ж мой!.. Бо-ож-ж!..
Дверь квартиры, откуда выскочила женщина, стояла распахнутой, из нее на сумеречную лестничную площадку щедро лился ровный свет. В этот заполуночный час, когда все запоры замкнуты, одна семья старательно укрылась от другой, огромный дом от фундамента до крыши коченел в обморочной каталепсии, разверстая светоносная дверь могла бы испугать любого – вход в иной мир, в потустороннее, в безвозвратность! Но пугать было некого, все кругом спали…
В дверях появилась тень по-теневому бесшумно, тонкая, угловато-ломкая – насильственные, неверные движения незрячего существа. Человек-тень остановился на пороге, ухватился рукой за косяк. Казалось, его, потустороннего жителя, страшил этот оглушающе тихий, спящий мир. Наконец он собрался с духом и шагнул вперед – долговязый парнишка в майке и узких джинсах, тонкие ноги с неуклюжей журавлиной поступью.
Посреди лестничной площадки он снова остановился, недоуменно оглядываясь, – три двери были бесстрастно глухи. Парнишка судорожно вздохнул, двинулся дальше. Осторожно, робея, как слепой, вниз ощупью по ступенькам лестницы, шорох его шагов срывался вниз, на дно лестничного колодца.
Он спустился всего на один этаж, толкнул себя к обитой черным дерматином двери и встал, тупо уставясь. Тишина, сковывающая весь дом, сковала и его. Он слезно задремал стоя, минуту, может больше, не шевелился. Наконец с усилием выпрямился и нажал на кнопку. За обитой дверью, за глухой каменной стеной послышался въедливо живой звук звонка. Парнишка зябко передернул голыми плечами и снова оцепенел. Ни шороха, ни скрипа, тяжелое молчание дома. Он вновь заставил подняться непослушную руку, на этот раз звонок долго сверлил закованную в бетон тишину.
Смачно дважды щелкнул замок, дверь приоткрылась.
– Кто тут?.. – сиплый со сна, недоброжелательный мужской голос.
– Это я… – с конвульсивным выдохом.
Досадливое короткое кряканье, выразительное, как ругательство, и обреченное. Дверь распахнулась – твердый подбородок в суточной щетине, насупленный лоб, но выражение длинного, помятого сном лица брюзгливо-кислое и голос сварливый, нерешительный:
– Опять у вас кошачья свадьба?
– Василий Петрович, я… – У парнишки судорогой свело челюсти.
– Сами покою не знаете и другим не даете…
– Я отца убил, Василий Петрович!
Василий Петрович распрямился в дверях – в сиреневой трикотажной рубашке, узкоплечий, высокий, нескладно костистый, с заметным животиком, выступающим над полосатыми пижамными брюками. Он втянул в себя воздух и забыл выпустить, мелкие глаза стали оловянными, стылыми. А парнишка тоскливо отводил взгляд в сторону.
– Милицию бы вызвать, Василий Петрович…
И мужчина очнулся, рассердился:
– Милицию?.. Ты шуточки шутить среди ночи!.. Чего мелешь?..
– Я… его… из ружья.
За спиной Василия Петровича всплеснулся вихревой шум, вспыхнул яркий свет, мелькнули пружинно вскинутые тонкие косички, бледное лицо в болевой гримаске, тонкая рука, стягивающая ворот халатика у горла.
– Коля! Что?!
Василий Петрович попытался загородить собой парнишку:
– Марш отсюда! Без тебя!.. Без тебя!..
– Что, Коля?!
Коля молчал, гнул голову, прятал лицо.
– Сонька! Кому сказано – не суйся!
– Ко-ля!!
– Соня… Я – отца… Милицию бы…
– Папа, что он?.. Скажи, папа!
– Эдакое в чужой дом нести… Стыда у них ни на грош! – снова сварливо-бабье, беспомощное в голосе Василия Петровича.
Из глубины квартиры выплыла женщина в косо натянутом платье – спутанные густые волосы, лицо сглаженное, остановившееся, бескровная маска.
– Мама! – кинулась к ней Соня. – У них что-то страшное, ма-ма!
– Но почему он к нам? Что мы, родня ему близкая?
– Мама!!
И мать Сони слабо вступилась:
– Да куда же ему идти, Вася?
Парнишка глядел в пол, зябко тянул к ушам голые плечи.
– Василий Петрович, в милицию… позвоните.
За спиной Василия Петровича мелькнули пружинные косички, повеяло ветерком от разметнувшихся пол халатика, Соня кинулась в глубь прихожей, раздался мягкий стрекот телефонного диска.
– Алло! Алло! – высокая, на срыве колоратура. – Аркадий Кириллович, это я, Соня Потехина!.. Аркадий Кир-рил-лович!.. – Всхлип со стоном. – У Коли Корякина… Приезжайте, приезжайте, Аркадий Кириллович! Скорей приезжайте!..
Соня звонила не в милицию, а их школьному учителю.
А по темному, мокрому, пустынному городу бежала женщина в халатике, прижимая к груди ружье. Слипшиеся от дождя волосы закрывали лицо.
– Бо-ож-ж мой… Бо-ож-ж!..
2
Аркадий Кириллович жил неподалеку – всего какой-нибудь квартал, – но как, однако, неуклюж и бестолков бывает внезапно разбуженный человек, за десятилетия мирной жизни отвыкший вскакивать по тревоге. Пока опомнился, осмыслил, ужаснулся, пока в суете и спешке одевался – носки проклятые запропастились! – да и резво бежать под дождем в свои пятьдесят четыре года уже не мог, вышагивал дергающейся походочкой.
Дом по-прежнему спал, по-прежнему вызывающе светились лишь два окна на пятом этаже.
Из подъезда выдвинулся человек – угрожающе массивный, утопивший в плечах голову, – полуночный недобрый житель. Приблизившись вплотную, он заговорил плачущим, зыбким голосом:
– Дети – отцов! Дети – отцов! Доучили!..
– Кто вы?
– Не узнали?
– Василий Петрович!
Где тут узнать. Отец Сони Потехиной в просторной дошке с меховым воротником, делавшей его внушительно плечистым.
– Все-таки помните – и на том спасибо. Я вот вас встречать выбежал…
Натянутый на лоб берет, невнятный в темноте блеск глаз и то ли раздраженный, то ли просто раздерганный голос.
– …встречать выбежал, чтоб поделиться: был там, видел! Дети – отцов! Дети – отцов! Конец света!..
– «Скорую» вызвали?
– Нужна теперь «Скорая», как столбу гостинец. В упор разнес… В самое лицо, паршивец… Сын – в отца!
– Пошли! Вдруг да помочь можно.
– Ну не-ет! С меня хватит. Не отдышусь… А вы полюбуйтесь, вам ох как нужно! Авось да поймете, что я теперь понял.
– О чем вы?
– О том, что страшненькое творите. Такой хороший, такой уважаемый, тянутся все – советик дайте… Очнуться пора!
– Ничего не пойму.
– Конечно, конечно… Может, потом поймете. Сильно надеюсь! – Василий Петрович вцепился в рукав, приблизил к лицу Аркадия Кирилловича дрожащий подбородок, жарко дыхнул: – Ненормальными дети растут. Не замечали? И Сонька моя тоже ненормальная…
Аркадий Кириллович с досадой освободился от его руки:
– Отложим выяснения. Теперь не время!
– Не время, нет! Поздновато. Случилось уже, назад не вернешь. Раньше бы выяснить!..
Последние слова Василий Петрович уже кричал в спину учителя.
Темные лестничные пролеты выносили Аркадия Кирилловича на скупо освещенные площадки – первый этаж, второй, третий… Он поднимался, и росла неясная тревога, вызванная неожиданной встречей с Василием Петровичем, – похоже, упрекал его, и с непонятным раздражением. До сих пор гнало одно – стряслось несчастье, нужна помощь! И спешил, не спрашивая себя – чем поможет, что сделает? Сейчас с каждым шагом наваливалось смутное ощущение – откроется неведомое, оборвется привычное. Впервые пришла оглушающе простая мысль – его ученик убил! Странно, что сразу не оглушило – его ученик! Не связывал с собой…
А с Василием Петровичем Потехиным он был в хороших отношениях, знал его даже не только как родителя одной из учениц, не так давно принимал участие в его судьбе, выслушивал жалобы, давал советы, направлял к нужным людям… Потехин раздражен – непонятно.
После крутой лестницы заколодило дыхание и сердце нервно билось в ребра. Аркадий Кириллович остановился на последнем этаже.
Перед ним распахнутая дверь, из которой щедро лился свет. Кусок паркетного пола с половичком, кусок стены, обклеенной бледными обоями, с какой-то журнальной картинкой синее с красным, что-то сочное, но не разберешь издалека. Кусочек обжитого мирка, каких больше сотни в этом доме, сотни в соседних домах, сотни тысяч во всем городе. И каждый наособицу. Семьи, как люди, несхожи друг с другом. Вход в мир? Да нет, этот мир уже рухнул. Он стоит в пяти шагах от катастрофы. И с новой силой охватило тяжелое, почти суеверное предчувствие – стоит шагнуть ему в эту распахнутую дверь, как его жизнь, налаженная, устоявшаяся, сломается. За этой ярко освещенной дверью его ждет не только покойник, а и ещё что-то неведомое, опасное, от чего можно уберечься, только отступив.
Но что-то пригнало же его к этой двери, что-то властное, среди ночи. Отступить не может.
Отдышавшись, Аркадий Кириллович двинулся к двери, заранее испытывая и брезгливость и подмывающее возбуждение – окунается в атмосферу преступления, о какой много приходилось читать, но самому окунаться – ни разу.
Картинка, висевшая на стене против входа, – реклама, вырезанная из иностранного журнала: у синего моря, на оранжевом пляже красная, зализанная, устрашающе длинная машина с откидным верхом, возле нее улыбалась всеми зубами загорелая поджарая блондинка в предельно скудном купальнике.
В конце коридора у дверей в комнату – тоже распахнутых, входи! – валялась мужская туфля, нечищеная, поношенная, с крупной ноги. Аркадий Кириллович осторожно перешагнул через нее.
Он в свое время видел немало убитых – речка Царица в Сталинграде была завалена смерзшимися, скрюченными трупами в уровень своих обрывисто-высоких берегов. Но там мертвые – часть пейзажа искромсанного, изуродованного, спаленного и… привычного.
Здесь же ярко, заполночным бешеным накалом горела под потолком люстра с пылающими хрустальными подвесками и напоенный яростным светом воздух застыл в тягостной неподвижности. Парадно большой телевизор в сумрачной лаковой оправе взирал слепо и равнодушно плоской туманно-серой квадратной рожей. Широкая кровать бесстыдно смята, одна из подушек валялась на полу. И всюду по сторонам сверкают осколки разбитой стеклянной вазы.
А под переливчатой накаленной люстрой через всю комнату наискосок – он, распластанный по полу, удручающе громоздкий. Тонкая, синтетически лоснящаяся рубашка обтягивает широкую мощную спину, голова в кудельных сухих завитках волос прилипла к черной, до клейкости густой луже на паркете. От нее прокрался под раскоряченные ножки телевизора столь же дегтярно-черный, вязко-тягучий ручеек. И торчащие крупные ступни в несвежих бежевых носках, и одна рука неловко вывернута в сторону, мослаковатая, жесткая, с изломанными ногтями – рабочая рука. Аркадий Кириллович почувствовал подымающуюся тошноту; в помощи этот человек уже не нуждался.
3
То была их вторая встреча.
Года три назад Аркадий Кириллович поднялся в эту комнату (тогда она выглядела обычно и совсем не запомнилась). Коля Корякин – еще шестиклассник – плохо учился, вызывающе грубил учителям, часто срывался на истерику. И тогда-то в школе заговорили: у мальчика неблагополучная семья, отец пьет, скандалит, сыну приходится прятаться от него по соседям. Надо было принимать какие-то меры, и, как всегда, срочно. Меры, а какие?.. В распоряжении школы есть всего одна, прекраснодушно-ненадежная – поговорить с непутевым родителем, воззвать к его совести. Никакой другой силой влияния учителя не наделены.
За эту не сулящую успеха операцию никто не брался – взялся он, Аркадий Кириллович.
Он явился утром в воскресенье с расчетом, чтоб не напороться на пьяного отца. Перед ним предстал рослый мужчина, еще заспанный, в нательной рубахе не первой свежести, со спутанной соломенной волосней, с тем ошпаренным цветом лица, который бывает лишь у особого типа блондинов. Само же лицо, правильное, с твердым крупным носом, плоским квадратным подбородком, выражало затаенное брезгливое страдание – след похмелья, – выбеленно-голубые, на парной красноте глаза были увиливающе-угрюмы.
Аркадий Кириллович сразу понял, что этого человека никакими увещеваниями не проймешь, вежливость он примет за робость, искренность – за желание обмануть, сострадание к сыну – за притворство. И потому Аркадий Кириллович заговорил со спокойной категоричностью, за которой должна была чувствоваться расчетливая агрессия, дающая понять – грубости не потерплю, возражений в повышенных тонах слушать не буду.
– Если в семье обстановка не изменится, – заключил он короткую и энергичную декларацию, – жизнь вашего сына окажется искалеченной. Хотите взять на свою совесть эту вину?
Темные губы скривились, белесые глаза убежали в сторону, упрямое, вызывающее выражение – видали мы таких праведничков! – не вызрев, скисло на воспаленной физиономии, лишь раздраженность прорвалась сухим скрипом в голосе:
– Мое дело – накормить и обуть. Голодом мой сын не сидит, нагим не ходит. А воспитывать там – ваша забота, вам за это держава деньги платит.
Спорить и доказывать бессмысленно. Аркадий Кириллович встал, стараясь поймать увиливающий взгляд, жестко произнес:
– Зарубите себе на носу: случится что с вашим сыном, нам даже не придется предъявлять особые доказательства вашей вины. Они слишком очевидны, так что – берегитесь!
Корякин-отец не взвился – стерпел, поверил в угрозу. Хотя какая там угроза, ни Аркадий Кириллович, ни школа ничем его не могли наказать. Детское воспитание подавляюще зависит от родителей, а родители же полностью независимы от педагогов. Но в ту минуту Корякин-отец был трезв, а значит, и не храбр.
Встречаться вновь нужда отпала – Коля Корякин вдруг резко изменился, из трудных учеников стал нормальным.
И вот – плашмя поперек комнаты, вязкая лужа крови на паркете… Сын – отца.
Аркадий Кириллович вздрогнул – в мертвой комнате неожиданно раздался хрип!.. Но хрип взорвался громоподобным звоном – бом-м! бом-м! бом-м! Часы на стене в черном длинном деревянном футляре отбили три часа ночи. Они одни втихомолку жили в этой комнате, в застекленном оконце мелькал ясный лик маятника. Сразу же стало слышно размеренное тиканье – скупые, вкрадчивые и неумолимые шажки времени.
И Аркадий Кириллович очнулся: а, собственно, почему он здесь? Зачем ему видеть этот труп, испытывать тошноту? Он же сорвался с постели ради того, кто пока жив, – Коли Корякина, своего ученика. Коля находится этажом ниже… Страшный и простой факт, которому он все еще не осмеливается верить, – вот под яростно пылающей люстрой жертва… его ученика! Учил Колю Корякина не биному Ньютона, не далеким крестовым походам, а тому, как страдали за людей Пушкин, Толстой, Достоевский…
Оказалось, надо совершить усилие, чтоб отвернуться от убитого. Аркадий Кириллович, волоча непослушные ноги, двинулся прочь, старательно переступил через разношенную туфлю на пороге комнаты, прошествовал мимо соблазнительно улыбающейся блондинки у синего моря, но у распахнутой в спящий мир двери повернул… на кухню. Не готов к встрече. Надо – пусть не понять – хотя бы обрести равновесие.
Кухня уютно-тесная, белая, оскорбительно покойная, прибранностью и порядком притворяющаяся – не ведает, что случилось рядом за стеной. Узенький столик у стены покрыт клеенкой с веселыми цветочками. Аркадий Кириллович тяжело опустился за него.
4
Женщина с ружьем оказалась почти на окраине города, в новом районе, где дома без конца повторяют друг друга, где фонари реже, дождь, кажется, сыплет гуще, закоулки темней, а ночь глуше, неуютней, безнадежней.
Женщина свернула за угол одного ничем не отличающегося от других пятиэтажного здания, тихо постанывая: «Бож-ж… Бож-ж…» – протрусила наискосок через просторный двор, оказалась у флигелька, каким-то чудом уцелевшего с прежних, дозастроечных времен, сохранившего среди утомительно величавого стандарта свою физиономию, облупленную, скривившуюся, унылую.
Женщина пробарабанила в окно, и оно, помешкав, вспыхнуло, вырвав из тьмы одичавшее, залепленное мокрыми волосами лицо, зловеще залоснившиеся стволы ружья…
Маленькая комнатушка была беспощадно освещена свисавшей с потолка голой лампочкой. Переступив порог, женщина с грохотом выронила ружье, бессильно опустилась на пол, и сиплый, гортанный полукрик-полустон вырвался из ее горла.
– Тихо ты! Соседей побудишь.
Рослая старуха, впустившая ее, глядела сонно, недобро, без удивления.
– Ко-оль-ка-а!.. Отца-а!.. Насмерть!
Женщина надсадно тянула худую шею в сторону старухи, сквозь волосы, запутавшие лицо, обжигали глаза.
Старуха оставалась неподвижной – пальто, наброшенное на костлявые плечи поверх ночной рубахи, босые, уродливые, с узловатыми венами ноги, жидкие, тускло-серые космы, длинное, с жесткими морщинами, деревянное лицо – непробиваема, по-прежнему недоброжелательна.
– Евдокия-а! Колька же!.. Отца!.. Из ружья!..
Легкое движение вскосмаченной головой – мол, понимаю! – скользящий взгляд на двустволку, затем осторожно, чтоб не свалилось пальто, старуха освободила руку, перекрестившись в пространство, неспешно, почти торжественно:
– Царствие ему небесное. Достукался-таки Рафашка!
Всем телом женщина дернулась, вцепилась обеими руками себе в горло, забилась на полу:
– В-вы!.. Что в-вы за люди?! Кам-ни-и! Кам-ни!! Он никого не жалел, и ты… Ты – тоже!.. Ты же мать ему – слезу хоть урони!.. Камни-и-и бесчувственные!!
Старуха хмуро глядела, как бьется на полу рядом с брошенным ружьем женщина.
– Страш-но-о!! Страш-но-о среди вас!!
– Ну хватя, весь наш курятник переполошишь.
Тяжело ступая босыми искривленными ногами по неровным, массивным, оставшимся с прошлого века половицам, старуха прошла к столу, налила из чайника воды в кружку, поднесла к женщине: – Пей, не воротись… Криком-то не спасешься.
Женщина, стуча зубами о кружку, глотнула раз-другой – обмякла, тоскливо уставилась сквозь стену, обклеенную пожелтевшими, покоробленными обоями.
– Дивишься – слезы не лью. Оне у меня все раньше пролиты – ни слезинки не осталось.
Минут через пятнадцать старуха была одета – длинное лицо упрятано в толстую шаль, пальто перепоясано ремешком.
– Встань с пола-то. И сырое с себя сыми, в кровать ляг, – приказала она. – А я пойду… прощусь.
По пути к двери она задержалась у ружья:
– Чего ты с этим-то прибегла?
Женщина тоскливо смотрела сквозь стену и не отвечала.
– Ружье-то, эй, спрашиваю, чего притащила?
Вяло пошевелившись, женщина выдавила:
– У Кольки выхватила… да поздно.
Старуха о чем-то задумалась над ружьем, тряхнула укутанной головой, отогнала мысли.
– Кольку жаль! – с сердцем сказала она и решительно вышла.
5
Он считал: педагог в нем родился одной ночью в разбитом Сталинграде.
Кажется, то была первая тихая ночь. Еще вчера с сухим треском лопались мины среди развалин, путаная канитель пулеметных длинных и лающе-коротких автоматных очередей означала линию фронта, и дышали «катюши», покрывая глухими раскатами изувеченную землю, и на небе расцветали ракеты, в их свете поеживались причудливые остатки домов с провалами окон. Вчера была здесь война, вчера она и кончилась. Поднялась тихая луна над руинами, над заснеженными пепелищами. И никак не верится, что уже нет нужды пугаться тишины, затопившей до краев многострадальный город. Это не затишье, здесь наступил мир – глубокий, глубокий тыл, пушки гремят где-то за сотни километров отсюда. И хотя по улицам средь пепелищ валяются трупы, но то вчерашние, новых уже не прибавится.








