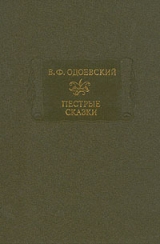
Текст книги "Пестрые сказки"
Автор книги: Владимир Одоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Критик. Какая цель вашей сказки?
Автор( униженно кланяясь). Рассказать ее вам.
В бытность свою в городе Реженске покойная моя бабушка была свидетельницею одного странного происшествия: будучи уверен, что публике необходимо знать все, что касается до меня или до моих родственников и знакомых, я расскажу сие происшествие со всею подробностью, как мне его рассказывали, и, по моему обыкновению, не прибавляя от себя ни единого слова.
Много лет тому назад находился в нашем городе в звании городничего отставной прапорщик Иван Трофимович Зернушкин. Давно уже исправлял он эту должность, – да и не мудрено: все так им были довольны – никогда он ни во что не мешался, позволял всякому делать, что ему было угодно, зато не позволял никому и в свои дела вмешиваться. Некоторые затейники, побывавшие в Петербурге, часто приступали к нему с разными, небывалыми у нас и вредными нововведениями; они, например, толковали, что не худо бы осматривать, хотя изредка, лавки с съестными припасами, потому что реженские торговцы имели, не знаю отчего, привычку продавать в мясоястие баранину, а в пост рыбу, да такую, прости Господи! – что хоть вон беги с рынка; иные прибавляли, что не худо бы хотя песку подсыпать по улицам и запретить выкидывать на них всякий вздор из домов, ибо от того будто бы в осень никуда пройти нельзя и будто бы от того заражается воздух; бывали даже такие, которые утверждали, что необходимо в городе завести хотя одну пожарную трубу с лестницами, баграми, топорами и другими вычурами. Иван Трофимович на все сии неразумные требования отвечал весьма рассудительно, остроумно и с твердостию. Он доказывал, что лавочники никому своего товару не навязывают и что всякий сам должен смотреть, что покупает; что одни лишь пустодомы да непорядочные люди могут требовать от городничего наблюдения за таким делом, которое должна знать последняя кухарка. Касательно мостовой он говорил, что Бог дает дождь и хорошую погоду и, видно, уж такой от Него положен предел, чтобы осенью была по улицам грязь по колено: сверх того, добрые люди сидят дома и не шатаются по улицам, а когда русскому человеку нужда, так он везде пройдет. Если бы, прибавлял он, на улицу ничего не выкидывали, свиньям бедных людей нечего было бы есть в осеннее и зимнее время. Что касается до воздуха, то воздух не человек и заразиться не может. Относительно пожарной трубы Иван Трофимович доказывал, что таковой и прежде в городе Реженске не имелось, а ныне, когда три части оного уже выгорели, для четвертой нечего уже затевать такие затеи; что, наконец, он, карабинерного полка отставной прапорщик Иван Трофимов сын Зернушкин, уже не первый десяток на сем свете живет и сам знает свою должность исправлять, городом управлять и начальству отвечать. Такие благоразумные и неоднократно повторенные рассуждения скоро закрыли уста затейникам, особенно, когда однажды, в сердитый час, Иван Трофимович присовокупил, что его, городничего, должность не за грязью на мостовых и не за гнилою рыбою смотреть, а за теми, которые учнут в фортеции злые толки распускать и противу службы злое умышлять. *
Все в городе похвалили Ивана Трофимовича за его твердый нрав и обычай, и, благодаря Бога, у нас, в Реженске, и до сих пор все осталось по-прежнему: на улицах грязь по колено, по рынкам пройти нельзя. Та только разница, что вместо пожарной трубы в последнее время у нас заведена прекрасная зеленая бочка с двумя также зелеными баграми, но, по завещанию Ивана Трофимовича, на пожар они никогда не вывозятся, ибо иначе легко могли бы испортиться, а хранятся за замком, в нарочно для того определенном сарае. Время оправдало благоразумное распоряжение Ивана Трофимовича: скоро потом проезжавший чиновник долгом почел донести губернатору об отличном устройстве пожарных инструментов в городе Реженске.
Как бы то ни было, Иван Трофимович, избавившись от докуки реженских затейников, обратился к своим любимым занятиям, которых у него было два, – а именно: чай и кошка. Да, милостивые государи! Иван Трофимович очень любил чай и даже был в нем большой знаток.
По сей-то причине он часто хаживал по лавкам собирать у купцов чайные пробочки, чтоб не ошибиться. Таким образом, у Иван Трофимовича набиралось когда четверть, когда полфунтика. Не то чтобы он все пробочки мешал вместе: нет! Как настоящий знаток, он выпивал каждую поодиночке, и которого чай он похвалит, тот купец и несет ему гостинец. Говорят, однако же, к чести Ивана Трофимовича, – такая была у него добрая душа! – что он при этом случае руководствовался не столько качеством чая, сколько или очередью между купцами, или разными случавшимися обстоятельствами: так, например, тот, у кого что-нибудь было на душе, уже наверное знал, что Иван Трофимович придет к нему за пробочкою. Не то чтобы это можно было назвать взяткою! Нет! Наши реженские лавочники так любили Ивана Трофимовича, что носили к нему все из чести! Да не для чего было и взятки давать: дел таких, как нынче, не было. Разумеется, и тогда в городе было не без ссор, не без зависти, не без злости – только тогда обычай был другой; придут, бывало, к Ивану Трофимовичу тяжущиеся: оба говорят, говорят, – кто кого перекричит; а Иван Трофимович послушает, послушает, да одному толчок, другому другой – никого не обидит покойник, и вот тяжущиеся потолкуют между собою, потолкуют, много что подерутся – душеньку отведут, да тут же в питейном дому и помирятся – да еще за здравие Ивана Трофимовича выпьют. Счастливое тогда времечко было!
Любил кушать чай Иван Трофимович, но не менее того любил он и кошку. Не то чтобы он кошку любил, – нет! – а любил, чтобы кошка у него вкруг шеи ходила, ластилась, терлась да на ухо ему шептала. Правду сказать, да что и за кошка! Нынче уж нет таких кошек! Большая, лоснистая, черная, а мордка, душка и лапки белые, как снег, словно в перчатках. * Уж нечего и говорить: у Ивана Трофимовича мышей и в заводе не бывало. Да какие у ней были милые привычки! Говорю вам, что нынче уж нет таких кошек. Бывало, Иван Трофимович проснется, а кошка прямо к нему на постелю, то вытянется, то согнется дугою, то замурлычет, то замяучит – а зеленые глазки у ней так и катаются, словно изумруды. Тогда Иван Трофимович вставал, разводил огонь, ставил чайник в печку, надевал фризовую шинель, брал кулечек и отправлялся на рынок, а кошка вслед за ним. Тут и собаки лают, и возы везут, и народ кричит, а ей горя мало: только что через лужицы перепрыгивает да лапки отряхает. Куда в лавку Иван Трофимович, туда и его кошка – удивленье всему городу! – и вот ей где рыбку, где свежинки: она знай кушает да мурлычет! Возвратится Иван Трофимович, возьмет чайник, сядет к столику возле окошка, а кошка даром, что сыта: не думайте, чтобы она, как нынешние кошки, свернулась в кружок да захрапела, – нет! – она на столик проберется, между чашки и сахарницы, ничего не заденет, или сядет на окошке на солнышко, или на плечо к Ивану Трофимовичу, и мурлыкать не мурлычет, а трется, трется вокруг шеи и шепчет-шепчет на ухо Ивану Трофимовичу; Иван же Трофимович то погладит ее, то чайку прихлебнет… Так протекали долгие дни.
Один из новейших сочинителей описал эти немые минуты семейственного счастия, когда в голове не проходит ни одной мысли, в душе рождается какое-то тихое, невыразимое чувство, * но кто опишет счастие Ивана Трофимовича в этом уединении! Теплая избушка, теплый тулуп, пестрые обои, мыши кота погребают во всю стену, треугольная шляпа, шпага; солнышко светит, от чаю пар столбом, мимо окошка всякий кланяется, вкруг шеи теплая Васькина шкурка, и больше никого – ни детей, ни жены, ни кухарки, и триста верст от губернского города! И еще это тихое, невыразимое счастие повторяется каждый день, и не один раз в день, а два, поутру и после обеда; иногда же и в промежутках! Две было цели в жизни Ивана Трофимовича: напиться чаю и молча держать Ваську на шее. Эта мысль не оставляла его ни на минуту: он засыпал с нею, видел ее во сне и с нею просыпался; к этой мысли были привязаны все его поступки, все желания, все малейшие движения его души, – других в ней не было. Приставал ли к нему кто-нибудь с делом, случалось ли что важное в городе, он отлагал все, чтоб не пропустить положенного часа для чаю. Говорили ли о ревизоре, – он боялся его только потому, что к нему неловко будет явиться вместе с Ваською.
Но нет вечного счастия в этой жизни! У Ивана Трофимовича была однофамилица, и даже несколько сродни, из дворян, – вдова Марфа Осиповна Зернушкина. Случись у ней какое-то дело в городе Реженске: никак, кто-то у ней мельницу околдовал, ртути в плотину напустил. * Марфа Осиповна была женщина бойкая, умная, скопидомка и хотя грамоте не умела, но тяжебные дела знала лучше иного приказного: потому решилась она хлопотать о делах сама, своею особою, а Иван Трофимович был ей нужен, чтобы за нее по родству руку прикладывать. Она въехала к нему прямо в дом. Соблазна тут никакого быть не могло, потому что им обоим вместе было лет сотня с лишком: добрый Иван Трофимович с радушием отвел ей у себя каморку. Вот, разумеется, при свидании родные обрадовались. Пошли толки о том, о сем, о старине, о новизне, об урожае – а Васька туда же, то ластится, то трется, то замурлычет, то замяучит, то посмотрит на них прищуренными глазками…
– Э! да какая у тебя товарка! – сказала Марфа Осиповна, – давно ли, батюшка, завелся?
– Да давно уж, матушка! лет восемь; с тех пор как мы с тобою не видались…
– Да где, батюшка, и видеться! Ведь восемьдесят верст не шутка! Ты человек служебный, а мне уж не под лета. Три дня, батюшка, к тебе тащилась: ведь на своих!.. Чуть было в грязи не утонула, а еще все большой дороги держалась; ты знаешь, у нас новую дорогу сделали! Кисанька! Кисанька!.. Экая славная!.. Ну, вижу я, ты, право, домком позавелся! Уж не жениться ли хочешь? На дворе я у тебя видела матерого петуха, а здесь кота заморского: а ведь, по нашему, по бабьему реченью, кот да петух что жена, милый друг!
– Ну уж, матушка Марфа Осиповна: что до петуха касается, то его хоть бы не было. Такой крикун – провал его возьми! – глаз свести не даст. Я, пожалуй, вам его хоть даром отдам…
– Благодарствую, батюшка Иван Трофимович. Да зачем это?
– И! ничего, матушка! свои люди, сочтемся. А уж Васька-то мой! То уж подлинно сказать, Марфа Осиповна, что мой Васька милее иной жены. Кабы вы знали, какой затейник, какой забавник! Не только что на охоту ходит, да песни поет, да старую шею у меня греет; нет, матушка: ведь от меня он крохи не получает, а сам со мною по городу бродит да с лавочников оброк берет!..
– Неужели в самом деле?
Невозможно описать всех рассказов Ивана Трофимовича и всех расспросов Марфы Осиповна, и я, подобно сочинителям чувствительных романов, когда дело доходит до развязки, предоставляю читателям дополнить воображением все, что было сказано, недосказано и пересказано при этом свидании.
Прошло несколько дней. Однажды после обеда, сидя за чайным столиком, Марфа Осиповна сказала Ивану Трофимовичу:
– Смотрю я на тебя, батюшка!..
– Да! – отвечал Иван Трофимович. – Так что же?
– А то, что нехорошо!
– Что нехорошо?…
– Да так! нехорошо…
– Да что оно такое нехорошо, матушка?
– А то, зачем ты позволяешь кошке себе на ухо шептать!
– На ухо шептать?
– Да, вон видишь: ты, батюшка, ее отогнал, а она тебе опять в ухо лезет.
– Признательно вам сказать, Марфа Осиповна, что же тут дурного? Оно тепло и приятно.
– Да то тут дурного, Иван Трофимович, что она тебе жабу в голове нашепчет. *
– Как жабу нашепчет?
– Да так, что у тебя ни с того ни с сего жаба в голове заведется.
– Что ты, матушка, говоришь? Уж жаба в голове заведется!.. Да как она туда зайдет?
– Как хочешь, Иван Трофимович! верь или не верь: я тебе не свои слова говорю, а что от родителей слыхала. Ты помнишь батюшку, покойника: он, бывало, слова даром не проронит; а он частенько – царство ему небесное! – толковал, что если кому кошка на ухо шепчет, у того непременно в голове жаба заведется.
«Что эта баба мелет? – думал про себя Иван Трофимович, ложась в постелю и поглаживая Ваську. – Вишь, кошка жабу может нашептать! Чего эти бабы не выдумают!»
Однако ж у Ивана Трофимовича в голове и один и два. Вот кажется Ивану Трофимовичу, что его что-то в голову стукнуло и будто голова у него заболела. И он думает: «Болит она аль нет? болит, точно болит!.. Нет, не болит, точно не болит!..»
Вставши поутру, Иван Трофимович, как человек благоразумный, рассудил, что в таких случаях лучше всего спросить человека знающего. Был у него задушевный приятель, Богдан Иванович, уездный лекарь. Давно они уже с ним не видались. «Дай-ка зайду к Богдаше, – сказал Иван Трофимович, – да спрошу: он человек искусный и верно мне всю правду скажет». Сказано – сделано.
Не хотелось Ивану Трофимовичу признаться, что он поверил бабьим сплетням, но, как человек тонкий, завел речь стороною.
После обыкновенных приветствий Иван Трофимович сказал лекарю:
– Что это, батюшка, Богдан Иванович? У нас в городе все головой жалуются. Отчего бы это?
– Да не мудрено, Иван Трофимович! – отвечал лекарь. – Теперь пора осенняя, а в эту пору обыкновенно усиливается геморрой.
– А разве только что от геморрою и может болеть голова?
– Нет; она может болеть и от разных причин: от простуды, от угару, от несварения пищи.
– А от каких ни есть других причин может болеть голова?
– Да от каких же это?
– Ну, примером сказать, правда ли это, батюшка, что будто бы иногда у человека жаба заводится в голове?
– Мало ли чудес в теле человеческом! Бывали и такие примеры.
– Как! Бывали?
– Да, но, к счастию, очень редко.
– Какие чудеса на свете бывают! Да как же помочь в таком несчастном случае?
– Ну, тут уж надобно делать операцию!
– Операцию?
– Да! И очень трудную. Вскрывают голову.
– Вскрывают голову! Да как же это?
– Да вот, видишь: есть такой инструмент; он словно крышка с чайника, только кругом его острые зубчики, как у пилки.
– Ну?
– Вот на голове выбреют волосы, кожицу подрежут кругом, да и примутся вертеть этот инструмент на черепе: он и выпилит из него кружочек.
– Ну?
– Ну, кружочек снимут: если лягушка или что другое на том месте, то…
– Как, если на том месте!.. А если на другом?
– Ну, так еще вертят череп.
Ноги оледенели у Ивана Трофимовича; однако ж он собрался с силами и выговорил:
– Как же это, батюшка! этак всю голову как тыкву изрежут!.. Да что ж с человеком-то в это время бывает?
– Чему быть с человеком! Он лежит без памяти.
– И живут еще после этакого мучения?
– Признательно сказать, Иван Трофимович, так почти всегда умирают.
В раздумье пошел Иван Трофимович от лекаря. «Не соврала баба! – сказал он дорогою, – не соврала! Экая беда какая!» И, пришедши домой, он увидел, что Марфа Осиповна уже собирается в путь.
– Куда спешишь, матушка?
– Да что, Иван Трофимович, время терять! Спасибо тебе, все дела мои покончила; какие концы остались, ты и без меня их заправишь. Благодарим за хлеб, за соль…
– Не на чем, матушка, не на чем!
Когда Марфа Осиповна собралась совсем уже садиться в кибитку, Иван Трофимович скрепя сердце сказал ей:
– Послушай, матушка: подарил я тебе петуха… возьми уж… и кошку!
Марфе Осиповне того только и хотелось.
– И, зачем это! – отвечала она. – Ведь у тебя Васька единое утешение…
– Нет, матушка! Я, вот, видишь, человек холостой, прибирать в доме некому, а ведь кошка блудница; прыгнет неравно куда да заденет, разобьет… У тебя же в деревне простор большой.
– И подлинно так, Иван Трофимович! Давай, давай; а я тебе за то к Великому пришлю медку к чаю да грибков сушеных… Ведь ты, чай, постничаешь?…
Почти слезы навернулись у Ивана Трофимовича, когда пришлось расставаться с Ваською; но делать было нечего. Петуха усадили в лукошко, Ваську в мешок, Марфу Осиповну в кибитку, и все тряхнулось и покатилось.
С тех пор жизнь опостыла Ивану Трофимовичу. Все ему грустно, все холодно вокруг шеи; даже чай ему казался горьким, сколько он ни прикусывал сахару. Войдет ли в комнату – ему чудится, что Васька мурлычет; пойдет ли по городу – все оборачивается полюбоваться на него; то схватится за холодную шею – и нет Васьки!..
Однажды, когда Иван Трофимович сидел за чайным столиком и перед ним стыла налитая чашка, зашел к нему приятель.
– Здравствуй, батюшка Иван Трофимович! Подобру ли, поздорову поживаешь?…
– Нет, почтеннейший!., нездоровится! Даже чай в горлышко нейдет.
– Да что ж такое с вами, Иван Трофимович?
– Да Бог весть что!.. И голова побаливает, да и что-то грустно все; ни на что глядеть не хочется.
– И, батюшка, Иван Трофимович! Хотите, я вас лекарству научу?
– Удружи, почтеннейший!
– Прибавляйте кизлярской водочки * к чаю – так не то заговорите.
– Что ты, почтеннейший! Я сроду хмельного в рот не брал и вкусу в нем не знаю.
– Попробуйте. Ведь вам уж пьяницей не сделаться!.. А кизлярская водка с чаем, скажу вам, лучшее лекарство от всех болезней. Лекаря обыкновенно ее отсоветывают оттого, что это лекарство отнимает у них барыши, а его действительность я сам на себе испытал. Вот, ономнясь,? у бугорья мост у меня под кибиткою провалился: кучер еще как-то удержался, а меня отбросило в промоину, – по уши в воду, батюшка! – Нитки сухой не осталось! Приехал домой – день-то был морозный – такая меня проняла трясовица, * что свету Божьего не взвидел: в голову бьет, зубы стучат, руки и ноги ходенем ходят. Что ж я? – Жена! давай чаю, давай водки! Да как вытянул стаканчика два, на другой день как рукой сняло. Ведь это уж видимый опыт!.. Какое бы лекарство так скоро подействовало? Послушайтесь, Иван Трофимович, попробуйте: право, благодарить меня будете! Ведь есть у вас кизлярская?…
– Держу для приятелей.
– Ну, попробуйте! Ведь раз – ничего не стоит!
Иван Трофимович послушался, попробовал; сперва было поморщился, но потом он сказал: «Странное дело!.. Водка лучше вкусу придает чаю! Посмотрим, какая-то будет польза».
После двух чашек в самом деле Ивану Трофимовичу сделалось гораздо веселее. Это наслаждение он повторил и на другой день, и на третий, и на четвертый, и так далее.
Однажды сильная головная боль разбудила Ивана Трофимовича: он вскочил с постели как угорелый. Скорей к кизлярке: выпил – помогло. Через несколько времени другой толчок, и сильнее первого: опять к кизлярке – и опять помогло. Потом еще третий – и кизлярка уже не помогла. Тщетно Иван Трофимович увеличивал прием своего лекарства: ему все было хуже да хуже. Иван Трофимович струсил; ему уже кажется, что у него в голове что-то шевелится и царапается: беда, и только!
И с этого времени страшные сны пошли у Ивана Трофимовича. То ему кажется, что у него череп снимают, как крышку, а в черепе-то целое гнездо лягушек и всяких гадов. То ему кажется, будто он сам обратился в огромную и толстую жабу: и горько, и стыдно ему!.. Хочет надеть сертук, чтоб прикрыться, а сертук не застегивается! – Лишь рукава по воздуху болтаются!.. То, наконец, ему кажется, что у него в голове целый город Реженск, – крик, шум, скрип от возов… а по улицам все ходят не люди, а лягушки на задних лапках и с ножки на ножку переваливаются!..
Не на шутку испугался Иван Трофимович! И стыд прочь, и бросился он к лекарю.
– Батюшка, Богдан Иванович! помогите, спасите!
– Что с вами случилось, Иван Трофимович? Дайте-ка пульс пощупать…
– И! полно, батюшка!., какой тут пульс! Помните, мы с вами недавно разговор имели об одной странной болезни?…
– Ну, помню. Так что же?
– Ну, батюшка? Эта самая болезнь со мною, грешным, и приключилась…
– Я вас не понимаю, Иван Трофимович…
– Чего тут не понимать, батюшка! Шаба у меня в голове завелась. Да!., жаба, понимаете? Шаба в голове…
– Бог с вами, Иван Трофимович! Да с чего вы это взяли?
– Как с чего взял! Я перед вами, батюшка, как перед отцом духовным, таиться не буду; все вам расскажу. Пристрастился я к кошке… Помните, у меня кошка была, такая славная, теплая – провал ее возьми! – черная, лоснистая… Вот и повадилась она, окаянная, мне на ухо шептать: шептала, шептала да жабу и нашептала…
Лекарь захохотал во все горло.
– Помилуйте, Иван Трофимович! С вашим умом, и верить такому вздору?…
– Смейся, батюшка, смейся, как хочешь! – вскричал Иван Трофимович сквозь слезы. – Ведь ты не знаешь, что у меня в голове делается, а я так знаю; я ведь чувствую, как в ней кто-то, проклятый, царапается, – инда голова трещит; а уж болит-то она, болит-то – едва рассудка не теряю! Что за беда такая! Уж шестой десяток живу на свете, на службе уже сороковой год, всегда верой и правдой служил и под турку ходил, и под картечью бывал, дошел до звания городничего, и никогда со мною таковой оказии не бывало, а теперь, под старость лет, Бог меня посетил таким позором!.. Помоги, батюшка, помоги как хочешь, не то я сам на себя руки наложу!..
Лекарь, видя, что все его увещания будут тщетны в эту минуту, решился более не противоречить старику и сказал:
– Ну, слушайте ж, Иван Трофимович! Если подлинно в вас есть такая болезнь, то возьмите несколько терпенья: я уже вам, кажется, сказывал, что я только мельком слыхал о такой странной болезни, но, признательно вам откроюсь, никогда в глаза не видывал, ни в книгах не читывал. Дайте мне время немножко подумать да в книжках справиться. Я сам не замедлю к вам ответ принести, а теперь вот примите этот прохладительный порошок да привяжите к голове капустных листьев, а там, даст Бог, увидим, что надобно делать.
По выходе Ивана Трофимовича лекарь задумался. В нем невольно взволновалась старая студенческая кровь; он невольно вспомнил то восхищение, с каким, бывало, он и его товарищи узнавали о поступлении в клинику какого-нибудь странного больного или странного мертвого. «Что за несчастие! – говаривали они, – зима уже давно началась, а еще так мало к нам привозят замороженных кадаверов!» * – «Какое счастие! – кричали они друг другу, – целых шесть славных кадаверов привезли!» А если между кадаверами попадется какой-нибудь урод с шестью пальцами, с сердцем на правой стороне, с двойным желудком: то-то радость!.. то-то восхищение!.. Новое знание! надежда открытия! пояснение наблюдений! новые толки профессора! новые системы! *
Давно уже этот род наслаждения потерялся для нашего уездного лекаря; уже пятнадцать лет, как он оставил столицу: до него не дошло почти ни одного из наблюдений, сделанных в продолжение этого времени, в продолжение пятнадцати лет – этого медицинского века! Близ него ни академии, ни журналов, ни библиотеки, а одна почти механическая работа, одна нужда доставать себе пропитание посреди людей необразованных: не с кем проверить даже самого простого наблюдения; нет минуты, чтобы привести в порядок свои опыты! все двадцать четыре часа в сутки расходуются на разъезды, на следствия, на самые мелочные занятия жизни. С отчаянием врач посмотрел на свою скудную библиотеку: Лаврентия Гейстера «Анатомия», изданная в 1775 году; * какой-то «Полный врач», того же времени; * школьная диссертация его приятеля «О нервном соке»; его собственная диссертация на степень лекаря, в свое время наделавшая много шума: «О пристойном железы наименовании», с эпиграфом из Гейстера:
Железа, какая часть, чтоб сказал врач, трудно;
Ибо доктора в том все учили скудно, —
несколько нумеров «Московских ведомостей», * школьные тетрадки – вот и все!..
С чем справиться? Где найти не только средство лечения, но даже описание болезни своего пациента?…
В досаде, в уверенности ничего не найти, он берет своего руководителя Гейстера, отыскивает главу «О голове», читает: «Содержимые части (contentae partes) суть: мозг (cerebrum)… Около мозга головного жестокая мать (dura mater), или твердая оболонка над мозгом, из волоки сухожильных состоящая…» *
Он бросил от себя книгу: все это было им читано, перечитано, учено и переучено!..
Тут ему пришла на мысль еще книга, которую некогда получил он в университете в награду за прилежание, которую тщательно завертывал он в бумажку и бережно хранил особо от других книг по причине ее дорогого переплета: то был перевод книги «О предчувствиях и видениях», только что тогда появившейся в свет.
Развернув эту книгу, он напал на то место, где описывается известный поступок знаменитого Бургава в Гарлемском сиротском доме. * Одна из воспитанниц дома впала в судороги: на нее смотря, другая, третья, четвертая и таким образом почти все до последней. Бургав, видя, что это было действие одного воображения, приказал принести в комнату жаровню с угольями и щипцы и объявил, что у первой, которая впадет в судороги, станут жечь руку раскаленными щипцами. Это лекарство так устрашило больных, что они все в одну минуту выздоровели.
Прочитавши это описание, Богдан Иванович задумался. Продолжая читать, он встретил описание больного, который воображал, будто у него ноги хрустальные, и которого излечила служанка, уронив ему на ноги вязанку дров. Потом нашел он еще описание больного, который воображал, будто у него на носу сидит муха, и беспрестанно махал рукою, тщетно желая согнать ее. «Остроумный врач, – сказано было в книге, – уверив больного, что он имеет средство излечить его, ударил его по носу ланцетом, и в ту же минуту показал больному приготовленную прежде для того муху».
Слова «остроумный врач, знаменитый Бургав» невольно остановили Богдана Ивановича.
– Что! – сказал он сам себе, – если бы и мне удалось произвести в действие подобное лечение! Я бы описал подробно темперамент моего пациента, его мономанические припадки, * средство, мною придуманное для его излечения, полный успех мой, и слава обо мне пролилась бы во всем мире, мое описание послал бы я в Академию… даже в иностранных газетах возвестили бы миру о том, как редки и замечательны в летописях науки подобные случаи, какую трудность представлял Иван Трофимович для излечения, как «остроумный» врач искусно воспользовался состоянием нервного сока в своем пациенте и прочая и прочая; и, может быть, за это бы вызвали меня в Петербург, приняли бы в Академию?… О, радость! о, счастие!.. Решено!
И Богдан Иванович поспешно собрал все находившиеся у него инструменты – кривые и прямые ножницы, кривые и прямые ножички; присоединил еще к ним все, что только могло найтися в его скудном хозяйстве: вертела, пирожные загибки, обломки невинных щипцов, – все пошло впрок! Засим в ближнем болоте он поймал огромную лягушку, согнул ей лапки, положил ее в карман камзола и с этим запасом, нахмурив брови как можно грознее, явился к Ивану Трофимовичу. Не говоря ни слова, он разложил на столе возле самого окошка, где обыкновенно сиживал Васька, все свои военные снаряды. Иван Трофимович побледнел.
– Что это? – вскричал городничий с ужасом.
– Я долго размышлял, рылся в книгах о вашей болезни, Иван Трофимович, – сказал лекарь с величайшею важностию, – и нахожу, что единственное средство для вашего спасения есть операция… правда, ужасная.
– Операция! – вскричал Иван Трофимович, – то есть провертеть мне голову!.. Нет, ни за что на свете! Уж лучше так умереть, нежели под твоими ножами…
– Но это единственное средство.
– Нет! Ни за что на свете!
– Но вы чувствуете в голове нестерпимую боль, которая будет усиливаться все больше и больше…
– Нет! Ничего не бывало!., теперь уж все прошло…
– Но за два часа перед сим?…
– Прошло, говорят тебе! Совсем прошло!
Тщетны были все усилия лекаря: он видел, что цель его испугать больного была слишком достигнута, и рассудил, что надобно несколько уменьшить ее.
– Но послушайте! – сказал он. – Ведь эта операция совсем не так опасна, как вы думаете…
– Нет, отец родной! Меня не перехитришь: я сам человек лукавый. Я помню все ужасти, которые ты мне рассказывал. Я как подумаю о том, то едва голова с плеч не валится.
– Но уверяю вас, что я сделаю так искусно, так осторожно, что вы и не почувствуете…
– Какое тут искусство поможет, как начнешь мне череп сверлить!.. Дурак, что ли, я тебе дался?
Лекарь был в отчаянии. Он к Ивану Трофимовичу и с вертелом, и с ланцетом, и с щипцами: Иван Трофимович не дается. Наконец городничий рассердился, лекарь также; минута была решительная: от нее зависели и будущая слава Богдана Ивановича, и богатство, и Академия, и статьи в газетах, и завидная участь его ученого поприща. Вооруженный ланцетом, он в отчаянии бросается на своего пациента, стараясь хотя дотронуться до головы и показать ему успех операции; но Иван Трофимович вдруг вспомнил прежнюю молодецкую силу… они борются: стол вверх ногами; чашки, чайник, все вдребезги: для обоих дело о жизни и смерти!.. И в самую эту минуту… холодная свидетельница и невинная участница происшествия, пользуясь одним из движений лекаря, изо всех сил шлепнулась на пол.
– Что это? – вскричал удивленный Иван Трофимович. – Злодей! окаянный! Ты не только хотел умертвить меня, но и посадить мне в голову какую-то гадину!.. Вон отсюда, окаянный!., вон, говорю тебе!..
И с сими словами Иван Трофимович, понатужившись, выкинул Богдана Ивановича из окошка…
Доныне в архиве Реженского земского суда хранится жалоба отставного прапорщика пехотного карабинерного полка, реженского городничего, Ивана Трофимова сына Зернушкина, на такового же уезда лекаря Богдана Иванова сына Горемыкина, о разбитии фаянсовых чашек и чайника, о явном умысле предать его, Зернушкина, умертвию и посадить ему в голову некую гадину.
Старики говорят, однако же, что с того времени Иван Трофимович освободился навсегда от своего припадка.








