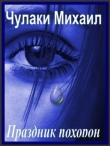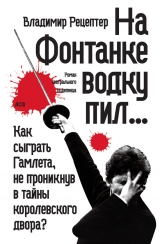
Текст книги "На Фонтанке водку пил… (сборник)"
Автор книги: Владимир Рецептер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Вернувшись в Ленинград из двухгодичных гастролей, Зина почему-то к Товстоногову не пошла, а вступила в труппу Николая Акимова. И за пять лет в Театре Ленсовета она сыграла много ролей у очередных режиссеров, но ни одной у самого руководителя.
– Николай Павлович, ведь вы меня любите, почему вы не занимаете меня в своих спектаклях? – спросила она напрямик, и так же напрямик он ответил:
– Если я скажу Гале Короткевич: «Стань на голову», – она не задумываясь сделает это, а ты спросишь меня: «Почему?»
Таковы были неприемлемые здесь особенности школы Б.В. Зона, который, согласно факту и одновременно легенде, приезжал к самому К.С. Станиславскому и из первых рук воспринял знаменитую систему накануне смерти великого реформатора. А Зина была верной ученицей Зона и любила задавать режиссерам неудобные вопросы.
Павел Карлович Вейсбрем, горячась, подбрасывал ей лихие приспособления, надеясь на мгновенный результат.
– Понимаес, Зина, ты тюдная артистка, и у тебя в этой роли будет настоясий успех. Всякий раз, когда ты входис и выходис, ты поес: «Тореадор, смелее в бой, тореадор, тореадор…» – И он показывал, как она должна входить и выходить, бодро напевая знаменитую арию, маленький, пухлый и по-детски шепелявый. – Ну, поняла?
– Поняла, – отвечала Зина.
– Умниса! Молодес! Иди попробуй! – командовал Вейсбрем, и Зина шла на сцену.
– «Тореадор, смелее в бой…» – начинала она.
– Нет, нет, нет! – кричал Павел Карлович. – Нисего подобного!.. Иди сюда!.. Оказывается, ты не поняла. Я подбросил тебе тюдное приспособление. Слусай. Ты появляесся и поес: «То-ре-адор, смеле-е-е в бой!..» Вот о тем ресь!.. Теперь поняла?
– Кажется, поняла…
– Тогда иди, пробуй. – И Зина поднималась на сцену.
– «То-ре-адор, смеле-е-е в бой!»
– Нет, нет, нет, нет! – кричал Павел Карлович. – Нисего не поняла!.. Сто это за актриса? – спрашивал он у помрежа. – Не мозет понять такую простую вессь! Иди сюда!
Зина спускалась в зал.
– Слусай, у кого ты утилась?
– У Зона.
– Ну, потему зе ты не понимаес таких простых вессей?.. Я дал тебе роскосное приспособление… «То-ре-адор, смеле-е-е в бой!..» Ну?.. Сто ты смотрис?..
– Не знаю, Павел Карлович, по-моему, я поняла…
– Тогда иди! Иди и сделай! – И Зина шла на сцену.
– «То-ре-адор, смеле-е-е в бой!»
– Сто-о-оп! – кричал Павел Карлович в отчаянье. – Это узасно!.. Кто взял в театр эту актрису?.. Сто это такое?.. Совсем бестолковая!.. Иди сюда!
Зина спускалась в зал.
– Кто тебя взял в театр?
– Худсовет…
– Этот худсовет надо разогнать к тертовой матери!.. Хоросо… Ты мозес сыграть мне… люсду на сыпотьках?!
Автор не убежден, что правильно понял образ, в пылу репетиции родившийся у Павла Карловича: то ли «люсда», то ли «узда», то ли что-то третье, но именно «на цыпочках». Однако на этот раз Зина почему-то его поняла.
– Тореадор, смелее в бой, – чувственно запела она.
– Во-о-от! Вот-вот! – закричал довольный Павел Карлович. – То самое! Наконес я понял, как с тобой разговаривать!..
В 1930-е годы П.К. Вейсбрем нерасчетливо приехал из Парижа помогать строительству социализма в одной отдельно взятой стране. В лагерь он, по счастью, не попал, но, как и все остальные, до конца жизни расплачивался за наивность постоянным страхом. И все же ему удалось сохранить необыкновенную доброту и французскую легкость, чем он расположил многих, а особенно артистку БДТ Марию Александровну Призван-Соколову. Вместе с ней Павел Карлович создал домашний очаг, уютный и укрывающий. На стенах общего жилища расположились картины (по слухам, в доме был даже Модильяни), а у двери на страже хрупкого покоя нес нелегкую службу средневековый рыцарь, составленный из шлема с забралом, крепкого панциря, ручных и ножных лат и кольчужных перчаток…
Надежда Николаевна Бромлей репетировала с Зиной не только в театре, но и у себя дома, и даже дома, в халате, неизменно появлялась на людях в шляпке с вуалью. Беспощадные знатоки объясняли эту странность тем, что бывшая героиня Александринки жестоко облысела. Так это было или нет, но без шляпки и без вуали Надежду Николаевну уже невозможно было представить.
Когда-то она была неслыханно хороша и вместе с Николаем Симоновым блистала в чеховской «Дуэли». В роли Надежды Федоровны на нее вожделенно смотрели не только все партнеры, но и все мужчины-зрители. А теперь, ставя ту же инсценировку в Театре Ленсовета, Надежда Николаевна поручила свою роль Зине.
По признанию новой исполнительницы, роль ей не удалась настолько, что худсовет театра предложил Бромлей снять Шарко, на что она надменно ответила из-под вуали:
– Я сниму всех, кроме Зинаиды.
Тогда решили собрать городской худсовет в надежде на то, что этот авторитетный орган убедит непреклонную Надежду Николаевну. В его состав входил и сам Гога, который счел за благо переговорить с Бромлей накануне просмотра. Товстоногов убеждал снять Зину с роли Надежды Федоровны, приводя логичные доводы и восторженно вспоминая триумф Бромлей и Симонова в Александринке.
– Зачем вы подвергаете актрису такому ужасу? – спрашивал он. – Городской худсовет будет заниматься только этим, и сор вынесут из избы.
– А вы видели когда-нибудь такую фигуру? Она же как танагрская статуэтка!..
– Да, конечно, – начал Товстоногов, пытаясь возразить по существу вопроса, но Бромлей перебила его:
– А такие глаза вы когда-нибудь видели?.. Они же как два моря!..
И Гоге было нечего возразить, потому что перед красотой Зинаиды Максимовны и убежденностью Надежды Николаевны его осторожная логика оказалась бессильна. Позже моя героиня прочла, что в Индийском океане есть остров Танагра, на нем добывают камень танагр, из которого любил делать свои работы сам Бенвенуто Челлини. И во всех музеях мира можно встретить ту или другую танагрскую статуэткукак символ красоты и изящества.
Конечно, в споре с Бромлей Гога потерпел поражение, но это ничего не меняло для Зины. Роль у нее не получилась; к тому же никак не решался квартирный вопрос, и кочеванье по снятым углам начало портить ее золотой характер.
Однажды Сева Кузнецов – он тоже работал тогда у Акимова – подсказал Зине простой выход.
– Слушай, – сказал он, – что ты маешься без дома, без жилья?.. Выходи за Владимирова! Игорь на тебя так смотрит, а ты не обращаешь внимания!.. Все проблемы будут решены!
Так Зина Шарко обратила внимание на Игоря Владимирова и неожиданно для себя самой вышла за него замуж.
Через год или два при встрече, глядя из-под вуали в морские глаза Зины Шарко, Бромлей величаво спросила ее:
– Ну, как ваши авантюры?..
– Что вы, Надежда Николаевна, – испугалась Зинаида, – у меня муж, ребенок… Никаких авантюр…
– Значит, вы не Зина Шарко, – сказала Надежда Николаевна и пошла мимо нее своим путем.
Вопроса об авантюрах Зина испугалась не случайно, а потому, что ее муж Игорь Петрович Владимиров, мужчина крупный, красивый и явно в себе уверенный, ревновал ее страстно, мнительно и много больше, чем она заслуживала. Прежде он служил актером в «Ленкоме», а теперь ставил знаменитые елочные представления в Выборгском Дворце культуры, пробивался к театральной режиссуре и, по-видимому, был в некоторой зависимости от Товстоногова.
И вот, приняв Большой драматический и собирая новую команду, Товстоногов поручил Владимирову работу режиссера-ассистента в своем спектакле «Когда цветет акация».
Нет ничего естественней того, что Игорь подумал при этом не только о себе, но и о своей жене и в разговоре с Мастером по поводу распределения ролей назвал кандидатуру Зинаиды.
И ничего особенного нет в том, что Мастер с этой идеей тут же согласился.
Так потекла ее служба в БДТ, а когда, не без Гогиного участия, Игорь был назначен главным в Театр Ленсовета, Зина с ним уже расставалась. Да, он был чрезмерно, неоправданно ревнив и держал жену в ежовых рукавицах. Но однажды она совершенно случайно напоролась на раскрытую записную книжку, в которой строгий супруг вел для памяти неизбежный при такой выдающейся внешности донжуанский список. «Леля, проводница, – читала Зина, – Галя, официантка; Нина, машинистка…» И когда ревнивец упрекнул ее в очередной раз в мнимой неверности, высказывая необоснованные предположения и называя звонкие имена, Зина ответила ему в сердцах:
– Считай, что ты прав… Но учти, что из твоих трахтибидошек мог бы выйти третьесортный бордель, а из моих мужиков – лучший театр в Европе!..
С Борисом Вольфовичем Зоном Зина чаще всего встречалась именно в Летнем саду. Так вышло и на этот раз. Еще на первом курсе учитель велел ей выбрать какую-нибудь статую для этюда. И – надо же случиться такому совпадению! – они столкнулись прямо у Флоры, той самой, что пришлась по душе юной Зинаиде. Они поговорили об искусстве, и на вопрос о том, как идут дела, Зина ответила, что все хорошо.
– Знаешь, дорогая, – сказал Зон, – у меня в этом году намечается неплохой выпуск… Но на курсе есть одна девочка… чем-то напоминающая тебя… Конечно, не такая!.. Таких, как ты, вообще не бывает!.. Но девочка редкой одаренности, пожалуйста, обрати на нее внимание…
– А как ее зовут? – спросила Зина.
– Алиса Фрейндлих, – ответил Зон.
Именно к этой девочке и устремился вскоре Игорь Петрович Владимиров, чтобы создать новую семью и выстроить для Алисы репертуар Театра Ленсовета.
А у Зины Шарко возник другой союз, и несколько счастливых лет она прожила с Сергеем Юрским. Вместе они сыграли Адама и Еву в «Божественной комедии» Штока, много других спектаклей и капустников и, может быть, больше сотни концертов. Уточнить эти цифры без всякого труда мог бы сам Сергей Юрьевич, потому что он по сей день с поразительной точностью ведет счет сыгранных им представлений и всегда мог сказать, какой нынче по счету «Генрих IV», «Беспокойная старость» или, допустим, творческий вечер… И вот однажды по старой студенческой привычке Зина гуляет по Летнему саду, а навстречу ей – кто бы вы думали? – верно, Борис Вольфович Зон. Они идут по аллее и рассуждают об актерском искусстве, и на вопрос о том, как ее дела, Зина опять отвечает: «Все хорошо». И как раз у статуи Флоры учитель ей говорит:
– Знаешь, Зиночка!.. В этом году намечается хороший выпуск, довольно сильный и ровный. И все-таки между ними есть одна девочка, чем-то напоминающая тебя… Нет, нет, конечно, не такая, как ты! Таких, как ты, вообще не бывает… Но что-то подсказывает мне, что она тоже будет прекрасной актрисой!..
– А как ее зовут? – спрашивает Шарко, и Зон отвечает Зине:
– Наташа Тенякова…
И надо же так случиться, что именно к Наташе Теняковой и устремился вскоре Сережа Юрский, чтобы создать новую семью и ставить свои спектакли именно с Наташей. А Зина опять осталась одна и решила больше не выходить замуж.
Прошло еще несколько лет, и однажды на вечере памяти Зона они втроем вышли на сцену Дворца искусств имени Станиславского и сыграли сцену из «Трех сестер»: Зина Шарко сыграла Ольгу, Алиса Фрейндлих – Машу, а Наташа Тенякова – Ирину. По старшинству. В тот вечер они нежно вспоминали дорогого Бориса Вольфовича и любили друг друга как родные…
И вот Зина ходит по древней японской земле, то в четверке, а то и одна, и, выбирая сувениры родным и друзьям, думает, что бы такое особенное подарить Гоге на его семидесятилетие. Коллективный подарок – само собой, но что подарит любимому режиссеру именно она, Зинаида, это пока еще вопрос…
– Выпейте японского молочка, Иван Матвеич, – ласковым голосом предлагала Зина в ответ на очередной стук в дверь. – Удивительно вкусное молоко!..
– Нет, нет, что ты, я сыт, – категорически отказывался он.
– Один стаканчик, – настаивала Шарко, – пожалуйста, Иван Матвеич!.. Попробуйте!..
– Что ты, Зинаида!.. Пей сама на здоровье!.. Тебе нужно!..
– Бутылка уже открыта, выпейте, не стесняйтесь!.. Ну!..
И Пальму наконец соглашался и пил японское молоко из Зининой бутылки, взяв с нее наперед честное слово, что она принимает его ответное приглашение и в Петербурге придет на полный обед в гости к Ивану Матвеевичу и его супруге, где они и отметят благополучное возвращение домой…
В национальный музей ходили всей стаей.
Сперва кимоно кимонокак полотна / Пейзажи с дворцом и деревней и морем / Река и мосты и дворы и деревья / Холмы и кустарник и берег и лодка / Не джонка а лодка Китай за забором / И желтое и голубое свеченье / Неведомой жизни.
Музейной тревоги / Нигде не унять ни в Москве ни в Киото / А ритм изнутри помогает запомнить / Заполнить провал.
И шафранного тела / Стыдливый пожар, набеленные щеки / И красные полураскрытые губы / И все это на кимоно продолженье / Рассказа кино окинава киото / На белом шелку с поясами из шелка.
Вот легкие праздники чуждой одежды / И все это поочередно неспешно / И сдержанно я бы накинул на плечи / Твои как судьбу обнажив их сначала…
Ну да, конечно… Музеум… Ритмическая организация льстящего нам фона… Гармонизированный хаос японского бытия…
А там вееразолотые как рыбы / И рыбы с серебряными веерами / И парус косой и гора Фудзияма…
Но в том-то и дело, что каждый из нашей стаи, каждый, бредущий мимо этнографической утвари, расписных ширм, самурайских клинков, посудных горок, медных горшков, фонарных светильников, приземистых столиков для чаепития и прочего антикварного запаса, – каждый из нашей большой драматической стаи сам представлял собой ветшающий экспонат на пути к музейной неподвижности и не догадывался об этом…
20С первой репетиции «Розы и креста» Р. предлагал всем участникам быть на виду и слушать не только свои, но и чужие сцены – ведь сперва у нас идет как бы застольная читка, а потом уже постепенно рождается спектакль… Но коллеги, что называется, забастовали, не желая изображать живую декорацию и быть в антураже, так что пришлось им уступить. А Гога, не сговариваясь с Р., взял да выволок всю команду не только на первый акт, но и после антракта, чтобы все слушали историю Бертрана и Гаэтана, и, повинуясь Мастеру, ребята вышли и расселись, как положено, сделав добрые, чуткие и понимающие лица…
Здесь сказывался феномен, который был знаком всем режиссерам, имевшим счастье (или несчастье) осуществлять свои партитуры в Большом драматическом при Гоге.Сознательно это происходило или бессознательно, но как бы этически безупречно ни держались артисты во время репетиций с «другими» режиссерами, стоило Гоге войти в зал, а тем более начать вмешиваться, как у всех возникал общий патриотический зуд, а с некоторыми случались настоящие припадки преданности.
Казалось бы, ну что особенного содержит реплика: «Да, да, конечно, Г.А., именно так я и думал!..» (артист А.)?.. Почти ничего, кроме остающегося недосказанным продолжения: «Но Р. заставил меня делать не так, как я думал, а ваш приход ставит все на свои места».
Или другая реприза, в исполнении артистки Б.: «Ах вот оно что-о!.. Тогда – понятно!» Она переводится так: «До вашего прихода, Г.А., ничего нельзя было понять, а теперь все стало ясно».
Фраза же единомышленника В.: «Я понимаю вас, Г.А.!» – изящно вычерчивала в воздухе сразу несколько вариантов, включающих и тот, который приветствовал бы полное устранение путающегося у всех под ногами самозванца Р. …
Автор просит не воспринимать его самодеятельные переводы и толкования в качестве упреков закрепощенным обстоятельствами коллегам. Подобные фразы и реплики рождаются у них без всякого злого умысла и вылетают сами по себе как свидетельство изначальной и неискоренимой верности своему любимому режиссеру. Может быть, они содержат и тайный упрек в его адрес: «Зачем ты отдаешь нас в чужое пользование, когда мы хотим работать только с тобой?»
Давно замечено, что в природе всякого артиста наличествует женское начало вне зависимости от его первичных (или вторичных?) половых признаков. И это не более чем объективный факт, вызванный тем, что не он выбирает,а так или иначе выбирают его.Поэтому всякий артист подсознательно ведет себя как девушка на ярмарке невест…
Или как восьмая жена в гареме…
Или – простите за сравнение – как последняя б… в бардаке.
Вот эти-то поляризующие нюансы, опять-таки вызванные судьбой и обстоятельствами, и следует принимать в расчет, имея в виду актерскую переменчивость.
У некоторых северных народов есть обычай, в соответствии с которым муж по закону гостеприимства радушно отдает жену на ночь приезжему. Такой эпизод содержится, например, в романе лауреата Сталинской премии Тихона Семушкина «Алитет уходит в горы». Примерно то же самое происходит, когда главный режиссер театра отдает своих актеров во временное пользование «другому» – своему или заезжему.
И вот вообразите сцену: входит муж и застает свою благоверную в некой позиции, вынужденно принимающей гостя. С одной стороны, выполняя мужнин приказ, она не может прервать творческого акта, а с другой – должна в то же время показать супругу, что любит только его…
Важное уточнение: сам Р., играющий в данном конкретном случае страдательную роль внештатного режиссера-постановщика, в качестве артиста вовсе не являлся исключением из общего правила, и автор не раз ловил его на кажущихся простительными и понятными, но явно нездоровых проявлениях гаремного патриотизма.
Ну, например, когда Гога появился в зале перед выпуском «Бедной Лизы» Н.М. Карамзина в постановке Марка Розовского, Р., забыв надменную барскую ленцу и глубокомысленную заторможенность, мгновенно оживился и рванул исполнять танцы и куплеты соблазнителя Эраста, как наскипидаренный, что было тут же отмечено впечатлительным Марком… Розовский-то пришлый, а Гога свой и, главное, – хозяин… Видно, от актерского рабства, хоть его стыдись, хоть им гордись, никуда не денешься, и никому не дано пройти все испытания, сохранив на лице печать невинности. Особенно трудно приходится настоящим мужикам…
Прекрасный московский артист на амплуа социальных героев Александр Александрович Ханов играл главные роли в театре Н.П. Охлопкова. Автор видел его в спектаклях «Аристократы» и «Гостиница „Астория“» и готов засвидетельствовать, что это был несомненный талант. Но именно ему, артисту Ханову, крупному и уверенному в себе мужчине, не обиженному ни судьбой, ни природой, ни почетным званием, принадлежит, по слухам, потрясающий афоризм: «Стыдно быть старым артистом…»
Представляете? То есть вообще-то до определенного возраста артистом быть еще, мол, куда ни шло, а уж если дошло до старости – беда, спасайся кто может…
Иные имеют право, конечно, тут же возразить, а некоторые даже и возразят в том смысле, что и в старости – не стыдно, и приведут в пример себя или другие исторические персоны, и будут, разумеется, правы. Почему? Да, во-первых, потому, что автор – не авторитет, а человек ошибающийся или, верней, ошибочный, о чем он – обратите внимание! – не устает повторять; а во-вторых, по известному школьному закону исключения подтверждают правило… Но задуматься тут, ей-богу, стоит! И даже тем, которые исключения. Потому что стыд, судя по историческому опыту, лишним не бывает, и под его благодетельной краскою спаслась не одна душа…
Откровенно говоря, эти рассуждения выгоднее, конечно, вычеркнуть, дабы не оттолкнуть любезного читателя от великого театрального искусства вообще и актерской нации в частности. Если Р., вслед за артистом Хановым, стал стыдиться своей профессиональной принадлежности, это его собачье дело, вызванное то ли неудачливостью, то ли бездарностью, а может, тем и другим вместе. Если же он и в старости позволяет себе зарабатывать на хлеб актерским ремеслом, тогда речь идет уже о двурушничестве, то есть полной душевной патологии.
Да, да и еще раз да! Читатель догадался, и Р. действительно стыдно вдвойне,а от саморасстрела его останавливает лишь то, что это – тяжкий грех, и лишь во избежание тяжкого греха влачит он до сих пор свое гнусное существование, оскорбляющее патриотов актерской профессии.
Почему же автор этого не вычеркивает?.. Потому что, каким бы скромником он ни прикидывался, высокие примеры русской литературы не дают ему следовать соображениям корпоративной актерской выгоды. Истина, истина – вот что его влечет, полная правда и последняя откровенность перед другом читателем, без которых после А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя и Ф.М.Достоевского и браться за перо не моги!..
Единственное, что может сделать автор для бедного артиста Р., – это дать ему выкрикнуть сквозь клетку своей ограниченности:
– Виват властителям дум и депутатам Балтики!.. Виват социальным героям и жертвам гражданственности!.. Браво комиссарам и бесприданницам, шмагам и субреткам, парторгам и травести!.. Брависсимо ветеранам гонимого скоморошества и инвалидам гастрольных путей!.. Слава патриотам! Гип-гип-ура! Позор отщепенцам! Ату, ату!.. За нашу победу, товарищи!..
Вы как хотите, автор же предпочитает водку санкт-петербургского завода «Ливиз», коей является бесстыдным патриотом, и в качестве примечания сообщает для несведущих названия сортов: «Охта», «Менделеев», «Санкт-Петербург», «Синопская», «Пятизвездочная», «Петр Великий», «Дипломат», «Победитель» и т. д. Хороши все без исключения, а стыдно должно быть одному московскому заводу «Кристалл».
Последнее, что тут можно добавить, это уточнение о мизансцене. В некоторых мизансценах действительно не ощущается вовсе никакого стыда. Например, на корточках.
Не пробовали? Объясняю. Когда Николай Константинович Черкасов разговаривал с Иосифом Виссарионовичем Сталиным о том, как ему играть Ивана Грозного, он всю беседу сидел рядом с Вождем на корточкахи, скрывая таким образом свой высокий рост, смотрел на Учителя снизу вверх.
За эту мизансцену в Николая Константиновича мы камень не бросим, уж больно велика была степень риска, тут актерская игра могла стоить жизни. А то, что Сталин ему дачу в Комарове подарил, так это – пустяки, мелочовка, дешевая плата за великий талант, искреннюю любовь и живой страх…
Но что удивительно, точно так же, как Николай Черкасов, вел себя на наших репетициях артист X по отношению к Товстоногову. Стоило Гоге подозвать его для замечания, он, вспорхнув, оказывался рядом и, умаляя свои габариты, тоже опускался на корточки…Вряд ли X в такие минуты вспоминал Николая Константиновича, а скорее всего, даже и не знал исторического примера. Но интуиция у него была надежная, и, не скрывая обожания, он тоже смотрел на нашего Учителя снизу вверх.
Некоторые свое обожание не демонстрировали и слушали Мастера, находя другие мизансцены и соблюдая внешние приличия, а он – нет, не скрывал. И, судя по результату, правильно делал. Имеется в виду не художественный результат, а житейский.
Стоит ли тут же обнародовать назидательный вывод?
Очевидно, стоит, потому что, несмотря на успехи гуманитарных наук и лозунг писателя Чехова о ежеминутном выдавливании из себя раба, у нас в актерском сословии, к сожалению, еще не все такие чеховеды и ревнители. Значит, вывод.
Кто стыдится своего «невыдавленного» рабства, тот все равно раб и к тому же дурак. А кто им гордится, тоже, конечно, раб, но зато – настоящий умница!..
Да, в любых обстоятельствах лучше терпеть, а не горячиться. В японских обстоятельствах – тем более.
Цветок лотоса – символ рая, и если такой красивый цветок, как лотос, растет в болоте, то человек должен стерпеть все. Вот японский ответ на вопрос Гамлета «Что благородней духом?», вот почему хотя бы в Японии нужно было учиться сносить и терпеть. Если мы вообще могли научиться чему-нибудь еще…
Но Слава Стржельчик не мог больше терпеть и страшно горячился. Особенно при мне. Кроме остального, нас связывали теперь сцена вербовки в обкомгоркоме и наш безрассудный отказ. «При народе» он еще сдерживался, а тут мы отстали от компании по пути на Акихабару, и он давал выход своему темпераменту. Каких-то вещей он вообще не мог терпеть.
– Хулиганство!.. Просто хулиганство! – объявил он и, таким образом обозначив тему, перешел к подробностям, которые я опускаю. Тот, чьим поведением возмущался Слава, легкомысленно вышагивал впереди и даже не оглянулся. Во-первых, он никак не мог услышать ни рассказа, ни вывода, а во-вторых, те нравственные глубины, которые волновали Стржельчика, не были предметом его забот.
А Славу постоянно заботили актерская порядочность, чистоплотность и, конечно же, моральный климат в коллективе, театральном обществе, городе и стране. Он и прежде был настоящим гражданином, а вступив в партию, принял свой поступок всерьез и стал посильно помогать людям уже не только по доброте душевной, как прежде, но и по долгу партийного гражданина. Одно удовольствие было играть с ним в «Мещанах», когда монолог моего Петра упирался в стену его великолепного презренья.
– Мещанин! – припечатывал Тетерев-Стржельчик и добивал: – Бывший гражданином полчаса!..
И – с последним слогом – удар по клавишам!..
И – аплодисменты нам на пару!..
Правда, это он и всегда играл хорошо независимо от членства в партии.
Еще два года назад, в Буэнос-Айресе, Стриж рассказал мне на авеню Либертад мрачную историю о том, как первый секретарь обкомгоркома Гришка Романов, рассвирепев из-за Славиных проволочек, вызвал на ковер Володьку Вакуленко, предыдущего директора, и приказал ему в течение десяти дней оформить вступление Стржельчика в КПСС, иначе Вакуленке несдобровать. И выгнал его из кабинета. А когда бледный Вакула рассказал это нашим первым сюжетам, они все заволновались и стали сокрушенно кивать головами и делать сочувственные глаза и все стали брать Стржельчика под руку и говорить: «Что делать, Слава, придется тебе вступать… Надо же подумать о театре!.. Если ты не вступишь, у театра будут большие неприятности. Ты же знаешь, какой злопамятный этот Гришка, как он преследовал Юрского и выжил наконец Сережку из города и из театра!.. Что делать, Слава, такие времена, тут уж не отвертеться, придется тебе вступать…» А когда он поддался на их уговоры, и Володька на рысях побежал оформлять его членство, и он ради общего дела все-таки вступил, те же сюжеты стали морщить носы и отворачиваться, как будто он вступил прямо в дерьмо и от него уже воняет…
А потом все стали за глаза мыть ему кости: мол, смотрите, и этот туда же, мало ему «народного СССР», он еще метит в депутаты горсовета и прочее, и прочее, и так далее… Трах-тибидох-тибидох-трам-там-там!.. Там… та…
Положение и впрямь получалось поганое: и партийцы не больно-то держали его за партийца, и беспартийцы перестали считать своим. Хоть и член, однако не стойкий. Хоть и поляк, но почти еврей. И это несмотря на самого Гришку Романова и его принудительную рекомендацию… Полного доверия, которого Стриж, как никто другой, безусловно, заслуживал, он и не мог добиться ни у тех, ни у других…
Мы стояли у зоомагазина, как раз на полпути от «Сателлита» до Акихабары, и смотрели на попугаев. Я здесь всегда застревал.
Серо-белый, изящный, с красным хохолком был сердит и выкрикивал какие-то японские грубости.
Другой, чуть крупнее, совершенно белый, с желтым тюрбаном и красным клоунским пятном на щеке, наоборот, вроде всегда улыбался. Нравился мне и зеленый, среднего роста упитанный попка, который постоянно что-то раскусывал красным клювом и пожевывал, показывая черный язык; и два огромных гладиатора с мощными хвостами и в пестрых доспехах; и попугайные лилипуты, тоже разноцветные и веселые, вечно свистящие и поющие, как будто они живут не в клетках, а в раю; и черный дрозд с розовым клювом и желтыми очками; и щемящие душу колибри, совершенные крохи, никогда прежде не виданные…
Но обезьяна на цепи, сероголовая и белолицая обезьяна с длинным хвостом, сильная и грациозная, как женщина-вамп в кровавой драме, белолицая японская красавица, следящая за ходом продаж, – вот кто покорил мое беспутное сердце…
Я думал, что Слава успокоился, но оказалось, что это был только разгон.
– А тот? – грозно спросил меня Стриж и показал головой на северо-запад. – Ты-ы ero-о не зна-аешь, – зловеще пропел он. – И я, оказывается, его не знал… – Мы уже отошли от зоо, но он снова меня остановил. – Володька, только – ни-ко-му!.. Клянись!..
Мне стало неуютно, и я сказал:
– Если не доверяешь, я обойдусь…
– Доверяю, – глухо сказал он, и я понял, что тайна, от которой он жаждет освободиться, может его разорвать. – Он взял меня с собой на Черную речку, на дачу… На спецдачу… – И Слава сделал роскошную паузу, давая мне хотя бы отчасти вообразить себе егои спецдачу. —Я спросил, куда мы едем, но он ничего не сказал… Он сказал: «Увидишь…» Встречали нас… такие… Коля… И Сережа… И еще один… Не знаю, как его звали, но – референт… Значит, пятеро мужчин, а их – четырнадцать… Четырнадцать девок… Слушай. – Тут Стржельчик взял меня под локоть и заставил идти с ним в ногу, а голос понизил, не доверяя даже встречным японцам. – Кадры – отборные, можешь мне поверить. Стюардессы с зарубежных рейсов в основном. – Теперь я понял, по какой причине назначен конфидентом: рассказ о стюардессах Люлечка могла неверно истолковать. – И вот этот Коля наставляет на меня палец, вот так, как пистолет, и спрашивает его:«Будет молчать?» И онговорит: «Будет». Тогда референт наставляет на меня палец и опять егоспрашивает: «Ручаешься?» И онповорачивается ко мне и спрашивает: «Ты понял?» Я говорю: «Понял». А он мне опять: «Ты понял, что этого не было?»И я вижу, что это – другой человек, я его не знаю!.. И я ему говорю: «Я понял, это – сон!» И он – смеется… И эти тоже… И тут начинают подходить девицы… И все смеются, понимаешь?.. Всем – весело… Всем, кроме меня… Ну, я здороваюсь с ними, а Коля стоит рядом и говорит: «SOS! Эту – нельзя!.. И эту – тоже… А эту – можно…» А референт улыбается, он —смеется, представляешь?! – Тут Слава меня отпустил, и некоторое время мы шагали молча. Потом я задал глупый вопрос:
– А эти – Коля и референт – они партийцы?..
– Они? – тревожно переспросил Слава. – Они же охраняют…
– И девки? – спросил я. – Как ты думаешь, они – члены партии?.. Или сочувствующие?..
– Черт их знает! Какое это имеет значение? – нервно спросил Стриж.
– Ну, если им доверяют летать за рубеж и давать начальству, неужели беспартийные?..
– Можешь мне поверить, Володька, я нарочно не оставался ни с кем наедине!.. Ну выпили, потанцевали…
– Конечно, – сказал я, – на хрен тебе это нужно, только свистни!..
– В том-то и дело, – обрадовался Стриж.
– А ему зачем? – спросил я.
– Лестно, понимаешь, – объяснил он. – Где эти, там и он!.. Квартала два мы прошагали молча, а когда показалась Акихабара, я спросил:
– Слава, зачем ты это рассказал?
– Не понял…
– Зачем мне знать, если это такая тайна?
Он хитро посмотрел на меня и объяснил:
– Потому что ты можешь не послушаться…
– Ну вот, – сказал я, – теперь понятно…
Чувствую, что любознательный читатель опять огорчен неполной ясностью, а может быть, даже и ярится против автора: кто же все-таки увлек бедного Стржельчика в притон партийного разврата на берега Финского залива, в устье речки Черной, именуемой ранее Ваммельйоки, но отвоеванной в боях Иваном Пальму и победоносной Красной армией? Какой мерзавец задумал лишить его невинности при помощи коварных референтов и бесстыдных стюардесс?..