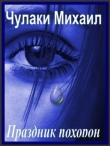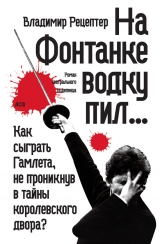
Текст книги "На Фонтанке водку пил… (сборник)"
Автор книги: Владимир Рецептер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Бывает, бывает, знаете…
Особенно в виду Фудзиямы…
18Виталий Константинович Иллич, в костюме которого на Японских островах сама судьба и лично Г.А. Товстоногов обязали меня выходить безымянным гостем в «Ревизоре», был не только умен, но и красив и хорошо сложен, отчего наши женщины между собой называли его Марчелло, сравнивая с самим Мастроянни. По манере поведения Иллич казался человеком флегматичным и даже степенным. На самом же деле в нем жили скрытый темперамент и, что особенно важно, притаенный и проявляющийся на полном покое юмор.
Как-то, еще до прихода в БДТ Г.А.Товстоногова, в театре готовили постановку пьесы И.Прута «Тихий океан» о суровой службе советских подводников, терпящих бедствие на дне океана. Офицеров подлодки играли Стржельчик, Иванов, Иллич, а ставил спектакль режиссер Альтус.
Поскольку в лодке кончался кислород, артистам, и прежде всего Виталию Илличу, казалось естественным играть некую заторможенность людей, испытывающих кислородное голодание. Но темперамент режиссера перехлестывал вялое течение подводного действия. Он взбежал на сцену и стал вдохновенно показывать всем, и прежде всего Виталию Илличу, как именно следует играть.
– Вот так, – приговаривал режиссер Альтус, увлекая исполнителей личным примером, – так… и так!.. Понял, Виталий?.. Ты должен сделать это так!..
На что Иллич, сводя на нет творческие усилия постановщика, совершенно невозмутимо ответил:
– Можно так, а можно и иначе.
– Только так! – не помня себя от ярости, на весь театр закричал обиженный режиссер…
Я понимаю, что выражение «можно так, а можно и иначе» совершенно банально и представляет собой общее место, но именно в театре при неизбежной диктатуре режиссера оно приобретает чуть ли не бунтарский смысл. Видимо, поэтому реплика Иллича сделалась крылатой и стала передаваться из уст в уста и даже из поколения в поколение. Если актеры хотели заявить о своем несогласии с режиссерским решением или подвергали его сомнению, они повторяли репризу. И в разговорах между собою пользовались ею как своеобразным паролем. Стоило раздумчиво и несколько флегматично произнести: «Можно так, а можно и иначе», и казавшаяся сложной ситуация парадоксально упрощалась. Часто, демонстрируя свое свободомыслие и независимость суждений, большедрамовцы, как заговорщики, намекали друг другу:
– Можно так, а можно и иначе.
Наследуя традиции актерского цеха, и Р. не раз пользовался «парадоксом Иллича». В конце концов, он учил широте художественных воззрений, звал к мирному сосуществованию враждующих театральных систем, наконец, наводил на мысль о будущем театральном рае, в котором никто никого не угнетает, не топчет и не ест…
Однажды во время гастролей в Нижнем Новгороде, в то время еще Горьком, Иллича поселили в гостинице рядом с Ниной Алексеевной Ольхиной, неувядающей красавицей и неизменной героиней Большого драматического. Те, кто хоть раз видел Ольхину на сцене или смотрел фильмы-спектакли с ее участием, например «Разлом» или «Лису и виноград», не могли не обратить внимания на ее роскошный, сильный, с потрясающими низами и волшебными фиоритурами голос и дивную, классически театральную манеру придавать любой фразе романтическую приподнятость и выразительную звучность. Такие голоса знатоки по праву называют «орга́н». И этим своим органным голосом Нина Ольхина часто разговаривала по телефону с оставшимся в Ленинграде мужем, человеком образцового терпения и кротости.
– Витюня! Ты не можешь себе представить, – выпевала она, – какой здесь вид из окна! Я говорю с тобой и смотрю прямо на Волгу, ты представляешь!.. А какая стоит погода, Витюня!.. Боже мой!.. Как жаль, что тебя нет с нами!..
Поскольку Виктор Зиновьевич находился действительно далеко от города Горького, Нина Алексеевна все повышала свое божественное контральто, передавая художественные впечатления так, что вместе с дорогим ленинградским абонентом ее слышала и вся гостиница «Волга».
– Витюня! Милый! Ах!.. Какое красивое лето! И представь – начинается нижегородская ярмарка! Может быть, ты все-таки приедешь к нам, Витюня?
Не выдержав оркестровой сцены, Иллич постучался к Ольхиной и сказал:
– Нина, подумай, стоит ли так надрываться, когда можно и по телефону поговорить?..
И эта фраза, несколько видоизменившись, тоже стала крылатой: «Стоит ли надрываться, – говорили мы друг другу, – когда можно и по телефону поговорить?»
Иллич был учеником знаменитого худрука Александринки Л. Вивьена и еще до войны заслужил одобрение старших коллег, сыграв в дипломном спектакле роль Егора Булычева. По окончании института он был принят в труппу своего учителя, получил броневую отсрочку и вместе с александрийцами отбыл по эвакуации в Новосибирск.
Когда театр вернулся в Ленинград, Н.С. Рашевская, руководившая в то время Большим драматическим, пригласила Иллича к себе на солидное положение и роли социальных героев. Его внешнее спокойствие, отсутствие суетной экспансивности и философская уверенность в своей правоте соответствовали, по-видимому, тогдашним представлениям о положительном герое. Иллич успел сыграть Синцова во «Врагах» и Власа в «Дачниках» Горького, когда в БДТ пришел Гога.
Событие это сильно и глубоко повлияло на множество судеб, но здесь мы ограничимся лишь общими обстоятельствами.
Как острили тогдашние шутники, Большой драматический был «награжден сразу двумя Георгиями», потому что вместе с Георгием Товстоноговым назначили и нового директора, которого звали Георгий Коркин. Конечно, он не снискал такой славы, как Гога, но хорошо запомнился многим старожилам.
В каноническую легенду «прихода» непременно включают две реплики – первого секретаря обкома Фрола Козлова в адрес Гоги: «Возьмешь БДТ – я тебя в городе главным дирижером сделаю» и самого Гоги в адрес общего собрания коллектива, сумевшего проглотить не одного худрука: «Имейте в виду: я – несъедобен!»
Свое заявление он подкрепил увольнением тринадцати объявленных ненужными артистов, один из которых тут же наложил на себя руки. Разумеется, приказы издавал другой Георгий, директор, но это не меняло сути дела.
Возникшая из множества слухов и свидетельств легенда варьирует число уволенных – двадцать восемь, тридцать четыре и т. д., – доводя нас до цифр гипертрофированных и даже патологических, превышающих самоё штатное расписание театра, и удваивая количество самоубийств. Однако автору оказывается совершенно довольно числа, наименьшего из названных, которое известно как чертова дюжина, и имени того отчаянного, который покончил с собой, узнав о своем увольнении. По странному стечению обстоятельств и его тоже звали Георгием, а фамилия его была – Петровский…
Попав на Гражданскую войну пятнадцати лет от роду, случайно или добровольно, Георгий Петровский успел послужить писарем в каком-то белом штабе, о чем неукоснительно сообщал во всех своих советских анкетах.
Говорят, Георгий Павлович был артист суховатый, а человек милый и отличался такой приверженностью к искусству грима, что в конце концов стал преподавать этот предмет в студии БДТ. Коллеги замечали, что он всегда приходил задолго до них и, устроившись перед зеркалом, с помощью париков, наклеек и краски старался изменить свое лицо, добиваясь при этом полной неузнаваемости.
Об этой странной манере лучше и проще других сказал в сердцах шекспировский Гамлет в переводе Бориса Пастернака: «Бог дал вам одно лицо, а вам надо непременно завести другое…» Правда, это относилось к Офелии и мотивы для изменения лица у Петровского были, очевидно, иные, чем у бедной дочери Полония, но это не отменяет и странного сходства…
С одной стороны, человек пишет о себе опасную правду в анкете, а с другой – пытается скрыться и стать кем-то другим…
Когда Петровскому сообщили об увольнении, он, придя домой, попытался зарезаться, и ему как-то удалось перерезать собственную глотку, но неудача преследовала его, и по первому разу врачи успели Георгия Павловича спасти… И уж после ненужного спасения он подготовил как следует веревку и повесился наверняка.
Ужас, испытанный оставшимися в труппе, коснулся самых именитых и даже неприкасаемых, что уж говорить об артистах среднего положения или скромниках второй категории.
Не знаю, повлияла ли воспитательная атмосфера страха на актерские возможности Виталия Иллича или он был понижен в ранге априорно, но положение его изменилось, и он не стал бороться за прежние права. Может быть, именно эта его нерасположенность к борьбе и молчаливая терпеливость повлияли на установление между ним и Товстоноговым приязненных отношений. Помог и случай, безусловно, заслуживающий того, чтобы отразиться в нашей летописи.
Он произошел на репетиции «Гибели эскадры» Корнейчука, которую Гога прежде ставил в Театре Ленинского комсомола, а к очередной революционной дате решил возобновить в БДТ.
В знаменитой сцене прощания с кораблем Виталий Иллич играл черноморца, уносящего с собой клетку с канарейкой.
Мастер построил сцену так, что каждый из уходящих получил сольный выход из центрального трюма и чуть ли не минуту сценического времени лицом к залу, чтобы зритель видел одно за другим десять, а то и больше одинаково молчаливых и трагических, но по-человечески разных прощаний с родным домом, каким для каждого моряка является его корабль. Сцена шла без слов, под звуки торжественного марша «Прощание славянки» в исполнении живого оркестра духовых инструментов.
Не знаю, что еще, кроме мощного дарования Георгия Товстоногова, подвигло всех участников так сильно и глубоко играть сцену и какие чувства теснили их души в кульминационный момент последнего расставания, но допускаю условно, что перед глазами Виталия Иллича, например, могли возникнуть и те тринадцать прощаний, которые у него на глазах пережили его товарищи, навеки покидая свой театр по приказу нового капитана. Каждого из них он хорошо знал и мог глубоко понять, потому что театр для артиста, как корабль для моряка, – родной дом…
Истории советского драматического искусства эти безымянные неинтересны в отличие от славной когорты товстоноговского театра, но, воспитанные русской литературой с ее классическим вниманием к маленькому человеку, мы на мгновение склоним головы перед их братской могилой…
Итак, во время одной из репетиций «Гибели эскадры» в театре присутствовал и проводил свою тотальную проверку М.О.Фурай, известный во всех труппах и концертных организациях инспектор обкома профсоюзов по охране труда и технике безопасности. Маленького роста, лысовато-седой или, скорее, седовато-лысый носатый человечек с тихим голосом и скромными манерами, Михаил Осипович, и сам ставший вскоре одной из городских театральных легенд, умел навести панику на всех, чью работу он проверял, потому что, стоя на страже трудящегося человека, он никогда взяток не брал и предлагаемую водку не пил…
Я не знаю, как это могло случиться, но матрос, выходящий из люка непосредственно перед Илличем, неся на плече тяжелый станковый пулемет «максим», не то от полноты чувств, не то с бодуна уронил этот самый «максим» прямо на голову Виталию…
Номер мог стать смертельным, и Виталий действительно на миг потерял сознание, но опомнился и, белый как полотно, самоотверженно довел до конца эпизод с канарейкой.
Фурай насторожился и по горячим следам стал проводить служебное расследование, надеясь найти виноватых. Но допрошенный с пристрастием Виталий сумел убедить его, что ничуть не пострадал, хотя его заявления не соответствовали правде жизни…
Товстоногов оценил этот поступок как проявление подлинного театрального патриотизма и актерского мужества и стал еще больше уважать нашего героя.
В «Третьей страже» Капралова и Туманова Илличу, как обычно, досталась роль человека немногословного и сдержанного. Если не ошибаюсь, это был не то дядька, не то телохранитель знаменитого Саввы Морозова, которого играл Копелян. Телохранитель был горцем, может быть, даже чеченцем, и роль обязывала Иллича участвовать во всех морозовских сценах. Если от Ефима Копеляна требовалось проявление необузданного русского темперамента, то от Виталия Иллича – по контрасту – ждали кавказской скрытности и внешней невозмутимости.
Однажды, выйдя со сцены, Иллич встретил за кулисами жену Копеляна Людмилу Макарову, не занятую в этом спектакле.
– Люся, ты видела, как я играл? – строго спросил ее Виталий.
– Нет, – ответила Люся, – я только что пришла.
– Ты много потеряла, – сказал Иллич, глядя поверх ее головы, – я сейчас на сцене просто неистовствовал, – сказал Иллич, которого никто, нигде и никогда в таком качестве не видел.
Об этом случае напомнил мне Вадим Голиков, и в поисках подробностей я переспросил Макарову.
– Он сказал «свирепствовал», – уточнила Люся.
Она владела достоверностью факта, а Вадим пересказал новорожденную байку. И если я отдаю предпочтение редакции Голикова, то не потому, что факту предпочитаю вымысел. Просто слово «неистовствовал» в этом ряду нравится мне больше.
Бывал Иллич и за границей, в том числе с «Ревизором», и за портовым городом Гамбургом записан еще один его знаменитый случай, который нельзя пропустить.
Не зная других языков, кроме русского, и доброхотно принимая систему, согласно которой в чужой стране за все отвечает кто-нибудь другой – старший ли четверки или хотя бы сосед по номеру, – Виталий во всем полагался на других. Вот и теперь, решив поспать перед спектаклем, он твердо надеялся на то, что не останется без попутчика. Разбуженный послушным будильником, он вовремя поднялся, принял душ, побрился, выпил чаю, перекусил на дорогу и собрался идти на спектакль.
Он толкнулся в дверь, но она не открывалась. Хитрый заграничный замок, казалось, нарочно прятал тайну своей защелки и не поддавался Илличу, отрезая его от внешнего мира. Что делать?.. Виталий стал деликатно стучаться изнутри номера:
– Жора!.. Валерий!.. Юзеф!.. Иван Матвеевич!.. – посылал он в замочную скважину, которой как будто даже и не было в плотной, идеально беленной и наглухо закрытой двери. Время между тем приближалось к «явке»: за сорок пять минут до начала подписи сегодняшних исполнителей на специальном листе с нынешней датой и именами действующих лиц должны убедить помощника режиссера в том, что все на месте и спектакль начнется вовремя.
Иллич стал стучать громче и взывать о помощи все тревожней, но наши ушли на спектакль, а службы гамбургской гостиницы соблюдали закон неприкосновенности приватной жизни, и никто на внутренний стук не реагировал…
Он стал звонить по телефону, но на той стороне трубку снимал один и тот же служащий коммутатора, не понимавший или делавший вид, что не понимает простого русского языка…
Виталий смотрел на часы и с ужасом убеждался, что начинает опаздывать не только к «явке», но и к самому спектаклю. Это становилось похоже на дурной сон. Спросите любого артиста, какие кошмары мучат его во сне, и он вам ответит: «Забыл текст!» или «Опоздал на спектакль!..» Кошмар… Кошмар наяву!..
Иллич попытался высадить проклятую дверь с разбега – ничуть не бывало! Отчаянье его достигло предела: он подводил родной коллектив в условиях повышенно ответственных зарубежных гастролей. И, собрав воедино все мужество и все знакомые немецкие слова, Виталий в последний раз снял телефонную трубку и в ответ на равнодушную абракадабру служащего коммутатора безумно возопил:
– Айн, цвай, драй, SOS!!!
И еще, и еще раз то же самое, потому что номер, ставший его тюрьмой, значился как 123, и первые три цифры немецкого счета обозначились наконец в его воспаленном мозгу…
Тут пришли с ключами ополоумевшие смотрители, освободили Иллича из плена и отпустили с богом играть бессловесного гостя в «Ревизоре».
Стоит ли говорить, что «Айн, цвай, драй, SOS!!!» тоже стало крылатым выражением и вошло в анналы нашей истории.
Сердечная симпатия, которую питал к Илличу Товстоногов, росла и проявлялась не один раз. На гастролях худрук, бывало, захаживал в номер Иллича, чтобы потолковать с ним о жизни, обсудить удачные покупки и даже посетовать на превратности судьбы.
Однажды, по сообщению очевидца, Гога показал Илличу четыре клетчатые кепки, счастливо купленные им сегодня в фирменном шляпном магазине. Примеряя их одну за другой у зеркала, Мастер предлагал Виталию последовать его примеру и советовал купить в том же салоне хотя бы один феноменально скроенный и предельно элегантный головной убор.
– Понимаете, Виталий, – сетовал Гога, всматриваясь в свое отражение то под одним, то под другим козырьком, – я очень люблю клетчатые кепки, а Нателла возмущается моей расточительностью: «Зачем тебе целых четыре кепки?..» А я ей отвечаю: «Они мне нравятся, все четыре!.. И я хочу купить все кепки, которые мне нравятся!..» По-моему, женщина должна понимать такие вещи!..
– Действительно, – вдумчиво согласился Виталий, – почему не воспользоваться случаем и не купить четыре?.. Всего по одной кепке на четыре времени года… Вам придется носить одну кепку целых три месяца…
– Это убедительно, – сказал Гога, на мгновение оставив зеркало и повернувшись всем корпусом к Виталию.
Тогда Виталий сказал:
– Почему, в конце концов, не позволить себе даже каприз?..
– Вот именно! – жарко подхватил Гога. – В конце концов, эти деньги я честно заработал!..
И, надев напоследок самую яркую из кепок, Товстоногов попрощался с Илличем за руку и, ободренный поддержкой, пошел к себе.
Поэтому я был глубоко убежден, что исключение Иллича из японского состава не доставило удовольствия нашему Мэтру.
Тем большая ответственность ложилась на меня.
Вынужденный заменить Иллича в «Ревизоре», я оказывался в трудном положении. Если с той или с другой, конечно, приблизительной степенью успеха можно было попытаться заменить артиста в роли г. Бессловесного, то заменить человека в поездке ни при каких обстоятельствах было невозможно. То бескорыстное равновесие, которого достигли в отношениях между собой Иллич и Товстоногов, оказывалось мне совершенно недоступно. В отличие от Виталия, который не претендовал ни на крупные роли, ни тем более на режиссерские работы, я всегда надеялся на что-то большее по отношению к тому, что у меня было, и этой своей незамаскированной надеждой по-человечески Илличу явно уступал…
Вот и сейчас, будь я хотя бы театроведом, я бы мог описать роли Иллича и, сделав его актерский портрет, оказать ему лучшую услугу, но я не театровед, а лишь временный наполнитель его костюма в спектакле «Ревизор» и, набрасывая этот кустарный рисунок, надеюсь на его великодушное прощение…
Прежде у Иллича была жена, которую звали Инной и которая удачно работала зубным врачом. А позже они разошлись, и от фигуры Виталия, такой, в сущности, близкой мне по фактуре, что на меня совершенно впору пришелся его родной костюм, стало веять еще большим одиночеством, чем прежде.
По истечении времени он вышел на пенсию и появляться в театре почти перестал.
Умер он от рака, а поскольку газеты об этом не известили и никто не позвонил, на проводах Виталия Иллича я не был.
19На всю Японию Зину Шарко «пристегнули» к Ивану Пальму. Характерный артист небольшого роста, с кавалерийской походочкой и шамкающей манерой речи, он шамкал и причмокивал, кажется, не от природного недостатка дикции, а от горячего усердия и давнего навыка играть стариков. Это настолько вошло у него в привычку, что, несмотря на почтенный возраст, Пальму пребывал в постоянном убеждении, что все его герои по-прежнему старше его самого. Однажды Товстоногов остановил репетицию и, обратившись к нему, сказал:
– Иван Матвеевич! По-моему, настал тот самый момент, когда вы можете перестать играть возраст!..
Р. казалось, что из тьмы сыгранных Пальму ролей он особенно любил роль деда Щукаря; Лебедев играл ее в театре, а Пальму – в концертах, которые Матвеич обожал до полного самозабвения: где угодно, когда угодно и за любой гонорар, можно и шефский, давайте!..
Он пришел в студию БДТ в 1936 году. Рыжий, вечно торопящийся Ваня казался моложе своих восемнадцати, как и много позже казался моложе своих восьмидесяти. Он все еще куда-то спешил и говорил так быстро, что эпизоды его жизни мелькали в рассказе, как на ускоренной кинопленке. Отец его был финном, а мать – русской, и до Отечественной войны Иван Матвеевич считался финном, а после Победы решил, что теперь им завоевано право писать в паспорте «русский».
В первый раз его призвали в 1939-м. Борис Бабочкин, худрук БДТ, дошел до самого Мерецкова, чтобы Пальму как человека, очень театру нужного, от службы освободить. Но Кирилл Афанасьевич Мерецков, тот самый, в лицо которого несколько позже мочился сталинский следователь, навстречу Бабочкину не пошел, сославшись на суровый приказ самого товарища Сталина.
– Всех финнов мы заберем, – сказал Мерецков, и Пальму был мобилизован в специальный финский корпус, который формировали накануне зимней кампании 1939 года. В тот раз Красной армии от белофиннов крепко досталось.
Нетрудно догадаться, что в соответствии со сталинской национальной политикой наш герой был поставлен перед жестокой необходимостью всю жизнь, особенно смолоду, когда он считался финном, во что бы то ни стало и всеми средствами доказывать свою беспредельную преданность советской власти.
В 155-м дивизионе 378-го гаубичного полка специального финского корпуса комсомолец Пальму служил помощником политрука, отвоевывая у белофиннов волость Уусикиркко, остров Равансари, речку Ваммельйоки, деревню Метсакюля и другие места, которые были тут же отданы русским переселенцам. Их названия стали соответственно меняться. В этих благословенных местах, забывающих свои финские имена, мы проводим порой свои вольные дни, например в театральном Доме творчества в поселке Молодежный или в санатории под названием «Черная речка».
В 1940 году Пальму вернулся в театр, а в 1941-м, уже с другим худруком Львом Рудником, выехал на гастроли в Ашхабад, откуда Большому драматическому предстоял переезд в Баку. Как всегда на рысях, Ваня бежал по чужой улице, как вдруг навстречу ему – Лев Рудник, представительный, между прочим, мужчина, и как раз с той самой красавицей артисткой Зинаидой Карповой, которую Товстоногов беспощадно уволил за выпивку, едва успев прийти в БДТ… И вот Рудник останавливает Ивана и, глядя ему в глаза, произносит эти исторические слова:
– Ваня!.. Война!..
С каким трудом добирались из Баку в Ленинград – рассказ отдельный. Но 30 сентября 1941 года последним эшелоном из Ленинграда Большой драматический был эвакуирован в город Вятку, и уже в Вятке Ваню мобилизовали во второй раз.
Служил он в красноармейском ансамбле Третьего Украинского фронта и с помощью острейшей сатиры и взрывного юмора, исполняя, к примеру, «Мы бежали русский край, айн, цвай, драй…» или под аккомпанемент баяна «Барон фон дер Пшик наелся русский шпик», создал колоритный образ неунывающего бойца Рукояткина… Да, да, автор текста сочинил грамотно: «Барон фон дер Пшик отведатьрусский шпиг…»и т. д., но Ваня пел так, как переиначило популярную песню народное сознание.
Путь ансамбля пролегал от Северного Донца через всю Украину, Кривой Рог, Одессу, Констанцу и Болгарию до самой столицы Австрии Вены. На одном штабном совещании полковник соседнего фронта приглашает как-то полковника Третьего Украинского, то есть Ваниного:
– Приходи к нам на концерт, у нас Штепсель с Тарапунькой будут выступать.
А наш полковник ему отвечает:
– Лучше ты к нам приходи, у нас самих есть Пальма-Рукояткин…
Тут, конечно, и орден, и медали, и долгожданное возвращение в 1946-м в Большой драматический…
Иван Матвеевич прославился уже на первых зарубежных гастролях БДТ, которые состоялись за двадцать лет до описываемых нами японских событий в братской Болгарии.
Как вышло? Грандиозный правительственный обед в сопровождении концерта выдающихся исполнителей закатил коллективу первый секретарь Болгарской компартии товарищ Тодор Живков, и этот его выразительный жест послужил примером и указанием для болгарских регионов. Идущую «сверху» протокольную обязанность хозяева сердечно топили в ракии и «Плиске», не говоря уже о волшебных болгарских винах.
По правде сказать, все мы сильно разбаловались, успев привыкнуть к хмельным рекам и ломящимся столам. Как вдруг один из болгарских городов вышел из общей шеренги и дал нам понять, что здесь «кина», то есть банкета, не будет… Постигшее всех разочарование с детской непосредственностью выразил именно Ваня. Приняв горделивую позу и отставив кавалерийскую ножку, с требовательной и капризной интонацией принца крови он спросил:
– А чем они это объясняют?..
Все грохнули, узнав в Иване Матвеевиче самих себя, и его крылатая фраза вошла в обиход на многие годы: плоха ли гостиница, завтраком ли почему-то не кормят, малы ли суточные и любые другие неудобства Большой драматический встречал славной фразой «А чем они это объясняют?», автором которой был не кто иной, как Иван Матвеевич Пальму…
Со своей женой он прожил пятьдесят девять лет, до самой ее смерти, и гордился неординарной для женщины прокурорской профессией супруги. И сын их пошел по юридической линии – сначала таможенник, потом адвокат. В такой симметрической позиции – между адвокатом и прокурором – Иван Матвеевич мог всегда чувствовать себя, с одной стороны, защищенным, а с другой – готовым к нападению и обрадовался, когда внучка тоже поступила на юридический…
Неудивительно, что человеку с такой биографией, к тому же старому члену партии, в Японии доверили руководство четверкой, в которую входила трудновоспитуемая Зинаида Шарко.
– Зина, – сказал он ей со всей строгостью в один из бездельных токийских дней, – ты почему ходишь одна? Почему нарушаешь?..
– А я языки знаю, – нашлась Зинаида.
– Какие? – удивился Иван Матвеевич.
– Немецкий. И французский, – сказала Зина. Главное было не задумываться и отвечать быстро.
– Откуда? – потрясся Пальму. Он не мог представить в своей подопечной такого языкознания.
– Из театрального института, – твердо отвечала Шарко. – Нам же преподавали!
Факта преподавания иностранных языков в театральном институте Иван Матвеевич опровергнуть не мог.
– Да? – переспросил он. – Ну все равно, ты должна ходить в своей четверке.
– Хорошо, Иван Матвеевич, – сказала непослушная Зина, – я поняла…
Через несколько дней в два часа пополуночи Иван Матвеевич постучался к своей подопечной по личному вопросу. Запахнув кимоно, Зина впустила его, обратив внимание на рукопись, которую держал в руках взволнованный коллега.
– Послушай, Зина, – сказал Пальму конфиденциально-интимным тоном, – тут в Японии некоторые покупают камушки. Мне попался один такой… Красненький… Ну, как он называется?.. Ну, этот… У нас еще режиссер был такой… Агамирзян… Рубен Агамирзян… Ага!.. Вот!.. Рубин, камешек рубин!..
– Да, – авторитетно подтвердила Зина, – есть такой режиссер. И камешек такой есть.
– Но ведь этот рубин стоит столько иен, что на них можно купить… – и Иван Матвеевич передал Зине рукописный перечень предметов, равных по цене одному рубину.
Оказалось, что за те же иены можно приобрести роскошный видеомагнитофон с телевизором и обширным «прикладом», или три гигантские стереосистемы, или тридцать пар модельных туфель, или двести пар «красоток», как выразился обуреваемый сомнениями автор расчетной записки.
– Кроссовок, Иван Матвеевич? – переспросила Зина.
– Ну да, – со вздохом сказал он.
Подсчеты велись скрупулезно и отняли у Пальму много сил.
– Так в чем же проблема, Иван Матвеевич?
– Так не стоит, наверное, этот рубин покупать, если столько красоток! – воскликнул в отчаянье бессонный Пальму.
– Я не знаю, Иван Матвеевич, – сдержанно сказала Зина, – это уж вы все-таки решите сами.
– Да? – спросил он и, собравшись с силами, подытожил: – Ну ладно, я решу… Но только очень тебя прошу, Зина, ходи как положено, ходи в четверке!..
– Будьте спокойны, Иван Матвеевич! – чарующим голосом сказала Зина.
После театрального института ученица легендарного Бориса Вольфовича Зона Зинаида Шарко попала в театр Атманаки.
Сейчас объясню. В те времена – начало пятидесятых – в составе империи Ленконцерта жили два таких коллектива. Театр Райкина позже обрел независимость, его помнят все, а театр Атманаки забыли. Между тем так же, как Аркадий Исаакович, Лидия Георгиевна Атманаки любила резкую смену костюмов, мгновенные перевоплощения и легко скользила от женских к мужским ролям, щеголяя разными очками, паричками, накладными носами и т. п. Основной ее стиль определялся парадной черной юбкой и черным смокингом с блестящими атласными отворотами.
Положив глаз на бойкую студентку, Атманаки сказала Зине:
– У меня ты получишь сразу восемь ролей, и мы объедем всю страну!
Коллектив приступал к работе над пьесой Владимира Полякова «Каждый день», а режиссером был приглашен лауреат Сталинской премии Георгий Товстоногов. С ним Зина была еще не знакома, но на восемь ролей и гастрольное турне клюнула.
Правда, профессор Зон успел порекомендовать ее в ТЮЗ, но Александр Александрович Брянцев сказал:
– Борис Вольфович, она же – Гулливер, что она будет делать в моем театре?
В действительности Зина не была настолько крупна. Очевидно, Брянцев имел в виду то, что артисты ТЮЗа, призванные всю жизнь играть пионеров и школьников, набирались на манер лилипутов.
На первых же репетициях в театре Атманаки Гога абсолютно Зину покорил и, оценив ее способности, пригласил на работу к себе, то есть в Театр имени Ленинского комсомола. Он сказал:
– Вы мне понравились, потому что сразу берете быка за рога.
Тут помимо творческого контакта между ними пробежала еще одна тревожная искра и, как, возможно, померещилось автору, начал исподволь развиваться роман, о котором до сих пор не известно читающей публике. Сама Зинаида Максимовна в воспоминаниях о Георгии Александровиче эту тему успешно обошла – и потому, что всегда была благородно скромна, и оттого, что по сей день служит в театре его имени.
Прочтя рукопись ее воспоминаний, сестра Гоги Нателла (друзья и домашние всю жизнь называют ее Додо) спросила:
– А почему у тебя не было с ним романа?
– А почему ты думаешь, что его не было? – мгновенно отпарировала Зина. И Додо переменила тему…
Конечно, автору хотелось бы на этой слабой основе дать волю своему разнузданному воображению и, опираясь на собственный опыт, изобразить свободными красками нечто возвышенно-нежное и драматически-тайное, но он не созрел для такого поступка. Видимо, всё впереди, там, где под вулканическим силуэтом вечной Фудзиямы кроется случайное пристанище и оживает новая отвага.
О, какие извержения могут обрушиться на нашу голову, любимый читатель! Какая лава двинется с горы!.. 1 апреля 2000 года на острове Хоккайдо уже пробудился вулкан Усу, и местных жителей пришлось отселять в срочном порядке…