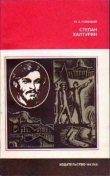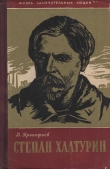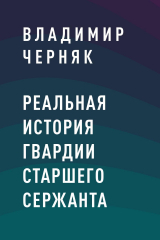
Текст книги "Реальная история гвардии старшего сержанта"
Автор книги: Владимир Черняк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Но вот в апреле 30-го года происходит обновление сельсовета, и вместо Ивана Соловья председателем становится приятель Степана Ильича, хороший хозяйственник Василий Кошарный, между прочим, член партии большевиков. Он не поверил слухам, что Илью Яковлевича расстреляли. На одном из первых же заседаний сельсовета под своим председательством, состоявшемся 26 апреля 30-го года, он предложил рассмотреть завалявшееся заявление Ильи Черняка о восстановлении в избирательных правах. И Кошарный подписывает следующее Постановление:
Черняк Илья был лишен за Молотилку Каковую имеет с 1927 г. Но батраков совершенно не имел. Никаких. Молотьбу производил за цену указанную с/советом. Признаков же Закобаления нет. А поэтому права Голоса Восстановить.
Примечательна также КАРТОЧКА лишённого избирательных прав Черняка Ильи Яковлевича, которую также составил Кошарный. В ней повторялись старые данные о составе семьи, поголовье скота и был повторён перечень машин, но теперь указывалось: наёмных рабочих постоянных и сезонных нет. Поскольку такая карточка заполняется только для лиц, лишённых избирательных прав по признаку найма рабочей силы, о чём гласит надпись на самой этой карточке, указание отсутствия наёмного труда ставит само лишение прав неуместным. Ранее копию этого Постановления и эту КАРТОЧКУ Кошарный давал Софье для подкрепления её просьбы о помиловании мужа. Теперь он советует и Степану Ильичу послать заявление в Районную избирательную комиссию с просьбой восстановить себя в избирательных правах, приложив эти документы. Поскольку все обвинения отца автоматически переносились и на его сына, Кошарный посоветовал сконцентрироваться на оправдании именно Ильи Яковлевича:
В 1927 году мы работали совместно совокупивши два двора с гражданином односельчанином Запашным Василием Николаевичем, что он подтверждает сам поэтому сельизберком недооценил этого дела и признал работавшего с нами Запашного как эксплоотированного. А что касается молотилки, отец работал на стороне, но без наёмного труда, работал на ней сам, других эксплоотируемых отраслей нет никаких, с малых лет мы, отец и я занимаемся крестьянством. На основании изложенного прошу Юдинскую избирательную комиссию рассмотреть моё ходатайство осторожно и более целесообразно и лишения с меня, и всей нашей семьи прошу снять. В избирательных правах восстановить.
Ответа на заявление не последовало. Мало того, вскоре забрали и самого заявителя. Это произошло 30 августа 1930-го года.
Арест Степана Ильича привел его мать и жену к глубокой панике. Первая осталась с четырьмя детьми в возрасте от трёх до пятнадцати, вторая – с одним ребёнком годовалым и другим в своей утробе. Софья и Лиза снова пишут заявления о восстановлении прав своих мужей, объясняя, что все предъявленные им обвинения недействительны, тем более для Степана, который был отделён от отца два год назад и хозяйство имел совсем не богатое. Да и жил-то он ведь в пластяной избе, так какой же он богач? И как может быть виноват сам Илья Яковлевич, если налоги он платил целиком и без задержки! Бедные женщины и думать не могли о его каких-то преступлениях против советской власти, ведь никто не удосужился сказать им об этом обвинении… Никакой реакции властей на вопли несчастных женщин не последовало.
Но опять со всей энергией вступился теперь уже за Степана Ильича Василий Кошарный, поскольку был уверен, что его друга преследуют незаконно. Степана Ильича отправили на лесоповал в Каргатское лесничество Чулымского района Западно-Сибирского края.19 Лагерь находился в селе Пенёк.20 Кошарный не побоялся встретиться с арестантом, чтобы написать с ним заявление в Журавскую избирательную комиссию о восстановлении права голоса. Затем он сумел настоять на обсуждении там этого заявления и добиться благоприятного постановления. Он сделал и прислал Степану Ильичу выписку из протокола. На обратной стороне документа Кошарный не побоялся послать привет своему другу словами, написанными карандашом: Добрый день дорогой Степан Ильич. Далее Кошарный переправил заявление Степана Ильича и выписку из протокола в следующую инстанцию, в районную избирательную комиссию…
В заявлении снова объясняется полная невиновность Степана Ильича:
Ходатайствую пред Журавской Избирательной комиссией о возстановлении меня в правах голоса как лишенного за отцовское имущество из которого я отделен уже второй год по раздельному Акту. Считаю себя не виновным ни в каком положении. Моя семья находится совершенно в другой, своей избе, а я нахожусь в настоящее время на принудительных работах. Моё имущественное положение: лошадь 1, корова 1 и баранов 2. Инвентарь: жатка 1, фургон 1, плуг 1, телега 1. Построек: изба пластяная 1, анбар деревянный 1. Так что по имущественному положению я средняк. Поэтому я считаю лишили меня права голоса неправильно. Я Черняк Степан Ильич, имея от роду 21 год, я ещё не чувствую себя в противном настроении против государства и за свою молодую жизнь я не имел наемного труда и не закобалял ни одного батрака и почемуто я попал в такое позорное лишение. Изо всего вышеизложенного а также как думаю я, а так же видно и вам, что я лишению не подлежу как крестьянин маломочный середняк. И я думаю, что в Журавской избирательной комиссии к моему заявлению отнесутся со всей сурьёзностью и разберут его в действительности так как это нужно, а по этому ещё раз прошу Журавский Изберком разобрать мое заявление и возстановить меня в правах голоса как честного крестьянина середняка.
Но вот через месяц, уже в начале 31-го года, Кошарный извещает своего друга о решении районного Избиркома на его заявление о реабилитации: ОТКАЗАТЬ, как эксплаотатору чужого наёмного труда.
Надежды на милость властей падали… Степан Ильич, омрачаясь в душе, сильно загрустил. В одночасье лишившись всего – земли, семьи и свободы, он теперь лишился и надежды… Случившаяся невероятная, неправдоподобная катастрофа никак не могла быть освоена разумом.
Отдельно и остро Степан Ильич переживал об отце. Он привык чувствовать рядом неколебимого, сильного и мудрого наставника. Теперь его лишили этой опоры, лишили навсегда – он был уверен, что отца расстреляли. Да, Софье сказали в Каинской тюрьме, что её мужа услали неизвестно куда. Но это же, как без права переписки, то есть, скорее всего, – расстрел. Все здравомыслящие были уверены, что Илью Яковлевича и осуждённых с ним подвергли высшей мере наказания, только такие слухи ходили по селу.21
Приписанные к смерти
В Журавке подлежащие выселению за пределы округа ждали предполагаемого отъезда в неизвестность. В общем-то, ходили только слухи об этом. Да, вроде было такое постановление, но никто о высылке их не предупреждал. Но и трудно было поверить, что вот так просто возьмут и увезут куда-то к чёрту на кулички с детьми, с малыми детьми! и… куда? зачем? за что? Женщины на всякий случай обдумывали, что нужно будет взять с собой.
Софья с тётей Ильи Яковлевича Матрёной Максимовной занимались детьми… собственно, оставалось только это – ухода за скотиной они были уже лишены. Лиза продолжала обходиться одна, но теперь у неё было уже два ребёнка – второй, мальчик, родился в январе 31-го. Ему дали имя деда, назвав Ильёй. Окрестить младенца не удалось – церковь не работала по отсутствию священника…
Никакой поддержки или сочувствия от сельсовета или информации о намерениях властей по отношению к семьям репрессированных уже не было, потому что Василия Кошарного сняли с поста председателя сельсовета…
Новый состав сельсовета готовился произвести опись собственности семей кулацких хозяйств, подлежащих выселению. Правда, эти хозяйства уже обобрали перед арестом глав семейств, но, может, что ещё у них завелось, и не везти же это им с собой! Однако сверху приходит распоряжение срочно произвести сначала обыски на предмет наличия оружия и денег. Да, конечно, высылаемых женщин надо разоружить. А деньги… они колхозу вот как нужны!
Сохранился акт такого делопроизводства в избе матери Степана Ильича:
1931г. Мая 10 дня. Я председатель Журавского с/сов. Чухно Ф в присутствии понятых грн с. Журавка Самусь и Шеверда постановили настоящий акт о ниже следующем Сего Числа производили обыск у гр-ки с. Журавка подлежащого к выселке из пределов Чистоозёрного рна Чернякова София при обыске обнаружено следующее: при обыске оружия денег и денежных документов не оказалося очом и постоновили записать настоящий акт.
Вскоре была произведена и опись имущества. Конечно, описи были очень краткими. За гражданками Черняковой22 Софией Ивановной и Черняковой Елизаветой Ивановной записали по избе пластяной, по одному топору, муки 1 и 5 пудов, пшеницы 15 и 10 пудов соответственно.
Да, небогато было с имуществом высылаемых – в их собственности имелось только по одному топору, ведь избы пластяные, числившиеся в описях перед арестами их мужей как хаты деревянные, уже перешли в собственность колхоза. Что касается муки и пшеницы. При аресте глав хозяйств эти продукты были изъяты полностью. Да их и немного было. Например, у Ильи Яковлевича, согласно описи его имущества перед арестом, числилось всего 3 пуда пшеницы, а муки 1 пуд. То, что какие-то пуды того и другого появились в домах Софьи и Лизы – это были продукты, собранные их родственниками и переданные в их семьи для пропитания не только сейчас, но и с надеждой, что этот бесценный груз в каком-то количестве удастся им взять с собой.
И вот предчувствующим недоброе объявляют об их отъезде в Томск и далее по реке на север. На сборы дают три часа.
Приписанные к смерти… Отправляя несчастных женщин и детей на северное безлюдье, им запретили брать с собой большой запас продуктов. Так что имеющиеся пуды муки и пшеницы остались голодным колхозникам. Удалось только, кроме пропитания на дорогу, взять с собой мешочек сухарей… это для вида, а ещё некоторое их количество Матрёна Максимовна заранее поместила в подкладки одежд…
В списке высылаемых под заголовком «Семья Степана Ильича» были перечислены восемь человек:
Софья (40 лет) с детьми: Николай (16), Дуся (13),
Трофим (9) и Вася (7 лет),
Лиза (21 год) с сыном Ильёй (пятимесячным) и
Матрёна Максимовна – тётя Ильи Яковлевича (97 лет).
В список не попал старший ребёнок Степана Ильича – его двухлетняя дочка Аня к моменту высылки «потерялась», её удалось спрятать в погребе у родителей Лизы. Позже ребёнка, в моменты прихода нежданных гостей, приходилось помещать в это убежище.
Переселение семей «кулаков» из Журавки в Нарым23 произошло в мае 1931 года. Спецпоселенцам предоставляли возможность умереть в пути или в ссылке, а не поставили сразу к стенке или на край оврага. Хотя это было бы намного проще, без хлопот и расходов – расходов, по крайней мере, на транспортировку и вооружённое сопровождение. По-видимому, отправка на спецпоселение – это было проявление особой формы милости… а может, просто экономили свинец, который пользовался тогда большим спросом.
Из Журавки до Томска арестантов везли на телегах. Охранниками были деревенские же, усевшиеся на «кулацких» коней. Спали, где застанет ночь. В Томске погрузили на баржу и – на север, на север, в топи и болота… Как удобно приговорённых к смерти транспортировать по воде! Ведь умерших в пути можно сбросить прямо в реку… Ну, упал человек в воду, ну, утонул… бывает, бывает…
Вырванные из домашнего уюта, а это были только старики, женщины и дети, они были послушны, воспринимали всё безропотно, будто затаились от всех и вся для экономии душевных сил в ожидании худшего… Баржа была перегружена. Из-за тесноты Лиза ночью в полусне свалилась с верхней палубы вместе со своим ребёнком. Сына она удержала на себе, но сама сильно ушиблась головой.
Приписанных к смерти высадили не на берегу Оби и даже не на её притоке, а притоке её притока Васюган – Нюрольке, определив их в центр Васюганских болот.24 Это более 500 км по рекам Томи и Оби от Томска, ещё 150 км по Васюгану и около 30 км по Нюрольке. Ближайшим населённым пунктом было село Каргасок на Оби недалеко от устья реки Васюган. В общем, место высылки было очень благоприятно для исчезновения должных умереть по безумной идее, предполагавшей избавление России от самых работящих и памятливых, впитавших в себя всю тяжесть и сладость результатов нелёгкого крестьянского труда. Эти «избавители», по-видимому, были уверены, что о запланированных смертях с этого гиблого места вряд ли когда-нибудь донесутся до потомков даже слухи…
Вышедшие на берег, не понимая ещё до конца, что с ними случилось, неподвижно стояли, глядя на катер и баржу, которые разворачивались и уже сносились течением в сторону, откуда они прибыли. Стояли и смотрели на то, что, хотя и доставило их на погибель, но было частью прошлого, живого, которое вот скрывается от них навсегда. Когда это то совсем скрылось из глаз, когда было осознано, что их бросили на выживание и помощи ждать неоткуда, в толпе несчастных начался ропот, а местами плачь и даже крик, что, в общем-то, означало проявление жизни, но жизни другой, жизни в предчувствии смерти…
Вся масса прибывших разгруппировалась по семьям, в круги своих родных. Группой Черняков стал распоряжаться старший здесь сын Софьи, Николай. Он был молод, полон сил, и его вовсе не выводила из себя видимость смертельной опасности. Живой должен жить! А чтобы жить, нужно вертеться! Прежде всего, чтобы успокоить людей, надо срочно занять их делом! Осмотревшись, он выбрал для пристанища повышенный участок берега. До вечера было ещё далеко, а с дороги положено попить чайку. Попросив старших женщин пройти в недалёкий лес за листьями смородины для заварки чая, Николай послал Трофима и Васю, собирать хворост и всякий сушняк для костра. Сам он сообразил очаг в виде двух сучковатых опор и перекладины. Топорик и нож нашлись в сумке для вещей малыша. Топорик был тут же насажен на топорище в виде палки подходящего размера, обработанной ножом. Ведро нашлось в мешковатой сумке на самом дне. Через какое-то время разгорелся костёр, и вскипела вода, куда брошены были листья смородины. Неплохо бы какую-нибудь нагрузку к чаю. Матрёна Максимовна выделила всем по сухарику…
Теперь нужно было устраиваться на ночлег. Шалаш на скорую руку – две опоры с перекладиной, на которую набрасываются молодые берёзы и ели, и – мелкие ветки берёз и хвойные лапы на постель…
Уже в сумерках, перед самым сном, тётя Матрёна раздала всем ещё по сухарику…
Первые недели ссыльные были предоставлены самим себе, и некоторые уже тихо умирали. Сначала отходили в мир иной маленькие дети и женщины преклонных лет. Только некоторые семьи мужественно держались. Наша семейка была осколком дружной семьи, скреплённой желанием и навыками проливать пот – это было у них как бы обычаем, и даже не способом выжить, а было самой жизнью. Природа щедра и сибирская тоже. Лес, река могут прокормить и одеть человека. И счастье их, или их удача, было в том, что среди них имелся паренёк, который в свои 15 лет был уже не только вполне состоявшийся мужик с навыками и смёткой земледельца и строителя, но и обладал отменными талантами охотника и рыболова.
Поскольку ссылка началась в пору роста съедобных трав (кандыки, пучки, медуница, молочай) и в период гнездовья птиц, то спасением был подножный корм и всё, добытое разорением гнёзд (яички, выводок, иногда застигнутые врасплох взрослые особи). А у нашей ссыльной семейки, кроме того, регулярно была ещё хоть какая-то уха. Рыболовные снасти? Уходя в ссылку, Николай прихватил с собой не только их (где, кроме всего необходимого для удочек, был и небольшой бредень), но и моток проволоки на петли для зайца, конский волос на силки для рябчиков и небольшую лопатку.
Но вот недалеко от лагеря ссыльных появился пост или контора! Был построен небольшой дом, где поселились надсмотрщики, и другой – столовая со складом для продуктов. (Столовая, конечно, для надсмотрщиков).
Вскоре было объявлено о предстоящих работах. Все взрослые должны были заниматься раскорчёвкой леса под будущую пашню и устройством землянок под будущую зиму. За невыход на работу запирали в карцер, специально построенный для этого небольшой сарай.
Ссыльным положено было пропитание! – 50 г молока в день на ребёнка и 200 г муки на работающего взрослого. И пропитание действительно выделялось! Правда, до ссыльных доходило не сразу и не всё. Соль вообще считалась в Нарыме за излишество или роскошь, её копи остались в Томске у причалов пристани и вблизи железнодорожных вокзалов, и никто не собирался доставлять их в Нарым. По мизерным нормам питания25 и по недвижно лежащим запасам соли в Томске можно судить, что местные власти правильно понимали намерение центральной – ссыльные были приписаны к смерти, и тянуть с этим было неразумно.
Естественно, что Лиза, несмотря на то, что Илья был ещё грудной, выходила на работу, чтобы получать свой паёк. Пока Софья и Лиза отбывали трудовую повинность, все дети оставались на попечении Матрёны Максимовны. Конечно, Дуся была ей большой помощницей.
А что собой представляла местная карательная власть, вся власть – от непосредственно надсмотрщиков до губернской комендатуры? По тому, что они творили, это в основном были люди, склонные к разбою, что предполагает способность хладнокровно совершать убийства невинных людей. («Нормальный» человек при такой «работе» рано или поздно сойдёт с ума, и такие случае были на самом деле.). Конечно, среди карателей, особенно в нижнем их ряду, могли оказаться наивные и безвольные люди, с отвращением выполняющие приказы, но в верхних рядах господствовали откровенные ястребы, с большой охотой и с наслаждением клюющие по живому.
Ссыльные могли непосредственно видеть только конечную цепочку дьявольского бича, и они остро ощущали его жёсткость и безжалостность. Особенно страдали девушки и молодые женщины. Назойливые надсмотрщики норовили приходить к их «жилищам», якобы чтоб напомнить об обязанности выходить на работу, но на самом деле, чтоб поиздеваться над их невинностью и стыдливостью. Их, мягко говоря, грубый и наглый флирт легко сходил им с рук, ведь в массе ссыльных вообще не было мужчин – главы семей ссыльных были собраны в трудовые лагеря… если ещё были живы…
Надсмотрщики, кроме учёта труда, вели учёт умерших. Они составляли поимённый список усопших с указанием причины смерти. Причины не отличались разнообразием – это были исключительно «голод» или «болезнь». Диагнозы ставить было некому из-за отсутствия медицинской службы. Списки умерших регулярно посылались в «Центр». Судя по обширности списков и по реакции на них «Центра», точнее, по её отсутствию, можно сказать, что всё шло в соответствии с правительственной программой…
Шло время, уже разгоралось лето. Было ясно, что переживших этот благодатный период будет ждать зима, долгая сибирская зима с её холодом и голодом, а затем – затяжная нарымская весна с разливом рек и расширением болот, что делает практически невозможными охоту и лесной промысел в этот период. Поэтому с лета и осени нужно было запасаться едой на период более полугода. В основном это была сушёная рыба, грибы и ягоды, но удавалось немного подсушить и мяса, подвешивая противень над слабым костром. Каждый божий день нужно было что-то съесть, но и припрятать про запас. Значительную долю запасов составляла брусника и кедровый орех.
Николай почти каждый день промышлял в лесу. В своих походах он старался отмечать в памяти отдельные деревья или их сочетания, имеющие «особые приметы», которые могли бы служить ориентирами, позволяющими найти нужное место или не заблудиться. Он также запоминал еле заметные тропы лесных жителей и направление полёта водоплавающих птиц. Николай исходил всё вокруг на день пути, иногда ночуя в лесу. Вскоре он уже знал расположение всех проходимых и непроходимых болот, места всех ближних и дальних озёр, ягодные и грибные места, а также кедрач. Он всегда возвращался с дарами леса, где, кроме растительной пищи, иногда был молодняк птиц и рябчики. Да, рябчики иногда попадались в петельки силков.
Немаловажным средством охоты были ямы, устроенные на пути звериных троп или вблизи нор. В них попадались молодые зайчата, птенцы, только что покинувшие гнёзда, но однажды там оказался барсук! Надо сказать, у Николая одно время был спутник по дальним походам в лес. Он подружился с парнем лет пятнадцати, также увлекающимся охотой и рыбалкой, для которого лес и река тоже были как родной дом. Вдвоём бродить по лесу куда веселей! Приятели иногда выходили на промысел вместе, а после него делили добычу пополам. Но бывало и так, что, увлекаясь каждый преследованием своей добычи, они теряли друг друга, и тогда возвращались из лесу поодиночке. Весьма удачными у них случались совместные вылазки на токующих глухарей, когда можно было подкрадываться к току с двух противоположных сторон. Вспугнутая одним из них, птица взлетала в сторону напарника, которому иногда удавалось её приземлить.
Сильно ли донимал гнус? Господи, гнус – это была не самая большая беда. Его хватало и в Журавке, сибиряки к нему привыкают с детски лет, так что их организм становится практически невосприимчив к яду этих кровососущих. Более важной заботой, чем отбиться от гнуса, была опасность встречи… не с медведем или волком, а с человеком, ну, не как с таковым, а с голодным и отчаявшимся человеком. Такие встречи иногда случались, но пока кончалось тем, что обе стороны старались тут же скрыться друг от друга. Встречные не стали ещё отчаявшимися? Или таковые не рыщут в глубине леса?..
Идя на промысел, Николай никогда не брал с собой что-либо съестное – что-то пожевать всегда находилось по пути. Конечно, бывало, что он голодал. Но он заметил, что если не поесть два дня, то чувство голода исчезает, и какое-то время, исчисляемое иногда днями, есть не хочется. Правда, после этого возникает неодолимое желание что-то съесть… Но – уже поздно, дело сделано! А что-то съесть находилось… Выход «на охоту» стал для Николая необходимым и привычным делом. На случай дождя у него был плащ с капюшоном и резиновые сапоги. Уходил уже к известным, «своим» местам. Дождливая погода иногда даже способствовала удаче. Рокот дождинок создаёт шумовой фон, позволяющий поближе подкрасться к добыче. И не только сам шум дождя способствовал этому. Падающие капли производят гипнотизирующее воздействие на птиц, они стараются ловить дождинки, подставляя под них своё лицо и как бы замирая от удовольствия. Они в это время расслабляются ещё и потому, что, наверное, считают, что их враги в такую погоду отсиживаются по своим логовам. Николаю не раз удавалось поразить палкой этих глупых созданий, потерявших бдительность. И именно в дождь к ним можно подойти близко. Но, конечно, по правде сказать, такая удача была большой редкостью, ведь птица в дождь не выставляется, она старается найти себе укромное местечко.
По утрам Николай зачастую выходил на рыбалку, один или вдвоём с Трофимом, когда они распускали бредень.
Не все были так предусмотрительны, отправляясь в ссылку, а у многих семей не было взрослеющих сыновей с талантом добытчика. В таких семьях начинали уходить из жизни, уходили обычно в тишине, лишь иногда при громких рыданиях женщин, взывающих к Спасителю… или проклятиях в его адрес, что иногда вырывалось из отчаявшейся груди мужчин. Обживающий поселенцами берег Нюрольки наполнялся трупами тех ссыльных, хоронить которых было некому. Шалаши приходилось переносить дальше и дальше вверх по течению. Надсмотрщики время от времени заставляли ссыльных закапывать умерших в больших ямах, а если трупов было мало, они сами сбрасывали их в реку…
Между тем, ссыльным нужно было готовить зимние квартиры. Стандартное жильё для спецпоселенцев в Нарыме были бараки на сто человек. Но их строили только тогда, когда ссыльных поселяли вблизи сёл, то есть в более-менее цивилизованном месте. Здесь же было глухое, дикое безлюдье, здесь люди уподоблялись кротам, а кроты живут, зарываясь в землю… Землянки! Работа по их строительству была как трудовая повинность, наряду с вырубкой и раскорчёвкой леса. Поселенцам выдавались лопаты и топоры, которые должны были сдаваться в конце рабочего дня.
Землянка, так землянка, хоть не дом, но место жительства. Стены устанавливались из молодых сосен и берёз, ими же закрывался потолок. В качестве утеплителя – ветки сосен и елей, и, конечно же, земля. Земляной пол промазывался глиной. Из мебели сооружались только нары. К зиме были поставлены круглые, как бочки, железные печки. Дрова заготавливал каждый, кто как мог. Поскольку в морозы нужно было топить утром и вечером, а зимой добывать дрова не так-то просто, многие замерзали. Зима закрывала их белым-белым мягким покрывалом…
Зимой тоже можно было добывать в лесу мясную пищу. Речь, правда, могла идти разве только о зайцах, которые, вытаптывая тропы в снегу, не хотят с них сворачивать в своей согревающей их беготне, где и попадаются в расставленные петли. Река продолжала и зимой давать свежую рыбу, благо был топорик, которым можно было прорубить лёд. Только, сделав прорубь, нужно следить, чтобы она не замерзала, ибо в разгар зимы очень трудно пробиться к воде через полуметровый лёд.
Зимой Николай выходил на промысел в снегоступах из ивняка, какие он делал и в Журавке. В изготовлении их ему помогала его мать, Софья. Она ещё летом напомнила ему о необходимости сделать это сейчас же из молодых прутьев.
Спасение от холода в тёплой одежде. А если тёплых вещей нет? Тогда должно быть несколько простых одёжек, но минимум две. От добавления второй согреваешься больше, чем вдвое. В холодную погоду нужно было хотя бы одного члена семьи одеть для возможности выйти на улицу, чтобы промышлять. У нашей семейки были валенки, шапки и даже один полушубок. Конечно, это был Север, и хотя ещё не очень крайний, но здесь случались морозы до 50 градусов и больше, когда и полушубок мало помогал. Но сильные морозы продолжались обычно не более трёх-четырёх дней подряд…
Надо сказать, нашим ссыльным не было милости ни с какой стороны. Ссыльных из других областей России, даже из соседней Омской области, селили именно около или в населённых пунктах, так что можно было пользоваться магазинами. Для них строили бараки (это всё-таки были дома, хотя и очень переполненные, а не землянки). А некоторые жили даже на квартирах местных жителей! И перед их высылкой им разрешали брать запас продуктов не только на дорогу. Известен такой случай. Одно из мест переселения голодало в ожидании очередной баржи с довольствием. Наконец, баржа прибыла. Однако к разочарованию всех, в том числе и надсмотрщиков, она была забита не продуктами, а новыми спецпоселенцами. Но при разгрузке оказалось, что у этих ссыльных было прихвачено с собой столько продуктов, что их хватило для поддержания жизни всех в этой колонии на достаточно большой промежуток времени – до прихода баржи с продовольствием! На особом положении, кажется, находились ссыльные поляки и прибалты. Им разрешали брать с собой довольно большой скарб, так что его приходилось везти отдельно в товарных вагонах и далее на специальных баржах или больших лодках.
Разрешение на перевоз большого запаса вещей и продуктов, по-видимому, касалось только ссыльных, которые должны были «обживать новые территории». Спецпоселенцы же с Томской губернии, по-видимому, не должны были обживать, они должны были удобрять территорию. С ними проводили эксперименты на выживание. Ведь интересно же знать, какое время люди могут прожить в самых гиблых местах практически без всякой поддержки. И не просто люди, а самая слабая и беспомощная их часть, женщины и дети. Да, велась статистика умерших по возрастам: сколько дней ли месяцев протянули дети до 3-х лет, сколько до 10-ти, до 16-ти… и женщины такого-то и такого возраста… Такая скрупулёзная статистика, это равнодушие цифр при отсутствии всяких мер, меняющих такое положение, говорит о том, что в действительности со спецпоселенцами проводился эксперимент на выживание… По этому учёту смертей следует, что преимущественно гибли дети – они составляли три четверти всех умерших после года пребывания в ссылке, хотя первоначально их было больше половины всех высланных. Но бывало и так, что умирали взрослые, оставляя детей сиротами. Часть их, не успевших уйти в мир иной вслед за родителями, помещали в детдома. Ближайший детский дом был устроен в спецпоселении Усть-Чижапка, расположенном на реке Васюган. Это где-то километров за 70.
Смерть продолжала косить, прежде всего, самых маленьких, но и самых пожилых, конечно. Матрёна Максимовна умерла по весне 32-го года…
Но! С людьми, оставшимися как бы на воле, в это же время по всем хлеборобным районам, особенно запада и юга страны, производился такого же типа эксперимент! Ему подверглись не миллионы крестьян, как в случае с «раскулачиванием», а десятки миллионов, оставшихся без «кулаков». Последние к началу голода уже были репрессированы, а их семьи высланы «за пределы округов проживания».
Речь идёт вот о чём:
С 1928 года план по хлебозаготовкам с каждым годом увеличивался при снижении урожайности зерна, так что в 1932 году на территории большинства хлеборобных регионов России у крестьян был изъят весь запас хлеба. Во многих районах подлежала возврату даже вся хлебная продукция из магазинов при полной остановке торговли. Кроме того, насильственное обобществление скота, практикуемое с 1929 года, привело к резкому сокращению его поголовья: часть его крестьяне пустили под нож, а обобществлённая часть вымирала в колхозах от недостатка кормов. Голод, набравший силу в 1932 году, продолжался повсеместно в 1933-ем, а в некоторых районах и в последующие несколько лет. Для спасения от голода люди бросались в города, но дороги туда для них были закрыты специальными кордонами ОГПУ. Ежемесячно десятки и сотни тысяч беглецов насильно возвращались умирать на места своего проживания. В 1932-ом и 33-ем году от голода погибло тогда около 7 млн человек.26 Да, старуха смерть со своей острой косой – красноречивый символ любого переворота в истории и особенно, конечно, красного. Наверное, на воле, как и в сибирской ссылке, удавалось выжить только очень удачливым рыбакам и талантливым охотникам… Только вот представляется, что в Нарыме указанный эксперимент был даже менее жесток, ведь здесь выдавали хоть какой-то паёк! Но важна, кажется, и моральная сторона, глубина безнравственности которой по отношению к «вольным» не имеет прецедента.
Семьям «кулаков» было объявлено, что они какие-то не такие, ну, они – слишком богатые, а известно, богатый бедному не товарищ. А бедные ведь взяли власть и хотят устроить для себя счастливую жизнь в колхозах, против чего богатые иногда даже просто восстают! Конечно, для безопасности все богатеи достойны расстрела или ссылки. То есть, спецпоселенцам как-то объясняли, почему с ними так поступают. А что же оставшиеся без кулаков мирные крестьяне, которые ни о каком восстании не думают? За что они должны голодать? Ан нет! Советская власть как-то быстро сориентировалась, что на самом деле большинство крестьян против колхозного рая. Этой ориентации способствовали многочисленные восстания крестьян почти во всех регионах России. И на самом верху было решено – уменьшить их поголовье… Но это было совершенно секретное решению, ничего такого крестьянам не говорили. Ну, да, восставшим объясняли, что они не правы, с помощью свинца, но остальные, мирные и даже преданные колхозники… они не могли понять, чем они провинились и за что умирают…