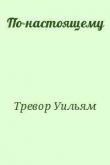Текст книги "Исчисление времени"
Автор книги: Владимир Бутромеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
И любой естествоиспытатель скажет, во сколько раз больше своего веса птичка за день этих букашек и червячков понавыковыривает – потому что не только птенцам, себе тоже какой-никакой прокорм нужен, так что доподлинно известно, трудолюбивей птички твари нет, хотя слово «трудолюбие» здесь неверно, не от любви и склонности и пристрастия к трудам суетится весь день птичка, с восхода до захода солнца, а от нужды – кушать-то хочется.
Но к словам естествоиспытателей тоже нужно относиться с осторожностью. Оно, вроде, все верно, а не так просто, как по первости покажется и в научных трудах изложено, да еще и зарисовано. И микроскопы, и телескопы – это хорошо, да не все в них увидишь.
Они ведь, эти естествоиспытатели до того дошли, что и в наличии Бога усомнились. Все осмотрели, и между атомами, которые философ Демокрит придумал чисто умозрительно, и под перышки птичкам заглянули, всем, включая голубей и межзвездное пространство осмотрели – нет нигде Бога. А он вдруг – тук-тук, совсем рядышком, есть, мол, я, только не там искали, а в другом месте. И в самом деле, вроде, как есть, а где – не понятно, а уразуметь хочется, но Бог не птичка, его не зарисуешь в книжечку.
Иисус Христос в такие глубины и подробности входить не имел намерения. Птицы небесные не работают и прокормлены, не будем и мы трудиться, мы, мол, тут временно, не дома, а в гостях, не сегодня-завтра помирать, стоит ли целый день топором махать, а уж тем более с сохой поркаться.
Оно и в самом деле нелегко, если плотник, а косорук, или пахарь, а задумчив, и потому трудно ему уследить за сохой, ведь никак нельзя замельчить – семена раньше времени из земли вылезут, посохнут, а глубже тоже нельзя – не взойдут в положенный срок, да и если глубоко возьмешь – лошаденке тяжело. Поэтому когда с сохой, за ней и смотреть надобно и за бороздой – и там в конце поля, лошадку за вожжу, чтобы поворачивала: «Но, милая, забыла, что ли?» – и сошку из земли на повороте, а не размышлять-гадать, что там в конце – не поля, не борозденки, а после этой земной жизни, и будет ли иная.
А дашь волю мечтам-думам, к осени и без хлебушка останешься, и тогда – себе сума, а деткам сумочки – и на дорогу, подайте, люди добрые, на прокорм, и подадут, но не всегда, народ сердобольный да иной раз и у самих в закромах не полно, и подать нечего, да и свои детки с ложкой за столом, а в мисках – «скряб-скряб» по донышку и хлебца просят.
Крестьяне, от христиан прозвавшиеся, к работе не склонны, потому как о будущей жизни задумчивы. И не очень пригодны. Топором тешут – нехотя, сохой землю – не пашут, ковыряют, и урожай от того невелик, зато мыслей – палата, как бы, мол, так прожить, чтоб сохой земельку не шевелить да пот не лить, а как-нибудь этак мечтательно, но не на пустой желудок, человеку ведь не так много и нужно, хлебца кусочек да чтоб тепло было, и баба сбоку, для известной надобности.
Бывают и другие земледельцы, их и называют не крестьянами, а селянами, от того, что живут в селе. У них и изба попросторней, и в землю не вросла, три окна на улицу, а в полисаднике и цветы, и кусты сирени, и топор в руке они держат ловчее, и пашут вернее, и лошаденка у них не доходяга-кляча, а хозяйская, досмотренная, с удобной упряжью, да и не одна, а две-три, а у кого и четыре, а когда на базар или ярмарку, то едут не на разбитой немазаной телеге, а на рессорке.
Но живут крестьяне и селяне вместе или рядом. И на первый взгляд их и не различить. Самое главное различие – отсутствие в слове «селянин» буквы «р», так как буква эта очень важна в словах «крестьянин» и «христианин». В слове «селянин» буквы «р» нет, и живет он в этой жизни, не полагаясь на последующую после смерти. А крестьянин именно на последующую и надеется, а до этой у него руки не доходят, та, последующая, для него важнее, она ведь вечная, а эта – временная, как ее ни «уладь», ни устрой, все равно не надолго, лет на семьдесят, а уж никак не намного больше ста, так что ж стараться.
А селянин тем и отличается, что живет «в охотку», старательнее. Иной раз, особенно если земля неурожайна, песочек, и не намного богаче крестьян, а как-то «пригляднее», толковее.
Крестьян же буква «р» связывает не только со словом «христианин», но и со словом «дерево», и живут они как дерево, как лес – дикий, неприглядный, что в овраге, что по болоту, что на косогоре, где с буреломами, где с полянами, хорошо, когда сосновый или березовой рощей, бывают и отдельно стоящие деревья, как сосны во ржи на картине художника Шишкина, а бывает и как на его же картине «Утро в сосновом лесу» с медведями. Крестьян в России много, потому и сказано: «Россия, Россея – страна крестьянская, христианская».
Большая часть крестьян жила при барине. Таких крестьян называли крепостными, они, их деды и прадеды, заключали с барином договор – крепость. Крепостью договор этот назывался потому, что и барин и крестьяне клятвенно обязались соблюдать его крепко. Это так было заведено в России. В других странах, в Европе крестьяне тоже были крепостные. Но никаких договоров там не писали, баре – в железных доспехах, на конях – наскочат на деревню, кому дубинкой по голове, кому, кто чересчур строптив, голову мечом с плеч. А всех, кто жив останется, загонят в крепость, то есть в замок с башнями – так все и становились крепостными и потом, при замке, на поля и луга – пахать, сеять и косить.
В России крестьяне сами шли к барину, писали крепость – договор, мол, прокормиться не можем, кто ленив, кто покушать горазд, а работать – нет, а то и татары налетят на конях (как те баре в Европе, только у татар глазенки узкие и кони малорослые, зато выносливые, степные) да и погонят в полон. Поэтому так, мол, и так, нам бы на время для прокорма в долг, а мы потом отработаем, вот такую «крепость» и заключали.
Царю это не нравилось, он барам людей «в крепость» брать запрещал, человек, мол, божья тварь, им владеть не положено, до добра это не доведет, ослушников грозил строго наказывать, но по недосмотру глядь – а уж половина крестьян в «крепости», крепостные, старые долги барам не выплачены, а баре их уже за скотину держат, на торгах продают, на борзых собак меняют мужиков, хотя в одной церкви с ними молятся. А договор-крепость все-таки подписан, его как теперь не хоти-крути, а соблюдать надобно.
Но не соблюдали и со временем часто нарушали, как евреи свой договор с Иеговой, а прошло лет двести-триста, договора эти потеряли, что в них когда-то записали, никто толком не помнит. Вышло много путаницы, пошли бунты, и крови много пролилось, что по недомыслию, а что и по неуемной злобе. А когда царь в сердцах всякие крепости отменил, то баре и крестьяне остались очень недовольны, потому как работать ни те, ни другие не хотели, а кушать всем надобно.
Только барину на блюде подай и чтобы повар – не меньше как француз, из Парижа выписанный, а крестьянин и тюрей сыт, да кто ж ее ему в деревянную миску накрошит-намешает, если с весны не пахано, а уж если с весны не пахать, то по осени не обмолочено, потому что молотить-то нечего. А коли молотить нечего, то и на мельницу ничего не свезешь. А с мельницы не привезешь, глядь в сусеках и пусто, да и хлебушка на столе нет, детки рты раскрыли, как галчата, а дать им нечего.
Баре свое блюдут, у них все в новых бумагах записано в «ревизских сказках», а крестьяне неграмотны, читать не умеют, тому, что в бумагах числится – не верят, но зато твердо помнят, хотя и без бумажек, что им полагается по справедливости, а не по законам, разными чернокнижниками придуманным, чтобы притеснять крестьянский народ или вовсе свести его как сорную траву, чтобы на земле попросторней стало, от такой напасти спасение только у царя-батюшки, без него, да от голода крестьяне и помереть могут в неисчислимом количестве, а без крестьянства России не устоять. Россия страна крестьянская, христианская, крестьянин он и землю вспашет и деток нарожает вместе со своей бабой, их и кормить приходится, хоть бы и в неурожайный год, одним словом – есть ли, нет ли – вынь да положь. Царь же, он крестьянам – отец родной, он их сберегать от Бога поставлен, ему крестьянина «забижать» не с руки. А баре – все вокруг царя, рядом, они его, если им не угодить, и придушить могут, запросто по своему коварному умыслу.
А те крестьяне, которые жили без бар, сами по себе, они тоже землю сохой ворошили, да «по-християнски» надеялись, что, мол, уж, когда помрем, вот тогда и поживем.
Но грабить, раз уж Ленин наказ такой дал, все оказались охочи, грабить не пахать, косить, когда во вкус войдешь – дело веселое.
Имения помещичьи, барские – что пожгли, когда керосин вовремя подвозили, что разбили-разломали. Такой устроили погром, что любо-дорого. Что от недовольства, помня старое зло, что от разгула, потому так все и завертелось, без удержу, а по большей части от недомыслия, то есть за компанию, за компанию как известно и «жид» повесился где-то в Запорожской сечи, от излишней выпивки.
А так же и от раздражительности. От этой самой раздражительности разломали и все пианино, рояли и клавесины. Они все с клавишами, клавиши белые и черные, в них пальцем ткни, они – бим-бим, ля-ля-ля. Музыка такая. Барские дочки, молоденькие барыньки, при них романсы распевают. Этим барынькам кисейные юбки их, которые они вместо сарафанов нацепили, задрать бы, да ноги врозь. А по пианинам – топором. Ежели тебе музыка нужна, печаль-тоска на душе, так возьми балалаечку, да и тренькай, жалостливо, со слезой:
То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит –
То мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит.
А весел, выйди с кандочка, пятка в землю, носок вверх и не тренькай, а щипком с подковыркой:
В том лесу соловей
Громко песни поет,
Молодая вдова
В хуторочке живет.
Или
Эх, полным-полна
Моя коробочка,
Есть и ситцы,
И парча!
А пианино, рояль и клавесин придумал немец, а потом еще и смастерил на нашу голову, от немецкой прыти да придумки добра не жди. Мужику с сохой, да с косой, а барские дочки романсы распевать, бим-бим, ля-ля. А если топором, то дриньк, звяк и ни тебе больше бим-бим, ни ля-ля.
Очень уж раздражали все эти пианино крестьянствующий, хлебопашествующий народ. Поэтому и ломали их с остервенением, всласть, так, что во Франции было слышно самому Тургеневу[38]38
Тургенев. – Полностью вымышленный персонаж романа. Любые совпадения с разными однофамильцами, включая известных исторических деятелей, случайны и не имеют никакого отношения к художественным замыслам автора.
[Закрыть].
XLIII. Про Тургенева
Тургенев давно уже состарился, а в Россию возвращаться все никак выбраться не мог, по той простой причине, что в России не во всех местах есть водопровод, как в Париже. Хорошо в России: золотая рожь колосится, луга цветут, леса манят прохладой, а осенью от них глаз не оторвать, они, как терем расписной, и обнажаются с печальным шумом, какие только тогда мысли грустные, но сладостные не придут в голову, и даже нивы печальные, снегом покрытые – чудо как прелестны, а уж весной, когда все оживает – дыши, не надышишься упоительным живительным, почти зримым голубовато-изумрудным воздухом.
Ну а вот захочется испить водицы. И что же? Ведерко в руки (а если два, то коромысло на плечи) да и к колодцу, а то и вовсе ищи родничок, в нем вода вкусна, но далековато.
За водой к колодцу – это бабам хорошо бегать, там у колодца и посудачить время найдется, а молодым девкам фигуру показать, пройтись у парней на виду или новым сарафаном похвастаться перед соседками, что «тятенька» с ярмарки привез. А знаменитому писателю некогда, тем более, что и на охоту пройтись с ружьишком тоже время упустить нельзя.
Не то в Париже. Открутил краник, вода течет струйкой, даже иной раз журчит, как весенний ручеек. Подставляй кружку, наполняй до краев и пей себе в удовольствие, а захочешь еще – опять набирай и пей, вода из краника потечет и днем и вечером, и не иссякнет. А если иссякнет, кап-кап и не течет – вызывай водопроводчика, он мигом поправит-наладит, подкрутит гаечку, и водичка опять потечет без перебоев.
Так что в Россию Тургенев не собирался, тем более что, несмотря на старость, все еще жил при певице Виардо[39]39
Виардо. – Полностью вымышленный персонаж романа. Любые совпадения с разными однофамильцами, включая известных исторических деятелей, случайны и не имеют никакого отношения к художественным замыслам автора.
[Закрыть]. А у певицы Виардо был тонкий, редкий музыкальный слух. По вечерам она невольно прислушивалась и с тревогой в голосе говорила Тургеневу:
– Опять эти звуки… Бим-бим, ля-ля-ля… Ах, в России опять ломают, разбивают пианино, а может даже рояль. Ах, это ужасно!
Тургенев вспоминал о России и задумчиво бормотал:
– Россия, Россия… Это все Некрасов, пьянчуга и картежник с его парадным подъездом. Однажды он увидел, как туда подошли мужики, деревенские русские люди, вырви ему глаза! Все хотелось знать, кому на Руси жить хорошо! Вот и узнали! Мать твою!
– Ах, Жан, – на французский манер обращалась к Тургеневу Виардо, – при чем здесь его бедная мать?
– Это я так, к слову, – безнадежно махнув рукой, отвечал Тургенев и снова начинал вспоминать Россию, болотистый лесок полный вальдшнепов и кроншнепов, вечернюю тягу, тетеревиный ток, деревенских ребятишек у костра в ночном.
– И вот опять… – до Виардо доносились из далекой России жалобно обрывающиеся дзинь – бом – бим, звуки рвущихся струн и треск разламываемого лакированного дерева, – если это не прекратится, в России не останется ни одного рояля… На чем же тогда аккомпанировать при исполнении отрывков арий из опер и прекрасных русских мелодичных романсов?
– Романсы… – задумчиво повторял Тургенев, – Они колдовски-очаровательны, но, боже мой, если бы ты могла понять, постичь всю глубину их слов! Ты бы в одночасье бросила этот занюханый Париж с его водопроводами и борделями и уехала бы в бескрайние снежные просторы России, сверкающие морозной пылью в завораживающе лунном свете! А какие в России бабы и молодые деревенские девки!
Виардо, по ее бесчувственности, и не думала ехать в Россию. И тогда Тургенев понял, что загубил свою забубенную жизнь из-за коварной женщины и от глубокой тоски по родине умер в далеком Париже, где кого ни возьми – а он безразличен к чужому горю, далек от высоких материй и холоден к страданиям иноземца, как бронзовая статуя обнаженной красавицы, настывшая зимой в Летнем саду в Петербурге. Там же, в Париже его и похоронили. А ученые определили, что умер он от диковинной болезни, очень редкой, называется ностальгия, многие русские ею болеют, а как ее по-русски назвать, не знают.
XLIV. И опять о крестьянах, Ленине и Троцком
Крестьяне же, разломав все пианино, повыдергивав все клавиши и порвав все струны, не успели оглянуться как подошли войска Белой гвардии. Тех, кто громил усадьбы, для порядка расстреляли, а где и повесили. Тогда мужички поняли, что дело плохо, и пошли в Красную армию, куда их и загонял Сталин, всем им выдали винтовки, а на фуражки прицепили красные маленькие звездочки, такие же, как те, которые Троцкий навесил на башни Кремля в Москве.
Народу в Красной армии собралось миллион. Белая гвардия – тысяч сто. Но Белая гвардия маневренна, тактике, стратегии обучена: форсированный переход, фланговый удар, отвлекающий маневр, наступательная операция. И так одна победа за другой, и Белая гвардия уже под Москвой. А в Москве Ленин с Троцким чемоданы второпях собрали, сидят и гадают: куда бежать, как награбленное вывезти, да где скрыться от людских глаз подальше. Троцкий и говорит Ленину:
– Вы, Владимир Ильич, все, что награбить успели, уже спустили, а у меня целый бронепоезд добра. Поэтому садимся, открываем семафоры и на всех парах мчим к моим родичам в Америку, я им золотишко и барахлишко сплавлю, открою пивную, будете пиво по столикам разносить, так что пока беру вас к себе помощником кочегара, вы ведь, когда из Финляндии в Петербург ездили, уже пробовали уголек в топку подбрасывать, это дело вам хорошо известно, и рука привычная.
– Дурак ты был, дураком и остался, – грубо ответил Ленин Троцкому, он всегда грубил даже ближайшим соратникам по партии, – куда на бронепоезде проехать можно?
– А куда рельсы проложены, – отвечает Троцкий.
– Америка за океаном, – объяснил Троцкому Ленин, – туда пароходом, а не паровозом надо. И на пароходе и на паровозе – паровая машина, но пароход по воде плывет, а паровоз по земле едет, если рельсы есть. Да и фронт кругом, как проскочишь? Немцы второй раз пломбированный вагон в другую сторону не предоставят.
– Тут нам нужно возложить надежды на мировую революцию, – стоит на своем Троцкий, – в Венгрии уже началось, в Баварии тоже – туда и рванем. А там Франция по соседству, как заполыхает рядом, авось и французы вспомнят веселенькие деньки, когда дружно штурмовали Бастилию, оплот тирании.
– Эк хватился, – махнул рукой Ленин, – авось да небось – плохие товарищи, в Венгрии и в Баварии революции уже сдулись. Я им и денег посылал – царскими золотыми рублями, и товарищей наших, подельников с толковыми советами, мол, расстреливайте побольше, желательно всех подряд. Без хорошо организованных расстрелов никакая революция долго не протянет. Так нет, заболтали, превратили революцию в резолюцию, бесплодную пустую говорильню, грабить – не грабят, расстреливать – не расстреливают. Вот и накрылась их европейская революция медным тазом.
– Ну тогда мы поднимем азиатскую революцию, – встрепенулся, загорелся, восприимчивый ко всяким новым идеям Троцкий, – помнится сидел со мной в камере один наш товарищ, он три класса гимназии окончил и доверительно рассказывал, что Азия самый большой в мире материк, обширнейшая часть света. Вот и устроим, если не мировую, так по крайней мере азиатскую революцию. Засядем где-нибудь в центре этой Азии, и войска во все стороны! Первым делом в Индию Буденного отправим, шашки наголо, прищучим там англичан, не обрадуются!
– Нет, – сказал Ленин, – это, батенька ты мой, авантюра чистой воды. Мы лучше уйдем достойно, хлопнем дверью так, что мир содрогнется, заложим под Кремль динамит да и взорвем. Ведь его Наполеон взорвать хотел, да дождик помешал, а мы выберем погожий денек, да как ухнем! Такой фейерверк выйдет, что нас уж точно во все учебники истории впишут!
Но Троцкий стоит на своем – двинем в Индию. А у Ленина тоже твердая позиция – динамит под Кремлевские башни – и шабаш. Так они и пререкались. А Сталин тем временем, как человек далекий от теории, но зато убежденный практик, трудился не покладая рук, расстреливал на каждом шагу всех, кто увиливал от Красной армии. Потом стали заложников брать, дома дезертиров сжигать, когда дошло до казачьих станиц, расстреливали и женщин, и детей, и стариков.
Троцкий, отвлекаясь от пререканий с Лениным, очень большие надежды возлагал на расстрелы и требовал поголовного истребления всех, кто не укрылся в лесах. Потом он совсем прекратил перечить Ленину и заспорил со Сталиным, кто больше людей расстрелял, или уничтожил каким-нибудь другим способом – такой уж этот Троцкий имел сварливый характер, чуть что, по малейшему поводу спорит с пеной у рта до потери сознания, до глубокого обморока от истощения нервных сил, а придет в себя, выпьет полведра воды – и опять спорит, хоть ты ему на голове кол теши острым топором, или холодную воду прямо за шиворот лей.
Белая гвардия в ходе победного наступления тоже начала грабить. А награбленное не бросишь, армия обросла обозами. А с обозами какая маневренность. Сталин в Красную армию согнал уже не один миллион, а несколько миллионов. Да и крестьяне, взятые в красноармейцы, хотя в тактике и стратегии не смыслят не бельмеса, но все ж смекнули, что им деваться некуда, их или комиссары расстреляют или белые офицеры повесят, пришлось воевать. Белую гвардию разбили и загнали в Крым.
XLV. О том, как Сталин не поладил с Лениным
Сталин пошел к Ленину и говорит, так, мол, и так, белых разбили, в Крыму заперли, сидят за Перекопом. А Ленин и Троцкий ему в ответ: Крым, мол, нужно обязательно взять. Мы в Крыму решили евреев поселить, потому как они народ южный, к российскому холодному климату не приучены. Черту оседлости отменили, живи от Смоленска до Урала, и в Сибирь, пожалуйста, но там холодно, особенно зимой.
Сталин хотел сказать, что так как он евреев с детских лет недолюбливает, а еврея-купца, который его матери денег дал, чтобы Сталина в семинарию определили, даже самолично зарезал, то Крым штурмовать не собирается. Но потом вспомнил, что Ленин и Троцкий тоже ведь евреи и промолчал, чтобы не вступать в бесконечные пустые споры-пререкания, ему вся эта болтовня давно уже была как серпом по одному чувствительному месту, то есть надоела до чертиков, опостылела как горькая редька, как мужику беспросветная доля.
Крым штурмом взяли, народу положили видимо-невидимо, Белая гвардия успела отплыть на пароходах, а кто поверил обещанию сохранить жизнь и остался, тех, чтобы больше неповадно было, расстреляли до единого по настоятельной просьбе Ленина и Троцкого и их сотоварища по фамилии Цик, кто он такой, никто не знал, потому что этот Цик был еврей и засекречен, как один из самых тайных масонов высшего разбора.
После всех этих событий Сталин умылся, причесался, надел новую сорочку, пришел к Ленину и говорит, мол, Белую гвардию победили, Крым заняли, война окончена, теперь нужно крестьянам землю раздать. А Ленин в ответ:
– А вот это дудки!
– Но, Владимир Ильич, – удивился Сталин, – вы же сами сказали, чтобы я пообещал крестьянам землю отдать?!
– Сказать сказал, а отдавать и не собирался. Да и совсем не то я имел в виду. Земля находится в собственности всех трудящихся на ней – вот как было сказано. Поэтому пусть пока пашут, сеют, а земля принадлежит не им.
– А кому же?
– А мне. Что в мою облысевшую голову взбредет, то я с этой землей и сделаю.
– Но это несправедливо, – заупрямился Сталин, ему давно надоели все эти ленинские выверты, – грабили вместе – награбленное делить надо как договорились.
– Да они бы, эти крестьяне-христиане, и не грабили бы, если бы их шилом в задницу не подталкивали, иных на веревке тащить приходилось.
– Ну не скажите, усадьбы барские раздербанили-то они, – стоял на своем Сталин, не желая покривить душой и приписывать себе чужие заслуги.
– Это верно, крушили-ломали они, а керосин-то подвозили мы. А без керосина, особенно в сырую осеннюю погоду и барский дом не поджечь. Дождик покапает и никакого тебе революционного пожара. Да тут не в том дело, кто больше постарался. Смотреть нужно политически, то есть как нам выгоднее. Кто такие эти крестьяне? Во-первых, все русские. А во-вторых, темный народ, с виду бедны, а потряси, и меди и серебра, в лаптях, в вонючих онучах припрятанного. А если давить их, как подсолнечные семечки в хорошей давильне, то еще много чего можно выжать. Дай им землю, год-два-три и смотришь, у них уже баре заведутся, и на тройках начнут разъезжать, шампанское это свое из Парижа пить, лишь бы оно шипело и пенилось. Русский крестьянин есть самое зловредное, неистребимое, поразительно живучее животное. Земли им мы не дадим ни под каким соусом, вот и весь мой сказ. Работать – работай, а земли тебе – накось выкуси. Хлеб собрал, обмолотил, все до зернышка заберем. И каждому талон – на хлебную пайку. Ну и еще штаны.
– Хватит с них и миски супа, – вмешался в разговор Троцкий.
– Нет, – строго одернул его Ленин, – штаны нужны. В России холодно, без штанов они взбунтуются и с нами сделают то же самое, что и со своими барами, их-то, крестьян этих, вон сколько много, и все евреев живьем сожрать готовы, без горчицы, спят и во сне видят, как бы где еврея, будто ненароком, придушить. Так что штаны – дадим, и миску супа. И талон на хлебную пайку. А больше – ни-ни.
– Но так можно и весь народ перевести, – удивился Сталин.
– Нам-то что за печаль об этом народе? Вы грузин, я еврей, пропади он пропадом, этот русский народ, его и монголы чуть было не передушили, да живуч, сволочь, опять расплодился. А уж если о крестьянах речь, так их даже писатель из нижегородских мещан Горький за скот почитает и на дух не переносит. Да что там, немытый босяк Горький, сам смердячий, как онуча, писатель Тургенев, из баринов барин, но и он писал в своем Париже сидя, что если русский народ извести под корень, то никому от этого никаких неудобств, а паче печали не будет. Русского крестьянина нужно грабить, грабить и еще раз грабить. С него все, что с гуся вода, а нам доход, денежки. Даже Пушкин, уж на что был обезьяна, и тот писал, стричь, мол, надо, стричь, а мы и обстрижем и шкуру спустим, новая нарастет. Крестьян в России мы изничтожим, как колорадских жуков, как гусениц на капустных грядках. А землю будут пахать трактора.
Сталин недоверчиво посмотрел на Ленина.
– Наш Сталин ничего не знает про трактор, – весело подмигнул Ленин Троцкому и добродушно объяснил Сталину, – трактор – это такая машина, станок, но не на заводе стоит, а в поле. С виду похож на мужика с квадратной головой, вместо ног два колеса и с сохой – соха вся металлическая, и никакой лошади не нужно. В квадратной этой голове сверху маленькая крышечка, – открыл, залил ведро керосина и всех хлопот, трактор поле вспашет, поборонует и рожь и пшеничку посеет. А если тебе, дорогой наш товарищ Сталин, станет скучно на все это смотреть и захочется старого пейзажа, так мы снарядим художника Малевича, он этот трактор быстренько красками распишет-разукрасит – не отличишь от живого мужика. Трактор придумал в Америке один еврей по фамилии Форд, потому что индейцев так и не удалось заставить землю пахать. А зимой, когда пахать уже не нужно, этот трактор сапоги шьет. У него сбоку дверка, засыпаешь туда мелких гвоздиков побольше, закладываешь кожу, подметки. И он стучит как швейная машинка «Зингер» – смотришь, и сапоги готовы, и нужный размер. Пьяный сапожник иной раз перепутает и вместо пары зафигачит два левых или два правых сапога. А трактор ошибиться не может, потому что это наукой не предусмотрено. С ним никаких хлопот, одни удобства. А с русским крестьянином, с этим косопузым мужичишкой в лаптях по имени и по фамилии Платон Каратаев, – никакого сравнения. Увидел бы граф Толстой этот трактор, пришел бы в полное восхищение и восторг. Да и скажу тебе по секрету, все это хлебопашество не первой головы дело. Ведь когда мы всех русских перебьем, подойдет очередь всяких разных венгерцев, а потом немцев да французов с испанцами – мы этим испанцам такое устроим, забудут про свою корриду. А потом и Англия, и Североамериканские Штаты – на наш век хватит, а после нас хоть коммунизм, нам еще и памятники поставят. Но пока тракторов нехватка, крестьян убивать нужно понемногу, вот, как товарищ Троцкий военспецов – использовал – убил, использовал – убил, по мере надобности и по очереди, без сутолоки и суматохи. Прежде чем их всех перебить, нужно заводы построить, фабрики, чтобы пушки изготовлять и винтовки, да и те же трактора – их ведь на заводах делают.
– Зачем нам, да еще в России, строить заводы? – возразил Троцкий, у него на все находилась своя точка зрения, – В Европе этих заводов пруд-пруди. Стоит только бросить клич, и пролетарии на них вмиг соединятся в едином порыве и очертя голову ломанутся в мировую революцию.
– Русские крестьяне – бездонная бочка, их можно грабить, пока они не выведутся. Ограбим дочиста, хлеб весь выгребем, купим у капиталистов веревки и на этих веревках их всех – капиталистов – повесим вдоль дорог. Шучу, шучу, – рассмеялся Ленин, – конечно же, не веревки купим, а пушки и прочее оружие – вот тогда и устроим бойню, весь мир ограбим без сожаления, а затем попируем на просторе. Это и есть мировая революция, батенька, – похлопал Ленин Сталина по плечу.
Но Сталин оказался упрям и не согласился ни с Лениным, ни с Троцким.
– Что касается мировой революции, то тут я полностью согласен. Ради нее я готов ночами не спать, мечтать и песни петь. Но землю крестьянам отдать нужно. Ведь обещано. Я слово горца дал.
– Да плевать мне на твое слово, данное второпях, необдуманно и не посоветовавшись с товарищами, – беспечно ответил Ленин.
– Я мамой поклялся, – мрачно сказал Сталин.
И тут Троцкий дождался своего часа. Влез между Лениным и Сталиным и, отвратительно хихикая, проблеял козлиным голоском, по сути дела перетолковывая ленинские слова:
– И на маму твою плевать.
Сталин изловчился, выхватил кинжал – он в молодости его всегда при себе имел – кинжал вещь надежная, никогда не подведет – и хотел ударить Троцкого. А тот, не будь дурак, отпрянул в сторону. Ну, Сталин и всадил кинжал Ленину в живот по самую рукоятку. Видит – не туда, то есть не тому попал, выдернул назад, а уже поздно, у Ленина и кишки вон.
Ленин, пока еще жив, и говорит Троцкому:
– Так и знал, что от тебя, Иудушка, какая-нибудь неприятная гадость навернется. Ведь вот не Сталин же виноват, он просто вспыльчив, как все кавказцы, они очень не любят, когда их маму нехорошо поминают. Это все ты, нетерпеливый дуралей, зачем влез?!
Но потом видит, дело уже не поправить, да и Троцкого на ум не наставишь, горбатого, мол, могила исправит. Закатил Ленин глаза и произнес замогильным голосом:
– Уж не думал, не мечтал я, что придется сдырдиться в самое веселое время, когда мировая революция на носу, только чихни. Ну да теперь за локоть не укусишь. Вы же о том, что тут произошло, помалкивайте, чтобы никому в голову не пришло, что между нами могли возникнуть разногласия. И, кстати, не забудьте взорвать храм Христа Спасителя в Москве.
– Никому не скажем, – искренне опечалившись, пообещал Сталин, – и в мавзолей вас положим и будете лежать словно живой.
– И Храм Христа Спасителя взорвем, камня на камне не оставим, – торопливо поддакнул Троцкий, он больше всего на свете мечтал устроить какую-нибудь гадость в православном храме.
Но Ленин уже не слышал и как положено мертвецу, словно деревянный истукан, грохнулся на пол.
– А что значит сдырдиться? – спросил Троцкий, он не имел обычая сдерживать своего глупого, праздного и часто надоедливого любопытства.
– Сдырдиться, значит умереть внезапно, без покаяния, – объяснил Сталин.
– А разве он собирался каяться? Ленин вождь мирового пролетариата, а значит, и каяться ему не с руки, ему покаяние, что глухому гармонь-тальянка. Многие ошибочно полагают, что тальянка называется тальянкой потому, что их, эти тальянки, мастерят в Туле. На самом деле слово «тальянка» – это искаженное «итальянка». Потому что – опять ошибочно – считали, что ее изобрели в Италии. На самом же деле гармонь придумали немцы, мастеровые, работавшие в Туле на оружейных заводах. А собственно русские в гармони только деревянные планки, для них под Тулой специально заготовляют «гармонные дрова» – липовые плашки самого лучшего качества, – пожал плечами Троцкий.
Сталин промолчал и, чтобы не слушать словесный понос Троцкого, ушел хлопотать насчет похорон, потому что всегда предпочитал заниматься делом, а не болтать языком, как это любил делать Троцкий, который без пустой болтовни уже жить не мог.