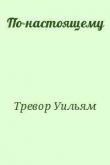Текст книги "Исчисление времени"
Автор книги: Владимир Бутромеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
XXXVI. Бриллианты и золото
Признаюсь, в истории балерины Кшесинской меня больше интересовали бриллианты, чем сама балерина, ее романтические чувства, а уж тем более фантастически безупречная техника, ее шанжман де пье, бризе, амбуате и кабриолей, как и ее стройные ножки.
Обманчивая ножка Терпсихоры не тревожила мое воображение. Я родился на хуторе, отроческие годы провел в захолустном местечке – летописном городке, потом райцентрике, разжалованном до статуса центра сельсовета, и на балет впервые попал на исходе дней юности. Это был спектакль труппы Большого театра, но на сцене Кремлевского Дворца съездов, куда билеты достать чуть легче, чем в сам «Большой», но тоже непросто. Танцевала балерина Бессмертнова, танцевала прекрасно, почему-то мне даже кажется, что никак не хуже Кшесинской. Но балетоманом я не стал. Да и на балет попал не по душевному влечению, а скорее случайно, и никогда не задавался вопросом: можно ли сыскать в России три пары стройных женских ног.
Бриллианты привлекали меня больше, хотя и их я не видел ни в детстве, ни в отрочестве, ни в юности и не интересовался ими как таковыми. Бриллианты и золото (золото даже в большей мере) казались мне предметами, или точнее явлением почти мистическим. Они – ограненные алмазы, похожие на прозрачные стеклянные камешки и маленькие, царской чеканки «пятерки» и «десятки» (чуть побольше) с изображением на одной стороне двуглавого орла под императорской короной, на другой – царя Николая II (Ники, потерю писем и фотографической карточки которого балерина Кшесинская переживала всю оставшуюся жизнь), как впрочем и любое золото в монетах или небольших слитках нетленны, не превращаются в прах и не исчезают, как исчезает песок, смолотый временем в пыль, рассеянный в воздухе и уносимый в межзвездное пространство или смываемый водой неведомо куда.
Они – бриллианты и золото – переходили из рук в руки, отлеживались под половицей у печи, врастали в древесину молодой, но одичавшей груши на огороде хутора старика Ханевского, их везли в Америку, в Европу, из города в город по России, и они оставляли за собой иногда прямой, а чаще извилистый и ветвящийся след и я мысленно следил за ними, так же как мысленно следил за каплей росы, соскользнувшей утром с зеленого, серебристого узкого ивового листа в густую траву у тихого родника-кринички, вместо того чтобы невидимым паром сразу подняться к облакам, но чтобы все же попасть к облакам, этой капле зачем-то придется пройти длинный, путанный-перепутанный путь и под землей и на земле.
След бриллиантов балерины Кшесинской вырисовывался затейливым узором, след самых крупных из них исчезал из поля зрения, и уже никто никогда не узнает, куда девались, например, колье, которое ей дарил, швыряя их на сцену в порыве душевного восторга Путилов, некогда известный русский промышленник и заводчик, его собственный след тоже где-то затерялся после событий, случившихся в России в 1917 году, а потом растянувшихся почти на сто лет.
Что же касается мелких алмазов, то следы их обнаружились легким пунктиром в рассказах Виктора Ханевского, когда судьба, наконец-то, свела меня с ним.
Большую часть истории бриллиантов балерины Кшесинской мне рассказал именно Виктор Ханевский, а ему поведал его приятель Соломон, на которого он, уехав из Москвы в голодный одна тысяча девятьсот девятнадцатый год, оставил свою квартиру, купленную на древнезаветное золото Ханевских, добытое полковником Ханевским веке в семнадцатом или чуть раньше на одной из турецких войн – так по крайней мере повествуют семейные предания Ханевских и Волк-Карачевских.
XXXVII. Соломон и Виктор Ханевский
Когда Виктор Ханевский уже после второй войны с немцами вернулся в Москву, Соломон узнал его, потому что это произошло в полнолуние.
В дни полнолуния и когда луна в разных четвертях, Соломон чувствовал себя прекрасно. Когда же луна тонким обрезком ногтя едва светила на небе, а еще хуже, когда она исчезала невесть куда и совсем не появлялась, а именно в день новолуния, Соломон впадал во временное (на время полного отсутствия луны) помешательство. Он запирал дверь квартиры на семь замков, задвигал три засова, ничего не ел, только как бы тайком от себя мог выпить рюмку-другую водки без закуски, если находил ее в старом, резном, красного дерева буфете, садился в угол, посыпал по древней традиции голову пеплом, клал одну руку на Библию, другую – на книгу Маркса с названием «Капитал» и, мешая древние и новые языки, проклинал всех евреев, начиная от ветхозаветного их прародителя, Сима (брата Хама и Иафета).
Соломон проклинал Лота за то, что тот недосмотрел за своей женой и та превратилась с соляной столп, а потом еще в пьяном виде обесчестил своих дочерей, клял и Авраама за то, что он выгнал забеременевшую от него служанку Агарь и сын ее Измаил никогда не простил евреям обиду матери, проклинал Иакова за обман отца своего Исаака и похищение первородства у родного старшего брата, а так же за то, что потом вместе со своей женой Рахилью они украли идолов у ее отца Лавана, проклинал братьев Иосифа, продавших прекрасного юношу в рабство, в далекий Египет, и Моисея за то, что сорок лет неведомо зачем водил соплеменников по безлюдной пустыне, клял многих пророков, чьи имена было не разобрать, а если разберешь, то тут же забудешь, потому что их не изобразили на своих картинах любвеобильный, женственный Рафаэль и многознающий незаконнорожденный Леонардо из небольшого городка Винчи.
Особенно проклинал он нечестивого царя Ахава и жену его Иезавель, отнявших у бедняка Навуфея единственный виноградник его, и самые страшные проклятия посылал богу древних евреев – Иегове Савоафу[30]30
Иегова Савоаф. – Полностью вымышленный персонаж романа. Любые совпадения с разными однофамильцами, включая известных исторических деятелей, случайны и не имеют никакого отношения к художественным замыслам автора.
[Закрыть] за то, что тот подписал с евреями договор и пообещал, что их будет на земле как звезд в ясную ночь на небе, а обещания своего не исполнил, и как звезд на небе теперь китайцев, а не евреев.
Не проклинал он только мудрого царя Соломона, потому что глубоко почитал за то, что он его тезка, и за то, что тот был любвеобилен и щедр с женщинами и они сгорали от любви к нему, несдержанно расточая ласки и нежность.
Все эти проклятья звучали как-то глухо, словно беззлобно, без огня и страсти.
Но доходя до нового времени, Соломон начинал излучать гнев, словно библейский пророк-обличитель Иезекииль или даже пророк Илия. Гнев исходил с такой силой, что от Соломона сыпались голубые искры и коротенькие мимолетные молнии, отчего вечером в окнах квартиры было видно бледное синеватое мерцание.
С гневом и страстью, взрываясь, как граната, веером разбрасывающая вокруг себя смертельно-губительные, рваные, железные осколки, Соломон проклинал Христа, Маркса и Ленина и поминал им каждую каплю крови, пролившуюся по их прямой или косвенной вине, а крови этой было пролито, как это еще раньше подметил старик Карамазов из романа писателя Достоевского, целые потоки, сопоставимые с реками Тигр и Евфрат в период дождей и таяния снегов в горах, где они берут свое начало.
Что от этих проклятий происходило с Иисусом Христом, вознесшимся на небо, чтобы не видеть всего, что натворил он сам, а если спрашивать строго, то его последователи, и ворочался ли в гробу Маркс, зарытый в землю в своих стоптанных башмаках на кладбище в окутанном ядовито-удушающем смогом Лондоне – неизвестно, потому что не видно. А Ленин, в мавзолее, под стеклянным колпаком, покрывался тяжелой кровавой испариной.
И обслуга мавзолея в дни новолуния по очереди сидели у гроба и ватным тампоном целые сутки, – а время тянулось медленно, текло, словно плохо растопленная смола, – убирали кровавую испарину, не отходя ни на шаг. А если усталый от бессонной ночи человек, дежуривший в мавзолее, начинал дремать, или, не дай Бог, засыпал, испарина собиралась, капля к капле, и по подушкам ручейком стекала на белый мраморный пол. И тогда отмыть пол было совершенно невозможно. Его терли проволочными мочалками с мылом и зубным порошком, драили известью и битым кирпичом, но кровь проступала сквозь мрамор, и избавиться от нее удавалось только заменив всю мраморную плитку. Мавзолей приходилось закрывать на полдня, и людям, стоявшим в очереди, чтобы увидеть Ленина, когда-то пообещавшего им безбедную и хорошую жизнь, приходилось терпеливо ожидать.
Кто придумал, будто Ленин пообещал хорошую жизнь, не установлено до сих пор – Ленину никогда и в голову не приходило давать такие обещания, даже своим подельникам-сотоварищам, слетевшимся в Россию, как воронье на поживу, со всего света, а не то что многочисленному тогда еще люду, кое-как обитавшему на просторах бывшей Российской империи от Балтийского и Черного морей до Тихого океана.
Виктор Ханевский вернулся в Москву, когда луна уже вошла в первую четверть, Соломон обрадовался его приезду, и они зажили вместе, а о странном сумасшествии Соломона Ханевский узнал позже, в первое же новолуние. Но если бы он знал об этом заранее, Ханевскому все равно было некуда деваться и ему пришлось бы жить в своей квартире вместе с Соломоном, потому что и Соломону не было куда съехать с этой квартиры, или, как тогда говорили в Москве, «жилплощади».
Большую часть времени каждого месяца Соломон не ощущал никаких симптомов безумия. Он ходил по каким-то редакциям и институтам и везде добывал для Ханевского переводы с древнегреческого и латинского языков.
Сам Соломон был сыном торговца керосином из Бердичева, мать его была дочерью лучшего в городке сапожника. Его записали по подложному паспорту сыном дальнего родственника, купца первой гильдии, чтобы преодолеть черту оседлости. Он учился в Московском университете на филологическом факультете вместе с Виктором Ханевским. Греческий и латинский языки ему не давались, греческий вызывал у него какую-то смутную неприязнь, но он мог терпеть этот язык, а вот латинского не переносил совсем. Четкость и ритм латинского вызывали у него непреодолимый ужас. Он не раз говорил, что если при нем прочтут вслух, громко и с выражением, хотя бы одну страницу «Записок о галльской войне» Гая Юлия Цезаря, то он не выдержит такого истязания и наложит на себя руки.
У Соломона имелось много знакомых и друзей, он когда-то вращался около Максима Горького, пока того не отравил Сталин, и они часто вместе чуть ли не в обнимку ходили по ночной Москве, а выбираясь в Петроград, по Петрограду, и вслух, наперебой мечтали издать печатным способом все, что кому-нибудь когда-нибудь взбрело в голову написать от руки.
Оказалось, что книг на иностранных языках написано куда больше, чем по-русски, и Соломон занялся организацией переводов, именно поэтому у него и завелось так много знакомств. За эти переводы давали продуктовый паек и многие из тех, кто знал иностранные языки, спаслись от голодной смерти, «перепевая на язык родных осин» Шекспира и Сервантеса, Мольера и Гете с Шиллером. Но когда Сталин все-таки приказал расстрелять Горького в страшных подвалах Лубянки и того похоронили, как великого пролетарского писателя, количество переводов, необходимых для изданий, постепенно сошло на нет. Ханевский же мог переводить только с древнегреческого и латинского, а переводов с этих языков заказывали мало, платили за них сущие гроши, и Ханевскому, и Соломону едва хватало этих заработков, чтобы дотянуть до полнолуния.
XXXVIII. Полнолуние
Когда же наступало полнолуние, Соломон менялся до неузнаваемости. Он становился весел и приветлив и, казалось, готов был одолжить денег любому встречному-поперечному, если бы тот у него попросил, а не окажись денег, отдал бы ему последнюю рубашку. Но деньги у Соломона появлялись и очень много, почти бессчетно. Он доставал из своего матраса маленькие, прозрачные как стеклышки, камешки, уходил из дома, встречался с какими-то подозрительными людьми у антикварных и букинистических магазинов, и уже ближе к вечеру его карман оттопыривала толстенная пачка денег – светло-бежевых сотенных, шутники называли их «лаптями» за довольно большой размер, на них красовалась надпись «Билет Государственного банка СССР» с гербом-символом мировой революции – серпом и молотком поверх Земного шара на фоне Тихого океана и овальным портретом облысевшего (от мыслей как бы разграбить весь мир) Ленина без всякого прищура, серьезного, в черном галстуке в белый, мелкий, редкий горошек, а снизу лаконичная надпись в рамочке-картуше «Подделка билетов Государственного банка СССР преследуется по закону».
Соломон не занимался подделкой советских денежных купюр высшего достоинства. Он менял их на «камушки» балерины Кшесинской, к тому времени уже называвшихся «брюликами». Когда-то он помогал сбывать Землячку все, что тот так ловко увел у Кшесинской в Кисловодске. За помощь Соломону причиталась приличная доля, и он брал эту свою долю мелкими алмазами, справедливо полагая, что иметь мелкие «брюлики» намного безопаснее и практичнее, чем крупные.
Выменяв на один «брюлик» пачку сотенных «лаптей», Соломон заставлял Ханевского откладывать переводы, уверял, что он договорится о сдвиге сроков сдачи рукописи и вел его по московским ресторанам. Этих денег им могло бы хватить для жизни на полгода, а то и больше. Но Соломон по секрету объяснял, что деньги необходимо истратить до исчезновения с небосклона Луны, лучше всего в ее первую «стареющую» фазу. А если это не сделать, то «камушки», «брюлики», бриллианты, спрятанные у него в матрасе, превратятся в обыкновенные стекляшки, даже не в поддельные бриллианты – стразы, а именно в стекляшки, маленькие разноцветные осколочки битого стекла из детского калейдоскопа, их можно увидеть, если не утерпев, не совладав с любопытством, этот калейдоскоп разломать и обнаружить, что ничего, кроме этих стекляшек, в нем нет. А если его не разламывать, то эту волшебную трубочку можно сколь угодно долго поворачивать и, заглянув в нее одни глазом (и зажмурив другой), любоваться дивными разноцветными узорами.
Они шли в ЦДЛ, так назывался ресторан в Центральном доме литератора, чтобы просто потолкаться среди знакомых Соломона, угостить хорошим коньяком нужных людей, что всегда полезно для будущих заказов переводов – кухня ЦДЛ оставляла желать лучшего: избитая жареная корейка, неплохие холодные закуски, лучше всего сырокопченые колбасы, их в ЦДЛ, по слухам, доставляли из того же распределителя, что и в ЦК КПСС, эти сырокопченые колбасы Соломон заворачивал в салфетку и уносил домой, на тот случай, если к нему наведается человек, которого Ханевский про себя называл Пехотным Капитаном.
Этот Пехотный Капитан являлся всегда неожиданно, обычно поздно вечером, иногда среди ночи. Это был высокий, худощавый, с виду очень красивый крепкий мужчина лет пятидесяти в длинном черном пальто, с очень несоветским лицом. Соломон возбужденно радовался его приходу, размахивал руками, вел Пехотного Капитана на кухню и не предлагал ему снять пальто, он знал, что Пехотный Капитан злится и раздражается, если просить его раздеться. На кухне Соломон усаживал Пехотного Капитана к столу, наливал водки (а если был коньяк, то коньяка) и доставал специально припасенную нарезку сырокопченых колбас из ресторанов.
Пехотный Капитан выпивал несколько рюмок водки (или коньяка), закусывал совсем мало и начинал ругать евреев. Он обвинял их в убийстве русского царя и в том, что они устроили в России революцию. Соломон поддакивал гостю, а когда тот говорил, что все беды происходят от того, что русские разрешили евреям жить в России и что все они должны убраться из России, Соломон поддакивал, но всегда уточнял, что он-то, Соломон, конечно же, останется и никуда не уедет.
– Ну, – говорил Пехотный Капитан, – своих тоже нехорошо оставлять.
– Так это это они меня оставляют, – а не я их, – возражал Соломон, – я-то не виноват.
Пехотный Капитан долго думал и соглашался.
– Черт с тобой, оставайся.
Пехотный Капитан и Соломон вместе воевали в Гражданскую войну. И то ли Пехотный Капитан вынес раненого Соломона с поля боя, то ли Соломон тащил Пехотного Капитан несколько верст по снегу до лазарета.
Уходя, уже на пороге, Пехотный Капитан объяснял, зачем он приходил, и просил Соломона куда-то сходить, что-то кому-то передать, иногда отдавал какую-то записку. Соломон уверял, что все сделает, и предлагал Пехотному Капитану денег, тот отказывался, и в самый последний момент Соломон всегда просил Пехотного Капитана снять погоны, Соломону казалось, что погоны угадываются даже под пальто.
– А вот погоны я не сниму, – зло и с укором уже на пороге говорил Пехотный Капитан и хлопал дверью.
Когда приходил Пехотный Капитан, Соломон не знакомил с ним Ханевского. И Ханевскому даже казалось, что этот Пехотный Капитан какой-то фантом, мираж, какой-то материализовавшийся бред Соломона. И только видя на кухне две рюмки и остатки сырокопченой колбасы, убеждался, что нет, Пехотный Капитан – реальный человек, в длинном, черном, осеннем пальто, под которым явно угадывались погоны.
До окончания полнолуния нужно было успеть, хотя бы на один вечер, в «Славянский базар», где в память о Станиславском и Немировиче-Данченко плясали веселые цыгане и после полуночи, только для «своих» завсегдатаев старорежимные женщины с оголенными плечами пели, почти как Изабелла Юрьева, запрещенные русские романсы.
Ночь светла. Над рекой тихо светит луна
И блестит серебром голубая волна.
Темный лес весь в тени изумрудных ветвей,
Звонких песен своих не поет соловей.
И даже:
Ночи безумные, ночи бессонные,
Речи несвязные, взоры усталые…
Ночи, последним огнем озаренные,
Осени мертвой цветы запоздалые!
А потом выходил во фраке, ни дать ни взять Юрий Морфесси, и рискуя получить тюремный срок, по имевшейся для этого в Уголовном кодексе специальной статье, пел:
Скажите, почему
Нас с Вами разлучили?
Зачем навек ушли Вы от меня?
Ведь знаю я, что Вы меня любили,
Но Вы ушли, скажите почему?
И за дополнительную плату, на которую никто не скупился:
Придешь домой, а дома спросят:
«Где ты гуляла, где была?»
А ты скажи: «В саду гуляла,
Домой тропинки не нашла».
Для разнообразия Соломон старался заглянуть и в «Арагви». Поговаривали, что в этот ресторан часто забегал сам Берия[31]31
Берия. – Полностью вымышленный персонаж романа. Любые совпадения с разными однофамильцами, включая известных исторических деятелей, случайны и не имеют никакого отношения к художественным замыслам автора.
[Закрыть], до того как Хрущев понизил его в звании и назначил директором Бадаевского пивзавода, а потом расстрелял, и никто уже не интересовался, куда исчез директор Бадаевского пивзавода и почему он не заглядывает в «Арагви», чтобы на ходу перекусить жареным сыром «сулугуни». Но Берия, если и бывал в «Арагви», то в отдельном кабинете, в таких кабинетах принимали и других приезжавших из Грузии воров в законе.
Встретиться в «Арагви» с Берией ни Соломон, ни Ханевский не пожелали бы – оба они непонятно на каких правах жили в городе Москве, оба без паспортов, без обязательной прописки и трудовых книжек. «Арагви» Соломон посещал из-за звучащих с грузинским акцентом слов «сациви», «чихиртма», «бозартма», «мацони», «мцвади», «чахохбили», «гурули» и «барани», «гадазелили», «эларджи» и «хачапури» и еще «чурхела». Слово «шашлык» уже такого акцента не имело, шашлык – это, собственно, и есть вышеупомянутый мцвади.
Слова эти придавали вечеру в «Арагви» какой-то особый колорит, как-то разнообразили жизнь, особенно поздней промозглой осенью.
XXXIX. О советских писателях
Но более всего Соломона увлекали «Националь» и «Прага». В «Национале» все было очень дорого, но вкусно. Особой принадлежностью «Националя» считались представители одесского или, как они сами говорили, – южного крыла «советской литературы» – Валентин Катаев[32]32
Катаев. – Полностью вымышленный персонаж романа. Любые совпадения с разными однофамильцами, включая известных исторических деятелей, случайны и не имеют никакого отношения к художественным замыслам автора.
[Закрыть] с приписанными ему самим Буниным «волчьими ушами», Юрий Карлович Олеша[33]33
Олеша. – Полностью вымышленный персонаж романа. Любые совпадения с разными однофамильцами, включая известных исторических деятелей, случайны и не имеют никакого отношения к художественным замыслам автора.
[Закрыть], маленького роста, вызывающе квадратно-прямоугольный, в «пиджаке» из грубой ткани, и Михаил Светлов[34]34
Светлов. – Полностью вымышленный персонаж романа. Любые совпадения с разными однофамильцами, включая известных исторических деятелей, случайны и не имеют никакого отношения к художественным замыслам автора.
[Закрыть], настоящая фамилия которого утеряна давно, бесповоротно и навсегда. Рядом с ними обычно сидели молодые евреи, стройные, смуглые, ироничные, они смотрели на легендарных стариков как будто со скрытым вызовом, а те в ответ смотрели покладисто и даже с печалью старинной еврейской мудрости людей, уже поживших и кое-что повидавших.
Все усиленно старались шутить и острить. Остроты произносились погромче, чтобы слышали за соседними столиками. Олеша прославился ответом адмиралу, которого он, выходя из ресторана, и будучи в сильном подпитии, принял за швейцара и попросил вызвать такси. Тот возмущенно ответил: «Я адмирал!». «Ну, тогда подайте катер», – тут же нашелся Олеша. Правда, говорили, что этот случай произошел не с Олешей, а с кем-то другим, лет на пятьдесят раньше описываемых событий, якобы, это кто-то из знаменитых кутил начала века вместо извозчика потребовал катер у какого-то капитана.
Светлов, в очередной раз не получив какой-нибудь награды, задавал всем вопрос: «Какая обратная сторона медали?» и сам же отвечал: «Не дали». Он язвительно, почти цинично спрашивал Олешу: «Скажи, Юрий Карлович, у тебя три толстяка: это Маркс, Энгельс и Ленин или все-таки Маркс, Ленин и Сталин?» Олеша – ничуть не раздражаясь – отвечал: «Три толстяка это Буржуазия, Капитализм и Империализм». И тоже спрашивал: «А у вас „я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать“ – разве про войну в Испании 1936 года, как вы всем теперь рассказываете? Ведь, помнится, опубликовано было за много лет до того?» «Ну да, это о мировой революции. А ты разве что-то имеешь против мировой революции? Ведь если бы Буденный[35]35
Буденный. – Полностью вымышленный персонаж романа. Любые совпадения с разными однофамильцами, включая известных исторических деятелей, случайны и не имеют никакого отношения к художественным замыслам автора.
[Закрыть] с Примаковым напоили своих коней из Атлантического океана на берегах Испании, сидели бы мы с вами сейчас в Париже, в кафе на Мон-мартре, чем бы плохо?»
На это Катаев улыбался и говорил: «Если бы вас услышал Бунин, он заметил бы, что напоить коней из Атлантического океана у Буденного и Примакова не получилось бы». «Белогвардеец Бунин не допустил бы этого?» – игриво спрашивал Светлов. «Нет, вода в Атлантическом океане соленая, кони не стали бы ее пить. Бунин точен в деталях. Он, кстати, никогда не служил в Белой гвардии», – отвечал Катаев, вспоминая свои поездки в Париж.
Катаев устроился значительно лучше своих приятелей. Его «произведения» были включены в школьную программу, правда для курса литературы в средних классах. Но они все равно входили в школьные хрестоматии и переиздавались каждый год. Катаев всегда был при хороших деньгах. И Олеша, и Светлов могли бы, случаем, перехватить у него взаймы. Олеша и Светлов часто сидели без денег, и Катаев выжидающе посматривал на них, но Олеша и Светлов ни разу не обратились к нему с просьбой из гордости, скрываемой за разными шуточками, вроде той, что берешь взаймы чужие и ненадолго, а отдаешь свои и навсегда.
Катаев понимал это, и сам не предлагал. Ему завидовали, но больше не из-за денег, а за то, что ему удавалось ездить в Париж, и не один раз. Он выбивал эти поездки через Союз писателей, мотивируя необходимость посещения столицы Франции, работой над повестью о парижском периоде жизни Ленина – тот действительно как-то на несколько дней заезжал в Париж, этого вполне могло хватить для повести.
Но чтобы написать ее, нужно сначала походить по улочкам Парижа, побродить по набережной Сены, подышать тем воздухом, которым дышал сам Ленин. Иначе невозможно воссоздать ту атмосферу, в которой Ленин вынашивал свои гениальные замыслы, воплотившиеся позже в России – ведь Париж – город многих революций и уж, конечно, в Париже, где даже проститутки кажутся приезжающему из России светскими красотками, а не в благополучно-обывательской Швейцарии, с ее дырявыми и заплесневелыми сырами, привиделся Ленину мировой пожар, он разжег его пока только в России, но все еще впереди.
В Париже жил Бунин – Катаев давно «записал» его в свои учителя, еще с тех пор как в Одессе, в 1918 году носил ему первые, не совсем удачные стихи. Катаеву очень хотелось встретиться с Буниным в Париже, тот все-таки читал «советскую литературу» и даже хвалил поэму Твардовского «Василий Теркин». Катаев, собираясь во Францию, всегда вез свои книги, чтобы передать их Бунину, не все, но те, которые не стыдно показать.
Накануне отъезда он посылал Бунину телеграммы, предупреждал о своем скором появлении. Получив очередную такую телеграмму, Бунин, не медля ни минуты, уезжал из Парижа в провинцию и прятался там, пока не узнавал об отъезде своего «ученика». Катаеву приходилось встречаться с женой Бунина, и она огорченно сетовала, что Иван Алексеевич или, как она его называла на польско-славянский манер – Ян, как раз в отъезде.
Настиг Бунина Катаев уже после смерти изгнанника, он посетил его могилу на знаменитом русском кладбище – все это Катаев потом описал в своих повестях «Трава забвения» и «Алмазный мой венец», их запоем читали «гурманы» «советской литературы». Если бы нечто на эту тему написал любой другой «советский писатель», то эти повести приняли бы за обычные мемуары. Но Катаев подал их под соусом создания нового литературного течения – «мовизма», или в переводе на русский язык «плохизма», которое должно развиться в порядке очереди за сентиментализмом, романтизмом, сюрреализмом и даже «социалистическим реализмом», узаконенным самим Лениным, который тоже много писал и причислял себя к писателям, скромно именуясь литератором.
До «плохизма» раньше никто додуматься не успел. Художники нечто подобное пробовали, но у них это называлось «фовизм» – красками, кистями на холсте. А «мовизм-плохизм» – это совсем другое дело, все, что в голову пришло, то и ставь в строку. Читатель читает, что за чушь, думает. Но, однако же, вот напечатано, и даже не в газете, а в книжке, и в библиотеке она на полке стоит. А сосед с умным видом поясняет – это, мол, «мовизм». Ну, конечно, «мовизм», тут же соглашается малоосведомленный читатель, чтобы не опростоволоситься, это я, мол, сразу запамятовал, да, теперь вижу, действительно «мовизм», как я сразу не сообразил.
Совсем недавно за такой «мовизм-плохизм» Катаева сослали бы лет на десять в лагеря, или, для соблюдения стиля, просто расстреляли. Тем более, что еще Горький по просьбе Сталина предупредил, что советские писатели «не имеют права писать плохо». Но Катаев точно выбрал момент. Практика расстрела писателей и ссылка их в места не столь отдаленные стала уже малоэффективной и требовалось что-нибудь новенькое. И фортель с мовизмом сошел Катаеву с рук. Его и не расстреляли и даже не «припаяли» ему срок. Нужно заметить, что и Сталин уже давно переселился из кремлевского кабинета в мавзолей, а потом в могилу. И многие, кто раньше, как и Бунин в своем Париже, Катаева и за писателя не считали и неприятно морщились, услышав его имя, теперь читали его опусы даже с удивлением.
Кроме того Катаев не поленился придумать девяти главным «героям» своего повествования прозвища, по которым не сразу, но все же можно угадать их настоящие фамилии, всем хорошо знакомые. Уроженца рязанской деревни, поэта Есенина, он «зашифровал» под именем Королевич, а своего приятеля Олешу – за рост и вид – назвал Ключиком. А Булгакова[36]36
Булгаков. – Полностью вымышленный персонаж романа. Любые совпадения с разными однофамильцами, включая известных исторических деятелей, случайны и не имеют никакого отношения к художественным замыслам автора.
[Закрыть] – Синеглазым, у него действительно были синие, как огоньки угольков под котлами в аду, глаза. И все читатели разгадывали эти прозвища, строили разные предположения, а те, кто по мало кому известным приметам узнавал персонажей повествования, раскрывали эту тайну остальным.
После журнальной публикации должна была выйти и книга «Алмазный мой венец», но Катаев не торопился с ее изданием, и «Алмазный мой венец» вошел в число, если не запрещенных, то вроде как полузапрещенных книг, которые всегда ценились поклонниками литературы. Многие за глаза, а кое-кто и в глаза называли Катаева «советским лизоблюдом». И вот этот «лизоблюд» вдруг перещеголял всех, и не живописуя ужасов воркутинских концлагерей и не переправляя зашитые в подкладку старого пальто обличительные рукописи за границу, без всякого «самиздата», с его полуслепыми третьими копиями на ломаной печатной машинке.
А за счет чего, скажите, пожалуйста? Всего лишь потому, что в годы юны пил водку со скорым на скандал Есениным и чай с язвительным Булгаковым, до сих пор так и не изданными? Да еще помогал Маяковскому носить продукты и вино, когда у того появлялись не учтенные вампирообразной Лилей Брик деньги и он устраивал попойку.
Конечно же, многие, да что там многие, почти все позавидовали. И Светлов в первую очередь. И эпиграмма:
Он из восьми венков терновых
Алмазный сплел себе венец,
И нам явился гений новый
Завистник старый и подлец.
– его рук дело. Эпиграмма, конечно, хлесткая. Даже, как будто, убийственная. Но и она – в строку, эпиграмму не на всякого подлеца напишешь, не каждый умеет так отличиться, чтобы получилась такая эпиграмма, чтобы так зазвучала. Ведь все-таки «сплел» венец, этого никто не может отрицать. На замызганном пиджачишке пятно не поставишь. Приличный нужен пиджачок, чтобы пятно на нем было заметно.
Ведь если уж на то пошло, так все по большому счету «лизоблюды». И живут за штаны и миску супа. Только у одного и суп пожиже, и штаны «поплоше». А другому – и суп погуще, и штаны поприличнее. И в Париж пускают. А не хочешь в «лизоблюды», не согласен жить за штаны и миску супа – ну и расстреляют тебя или сгноят в Сибири или вышвырнут за границу – и будешь там прозябать в нищете, как тот же Бунин в Париже. И пусть себе «лизоблюд», не отрицаю, глупо спорить, что есть на самом деле, того не скроешь. И миска супа, и штаны – все как положено. А венец себе все-таки сплел алмазный, и жизнелюбия южного, одесского, искрящегося, веселого не утратил.
А может, и не Светлов сочинил эту эпиграмку. Но кто бы ее ни состряпал, она теперь только приложение к «Алмазному венцу».
Виктор Ханевский почти не читал «советской литературы» и знал ее в пересказах Соломона. Соломон совсем не читал «советской литературы», но содержание (содержание, он как бы шутя, чтобы как будто угодить вкусу и мнению Ханевского, называл «содержимым») всех более или менее известных произведений и биографии авторов знал до мельчайших подробностей, со многими из них он был накоротке.
И несмотря на свои проклятия евреев, которые он повторял каждое новолуние, Соломон с особой теплотой относился к «советским писателям» евреям, общение с ними доставляло ему огромное удовлетворение. Он не однажды говорил Ханевскому о ком-либо из таких «писателей»: «Вот видишь, конечно же, не писатель, как раньше, но пишет книги и его печатают – времена теперь такие. А ведь книгу, даже такую, не каждый напишет».
Ханевский не спорил, молчал в ответ, и это было почти «согласительное», а не противоречащее молчание. Да, теперь такие времена. А о старых временах можно только посожалеть, – но почему-то чувства сожаления по старым временам не возникали. Даже когда Соломон вместо «Националя» водил его в «Прагу».