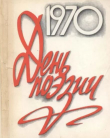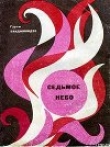Текст книги "Игнат и Анна"
Автор книги: Владимир Бешлягэ
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Забросив пустое ведро в кузов, он усаживается за баранку.
– Мэй, шофер, мэй! Обожди меня, друг!..
Водитель вопросительно смотрит на пассажирку: кажется, кричал кто-то? Она молча кивает на Игната, бегущего от ворот к машине.
– 0§ожди, я тоже еду! – Игнат дергает ручку дверцы. – Найдется местечко?
– Да уж полезай, – разрешает шофер. – В кузове холодно.
Женщина сторонится, вся подобравшись, хотя и так занимает немного места. Игнат садится неловко, чуть боком, и закрывает за собой дверцу.
Машина плавно катится по шоссе: судьба сделала свое пока еще непонятное дело. За холмом открылся участок ровной дороги между голым виноградником и опустелым сливовым садом. Дальше побежали озимые; напоенная осенними дождями пшеница до горизонта раскинула свой ярко-зеленый густого ворса ковер.
Но что это? К ветровому стеклу приникло несколько белых снежинок.
– К хорошему снегу, – говорит шофер, не поворачивая головы.
– Рановато бы, – отзывается Игнат, поглядывая на спутницу, сжавшуюся в комочек между ним и шофером: а ты что молчишь? Но она только плечами повела, ей холодно при виде этих первых вестников зимней стужи.
– Как-никак конец ноября, – бубнит шофер. – В иные годы выпадал и раньше…
Женщина чуть наклоняется вперед, напряженно вглядываясь в дорогу сквозь грязное стекло.
– Да, – качает она головой, не объясняя, что именно означает ее «да»: то ли и впрямь рановато для снега, то ли это ответ ее собственным затаенным тревогам и мыслям.
Где-то через полчаса за верхушками деревьев на обочине шоссе является вдали бело-сизая хмарь, она разрастается, клубясь как живая, – это не туча, это валит дым из полосатых каменных труб – машина приближается к городу. Завеса мокрых деревьев резко разрывается, и под прямым углом слева открывается широкая магистраль с разделительной полосой, за ней ряд белых недостроенных корпусов – механический завод из центра города перебазируется на окраину. Где-то вдалеке свистит тепловоз, и ему отзывается эхо в долине Днестра; река здесь гигантской петлей огибает город.
Переехали железнодорожное полотно, шофер газанул и успел проскочить под опускающимся шлагбаумом. По обе стороны дороги тянутся трех– и пятиэтажные коробки недавно заложенного микрорайона. Машина сворачивает влево на узкую улочку с низенькими, будто старосельскими домиками и, проехав еще немного, останавливается.
Порывшись в карманах, Игнат достает несколько монет, кладет их на протянутую ладонь шофера и выбирается из машины. Водитель что-то ему еще вдогонку кричит, но Игнат отмахивается: ладно, дескать, благодарю, пешком доберусь. Он идет по квадратным плитам старинного запущенного тротуара, кое-где и плит нет – вместо них свинцово мерцают грязные квадратные лужицы. Пройдя с полквартала, незнамо зачем оглядывается – точно, машина свернула к вокзалу, а его спутница – вот она, идет следом.
«Куда она торопится?» – думает Игнат, радуясь неизвестно чему. В это время женщина останавливает прохожего каким-то вопросом. Выслушав ее, он пожимает плечами:
– Не знаю.
«О чем она могла спрашивать?» – думает дальше Игнат, и необъяснимое любопытство вдруг разбирает его. Пока ехали, на ухабах машина дважды бросала их друг к другу, и он невольно касался ногой ее ноги. Женщина неизменно отстранялась, ни разу не взглянув на него. Он даже не разглядел ее толком.
– Вы куда направляетесь, не во гнев будь спрошено? – задает он вопрос, когда она обгоняет его.
– Что? – пугается она. – Ах, это вы? Я, видите ли… – и теряется окончательно.
– Я видел, вы узнавали что-то у того человека…
– Видели? – как эхо, повторяет она. – Я только хотела спросить, где здесь мебельная фабрика. Мне надо заглянуть туда, понимаете…
Игнат не слышит. Он смотрит ей прямо в лицо, сейчас такое близкое, и впервые понимает, как она молода и красива. Он невольно улыбается ей.
– За углом твоя фабрика. Свернешь налево и в железные ворота упрешься. Там так и написано наверху: «Мебельная фабрика».
– Спасибо, – в ответ ему улыбается женщина. – Так я побежала, скоро начнет темнеть…
Игнат провожает ее взглядом и идет своей дорогой, прямо к больнице.
3
Анна услышала легкий скрип двери. Почувствовала на себе чей-то взгляд, но головы не повернула. Она стоит, облокотившись на подоконник, обняв ладонями щеки, и задумчиво глядит на деревья во дворе.
Там, на вершине клена, еще остается несколько листьев. «Как они держатся? – думает она. – Ведь вершины ходуном ходят от ветра». И ждет мгновения, когда лист оторвется и начнет свой полет среди веток. Вот оторвался, тихо плывет вниз, минуя оголенные сучья. Вот исчез. Верно, в дупло завалился. Теперь там истлеет, сгниет, зарубцевав шрам на теле родимого дерева.
Сделав спозаранку укол у процедурной сестры, Анна вернулась в палату и пристроилась надолго у подоконника. Дверь за ее спиной отворялась время от времени, кто-то входил, кто-то выходил. Она слышала, как нянечка с грохотом выносила плевательницы и судна, но даже не шелохнулась. Изредка она поднимала руку и усердно чертила круги на стекле. Но от этого стекло не становилось яснее. А до второй рамы добраться она не могла: с утра пришел завхоз и забил ее наглухо. Мир за окном по-прежнему оставался мутным, может быть, поэтому Анна изо всех сил терла глаза, так же терпеливо и старательно, пока слезы не выступали, и не разобрать было, то ли запотело стекло, то ли тоска застит ей очи.
Соседки по палате дивились, глядя на Анну: чего она стоит у окна, как приклеенная? Вышла бы, погуляла по коридору, поглядела бы цветной телевизор. А то и того хуже: растянется на койке и часами глядит в потолок. Женщина с перевязанной грудью, старожилка здесь, утешала ее поначалу:
– Не тоскуй, девонька. Не сто же лет тебе! Встань, походи, выйди к людям. Думаешь, в больницу помирать приходят? Я сюда во второй раз попадаю. По первому разу совсем молоденькая была. Поругались с мужем и так психанула, что ровно оборвалось что-то внутри. Вот вроде тебя, недели на две окаменела. Потом отошла мало-помалу… Поглядела на одного, на другого. А как вышла однажды во двор, подсел ко мне паренек… Как сейчас его вижу, у него еще был рубец на щеке. Посидели, покалякали, пошутили. Оказалось, он давно уже сохнет по мне. Больная, худющая, я ему по сердцу пришлась. А была тоньше тростиночки, не такая, как теперь, разбухшая бочка…
Женщина вздохнула, поморгала глазами и все же удержалась, не заплакала.
Анну позабавило признание этой старой распухшей женщины, которая когда-то была тоненькой, как тростиночка. Она пыталась представить себе того робкого парнишку со шрамом, их любовь ненадежную – кто знает, может, надежной-то и вообще не бывает? – и душу Анны разбирала такая печаль, что она вновь с постели срывалась, спешила к окну и часами смотрела сквозь мутные стекла на асфальтированные аллеи, по которым важно прогуливались больные в линялых халатах, на старые, рассаженные как придется деревья – это был настоящий лесок: березы с невыразимо белой корой, пепельные акации с шуршащими по ветру искривленными стручьями, рыжие сосны, тянущие свои иглистые лапища в сизое небо… А вон идут парень с девушкой: он в полосатой арестантской пижаме, она в красном халатике, явно домашнем – больничные все уныло бежевые, а этот веселенький. Они идут, переглядываясь и тихо смеясь. «Влюбленные! – узнает их Анна. – За руку ходят…»
Дверь снова скрипит. Кто же это все хочет войти, да не решается? Неужто Петря по мою душу? И никакой его карантин не берет! Каждый день заглядывает хоть на минутку в палату, передаст апельсины или хоть помнется в дверях. Он уже здесь всем примелькался, а главврач шутит: «Бросай-ка ты, красавица, мужа! Видишь, сам Петр Николаевич у нас все пороги обил! Очень перспективный товарищ. Со всех сторон слышу: в Кишинев его сманивает «Молдсельхозтехника»!..»
Последний огненно-золотой лист сорвался с голой верхушки. Трепещет меж голых ветвей: язычок пламени на ветру повисает на остроконечном сучке – Анна затаила дыхание – и, словно набравшись храбрости, опять бросается вниз, вниз… Анна загадывает: приземлится ли он далече от родного ствола, так что никто никогда не узнает, откуда он родом, или ляжет в подножье взрастившего и взлелеявшего его дерева? – и, не дождавшись решения своей загадки, отводит глаза – тяжело быть очевидцем последних минут птицы, листа, любви…
Анна спешит к своей койке, ей хочется зарыться в подушку, закрыть глаза и уши, забыть обо всем. Но на подушке лежит узелок – гостинец от мамы. В больнице карантин, ее не пустили в палату. Пришлось поговорить у окна. Но что же она принесла? Анна устраивает узелок на коленях и разворачивает нетерпеливыми пальцами: баночка сметаны, завернутая в полиэтиленовый мешочек, хрустящие румяные коржики, такие, какие только мама умеет печь, кусок домашней ветчины, овечья брынза… о, да здесь на неделю хватит! А это что, завязанное в отдельный лоскуток? Анна распутывает узел и видит два клубка шерсти, один голубой, другой красный. Она стыдливо оглядывается – не видел ли кто? – и быстро прячет их под кровать, в картонную коробку, где у нее припасено еще кое-что…
Она спросила маму:
– Вы заходили к Игнату? Что он делает?
Мать прикусила губу и, приложив ладонь к уху, привстала на цыпочки.
– Игнат, говорю! Что с Игнатом?
– Отец? – кивала мама в ответ. – День и ночь на своей маслобойке…
Анна поняла, что мать не виделась с Игнатом и не хочет о нем вспоминать. Так они поговорили еще какое-то время, разбирая из десяти слов одно, а перед самым уходом мама спросила:
– Скоро выпишут?
Анна пожала плечами: когда-нибудь этот карантин кончится…
– Прямо к нам приезжай. А твой опять куролесит. По селу чего только не болтают о нем…
В палату неслышно входят две санитарки и доктор. Они перекладывают стонущую женщину на каталку и увозят ее. Анна провожает землячку до двери и хочет идти дальше, но доктор останавливает ее резким жестом. А санитарка притворяет дверь перед самым ее носом. «Куда? На операцию?» Нянечка по секрету рассказывала, что собираются Марию снова под нож положить, извлечь осколки теменной кости из мозга. Это будет вторая операция, хорошо бы последняя…
Судьба, судьба! Бедная Мария, бедные ее девочки! Вот теперь ее в горячечном бреду отправили в операционную, а еще вчера она сделала для Анны святое, доброе дело. Утром прикатили на машине Петря и Симион. Договорились с лечащим врачом и забрали ее в село до обеда. Там, за празднично накрытым столом, ее сговорили. Анна для храбрости чуток выпила. За обедом была весела и даже развязна, но, вернувшись в больницу, загрустила. К вечеру совсем сделалось тошно. Вот тогда-то Мария подозвала ее к себе и шепнула: «Знаешь, где я живу? Девочки тебе дадут платье». Только робко предупредила: не попадись смотри на глаза кому-нибудь из начальства – шуму не оберешься, а меня с работы погонят… Анна g трудом разыскала полуподвал недалеко от Дома культуры. Ближе к полуночи словно неведомая сила подняла ее с больничной койки и помогла спуститься через окно в сад, облитый луной. Ветер рвал и метал; Анна теснее запахнула на груди халат и, прокравшись к каменному забору, нашла знакомый пролом. Старшая девочка провела ее в тесную комнатушку, где на пружинной кровати спали еще четыре малышки, дала ей сорок копеек мелочи и старое пальто Марии. Анне везло. На окраине ее подхватила случайная машина и доставила до самого места: водителю было по пути. Когда она толкнула калитку и подошла к окну своего дома, сердце ее так бешено колотилось, точно она всю дорогу бежала. Да не случись этой счастливой машины, она бы хоть ползком сюда добралась. Сердце кричало ей, что происходит что-то роковое в ее жизни, в ее доме, с ее мужем. Но как ей быть, она сама еще не решила… В окно Анна не стала заглядывать: все равно ничего не уридишь, внутри темно. И на дворе ни души. На пороге застыла: не лучше ли постучать? Как-то он встретит меня? И когда она вообразила себе, как он, ее Игнат, с чужой женщиной спит в той же постели, в которой спал с ней, она почувствовала, что силы ее покидают, ноги слабеют и подгибаются; еще миг, и она упадет. Зажмурившись, она нащупала щеколду и прислушалась. Тишина. Вдруг ей померещилось дыхание и тревожный шепот. Она отпрянула, спустилась на леденящий цемент крыльца. Где-то в голых садах, внизу, прокричала ночная птица. И тут же в подол Анны ударилось что-то живое. Лягушонок. Он уставился на нее выпученными глазками, горлышко его так и ходило. Анна обрадовалась ему, как другу, погрела в ладони и сунула в карман жакетки. Улыбнулась: вот напугаю Игната! Решительно поднялась: неужто на двери замок? Нет, замка не было. Щеколда легко подалась – даже двери не запер! Анна скользнула в сени, а затем в комнату… Тишина, полутьма. Дома ли он? Неужели не слышит? Нет, вот и его дыхание доносится справа, с широченной двуспальной кровати, которую они долго выбирали в городе до переезда в новый дом. Луна била в окошко, озаряя голый подоконник с двумя цветочными горшками. Анна коснулась холодной печки. Не слышит! А может, затаился в темноте и следит… Она опустила лягушонка на пол: авось Игнат увидит, засмеется и выдаст себя. Лягушонок запрыгал и исчез под столом. Она подошла к кровати, протянула в темноте руки: «Игнат, ты здесь? Отзовись!» Игнат не отозвался. Она присела на край постели, погладила простыню кончиками пальцев… И вот он рядом, дышит, здесь, на этой кровати, уткнувшись в стенку лицом, беспомощный, как ребенок. Ноги у Анны гудят, руки не слушаются. Обида и счастье переполняют ее до краев, она зарывается лицом в подушку…
Дверь отворяется с бесконечным жалобным скрипом, и в щель заглядывают два большущих блестящих глаза. Принадлежат они девчушке, которая частенько захаживает в палаты с дощечкой и щепочкой в руках – это ее тетрадь и карандаш. Она важно обходит больных, спрашивает, у кого что болит, берет на заметку, прописывает лекарства, назначает на процедуры, кого похвалит, кого разбранит, вызывая смех и принося облегчение страдальцам. Но к Анне она как-то по-особому тянется.
– Что такое? – спрашивает Анна. – Что там случилось?
Девочка испуганно глядит на нее.
– Тетенька Анна, ее увезли!.. – Голос у нее прерывается, глазами она показывает на пустую постель. Анне дорога эта девочка, которую никто не навещает, кроме бабки, изможденной суровой старухи.
– Что ты болтаешь, глупышка? – Анна обхватывает ее голову руками. – Доктора взяли ее на операцию.
Она слышит, как сердечко колотится в маленькой груди.
– Операционная на замке. Я видела сама, как ее спрятали за ширмочкой в соседней палате…
– Знаешь что? – говорит Анна веселым голосом. – Давай-ка полюбуемся на наши носочки. Они почти готовы.
И ведет девочку за плечи к своей койке. Усаживает ее поудобнее, садится рядом сама. Вытаскивает из-под кровати вязанье, раскладывает на коленях.
– Ой, тетенька Анна, какие хорошенькие! И фасончик какой милый! – говорит девчушка солидно, совсем как взрослая женщина. – А они мальчуковые или девчуковые? Вот я тоже скоро маленького рожу. Так уж вы меня, пожалуйста, научите…
– Подрасти сперва, баловница! – Анна грозит ей пальцем.
– Слышите, слышите? – девочка вскидывает голову и бледнеет.
За стеной – шум беспорядочной беготни и душераздирающий стон. Девочка спрыгивает с кровати.
– Это она… тетя Мария кончается… Как же теперь, тетенька Анна?!
Анна притягивает ее к себе, изо всех сил прижимает к груди, закрывает ей уши ладонями:
– Ты не слушай… ты не должна этого знать, не должна!..
А Игнат уже под окном, метрах в десяти. Окно большое, двустворчатое, пожалуй, побольше теперешних сельских окон, и довольно высоко от земли. Он задирает голову, пытаясь заглянуть внутрь, и видит верхнюю часть стены и двери, потолок, да и то как в тумане – стекла запотевшие, пыльные. В них, как в мутном зеркале, отражаются облетевшие клены, дыбом стоящий кусок асфальта, длинная Игнатова тень.
Хочет он поднять руку, постучать в окошко и не решается. Едва добрел до угла здания. Его трясет, бьет мелкий озноб. Ощущение такое же, как он испытал однажды, попав под ток высокого напряжения. Дело было так. Нынешней весной в карьере бадя Филимон напоролся ка оголившийся провод в триста восемьдесят вольт напряжением. Его заколотило, он взвизгнул каким-то мальчишеским дискантом; Игнат рванул старика за ногу, оба упали; затрясло и Игната. Спасибо молокососу в беретке, догадался вырубить ток. Долго еще за верным графином вина у них зуб на зуб не попадал – парень сидел третьим, сам не пил, подливал, – они тупо опрокидывали стакан за стаканом и понимали: могли ведь обуглиться…
И вот так сегодня Игната колотит весь день, с утра, спозаранку. Нет, не спозаранку и не с утра, а, пожалуй что, с явления той злополучной машины, которая довезла его в город. Нет, не с машины – с ножек, с подсолнуха на асфальте, с дымка над крышей в безветрии…
Вот сидит он за углом больничного корпуса, привалившись плечом к сосновой поленнице, пахнущей эфиром и ладаном. Теперь он твердо уверен в том, что это их третья встреча. А первая была в детстве, когда его родители только еще обстраивались на болоте после войны, а Игната отправили погостить за тридцать верст вверх по Днестру к бабушке по крестной матери. Была страстная неделя. В четверг вечером пошли на всенощную. Бабка его крепко держала за руку, а он и не упирался: все ему нравилось в храме – горящие свечи, строгие лики святителей на иконах, благолепный волосатый дьякон с паникадилом, поп, распростерший руки в медленно отворяющихся царских вратах. Но когда хор разошелся на десятиполосицу и дошло до «Разбойника благочестивого», и костлявая, очень высокая девушка в белом взяла выше всех и повела аж до радужных херувимов на своде, Игнат захлебнулся слезами, вырвал руку из потных пальцев бабки и, яростно работая локтями, полез к выходу. С паперти ктитор проводил его подзатыльником. После надышанного толпой воздуха, пропитанного вонью жженого воска и дьяконовых ароматизированных угольков, эта скромно пахнущая белой сиренью, бедная звездами первомайская ночь показалась мальчику сущим раем… Он невольно вздохнул и побежал вприпрыжку по улице. Оглянулся – за ним поспешает незнакомая девочка. Подождал. «Ты убежал, потому что жарко стало?» – «Я вообще-то бабушку крестную жду…» Она была костлявая высокая девочка его возраста, может, самую чуточку старше. «Я тебя видела в церкви. Я и стояла рядом с тобой». – «Чего ж ушла?» – «За тобой», – и настолько смутила его этим беспощадным ответом, что он тут же нашел лицемерное оправдание ее выходке: «Да, уж очень у них пахнет ладаном. Как на погосте». Она усмехнулась: «Если мы будем стоять, нас разлучат. Пойдем погуляем». «Куда бы мне тебя повести? Жаль, я не здешний». «Я знаю, – просто сказала она. – Там, на холме над Днестром, на Вороньем Яру, есть высокий ракитовый куст. Пойдем покажу. Только по дороге живет злая собака, так ты возьми камень, а я возьму палку – она и отстанет…» Подходя к опасному месту, они еще на всякий случай прижались друг к дружке и взялись за руки, но собака не тронула их, будто спала. И в молодом сиянии месяца, под редкими бледными звездами они весело взбежали на гору, к обрыву над Днестром, и до венчального ракитова куста уже было рукой подать, да трижды его обойти им бог не судил. С огромного присадистого валуна на тропинке слетела Цыганка С трубкой в зубах, махая своими разноцветными юбками. И была она не в меру пьяна, потому как все пыталась и не могла сорвать с шеи душившее ее монисто. «Вы чьи такие хорошие? – грозно нахмурясь, спросила она. – Чего ищете на моем обрыве в такой поздний час?» «Мы… – мальчик вышел вперед. – Из святой церкви идем!» «Из святой церкви? Ха-ха-ха! – закатилась Цыганка. – С палкой и камнем? – и поманила их черным крючковатым пальцем. – Бросьте ваши цацки, я вам понадежнее дам». Конечно, они тут же выронили и камень, и палку и, белее извести, трепещущие, приблизились к» кенщине с дымящейся трубкой в уголке рта и черными волосами как смоль, струившимися из-под желтой, с розами, шали. «Вы послушные детки, вы к попу ходите, не то что мои вороненки… – И тут словно из-под земли выросла орава цыганят, галдящих, каркающих, кривляющихся. – Цыц, байстрюки! Геть в шатер! А вы, мои миленькие, не забудьте эту ночь. Вот вырастите большие, я уже в земле затворюсь… будет чем вспомянуть Цыганку.-.» – И она одарила девочку и мальчика нежным поцелуем слюнявых, пахнущих махрой губ. Потом, будто бы и пьяна не была, а зачем-то лишь притворялась, точным ясным движением отцепила от мониста два детских колечка из красной меди и надела их детям на пальцы. Колечки пришлись впору. А они, бедные, вспыхнули от смущения. Положив руки детям на плечи и отстранив их от себя, Цыганка восхищенно прицокнула языком и сказала: «Хорошей парой будете. Поскорей вырастайте!» Она ожесточенно сплюнула через плечо и поплелась следом за цыганятами к Днестру, попыхивая трубкой и бормоча что-то на своем цыганском наречии, не то песню, не то заклятье. Юбки ее еще долго шелестели в траве, будто кто-то косил… Запоздалый животный страх напал на Игната, он принялся лихорадочно дергать кольцо… оно никак не снималось. «А ты иди домой, с мылом попробуй», – сказала девочка. Он опрометью, не разбирая дороги, ударился по тропинке в село. Прибежал весь в поту, зубы стучали. Крестная мать матери долго не могла его успокоить: сглазили мальчонку, ох, Иосуб не простит! А крестный отец матери попятнал ему лоб сажей, святой водой окропил и спокойно сказал: «К утру оклемается…» А колечко свое красной меди Игнат потерял по дороге, видимо, само соскочило…
С чего начался семейный разлад? Вернувшись однажды с работы, он застал ее в доме у печки, а было это в жаркий летний денек. Она стояла оцепенелая, уставясь недвижным взглядом в окно, а когда он хотел повернуть ее лицо к себе, вырвалась из его рук, выбежала из дома, ушла навсегда… И опять же это проклятое, идиотское слово! Оно, как стена, стало меж Игнатом и Анной. Анна во всем винила его, а он во всем винил Параскицу. Наивная лукавая дурында, она пришла как-то к ним за цементом, надо было обмазать крыльцо во дворе Иосуба. Ну, взяла бы и шла бы дорогой своей, так нет, она принялась донимать Анну, возьми да и ляпни: «А что это говорят по селу, Анна, фа, будто бы люди опять вас с Петрей встречают?» Анна аж поперхнулась от ненависти: «Почему же опять? Разве у нас мало дел в сельсовете?» – «Какие ваши дела, тебе лучше знать. Только вроде бы ты идти за него собиралась». – «Он собирался. Я не хотела. Захотела – пошла бы». «Вот оно как, – простодушно и широко улыбнулась Параскица, которая только что прошла по селу с подоткнутым подолом, сверкая перезрелыми голяшками, и сама того не заметила. – А теперь, стало быть, захотела?» Игнат как раз под навесом опробовал новый рубанок – подарок Анны… Когда она еще жила у стариков Игната, однажды горько над собой подшутила: «Вот было бы здорово – приезжает Игнат, а у меня на руках лялька. Эх, видать, пустоцветом я уродилась на свет, порченая я…» Знать бы ей, что пройдут месяцы и годы, и слово это станет ее проклятьем. Сказала – забыла. А вот Параскица запомнила. Принесла в подоле маменьке, а та – куме. И пошел звон по селу, пока не дошло до ушей Симионозой язвы. А та подняла тарарам: «Так? Доченька моя – порченая? Сегодня же забираю обратно! Я ей мигом мужа сыщу. И даже с детьми. А этот Иосубов недоделок долговязый, петух щипаный, пусть кукует один!» Так Параскица разожгла великий пожар, ровно паклю бросила в бочку с бензином…
А вчера вечером пришлепал к сыну старый Иосуб. Еще от ворот закричал: «Мэй, Игнат, мэй! Дома ты или нет?» А он, Игнат, хвать лопату и давай ковырять в корыте стылый раствор – все равно собирался выстелить вокруг дома предохранительный пояс от сырости. «И чего старика принесло? Верно, с бабьем перессорился снова…» Но нет, больно уж ухарски выглядел старый Иосуб. У калитки устроил целую пантомиму, будто приглашал кого-то войти и просил извинения, что поперек батьки в пекло полез! «Пардон, извиняюсь, мурсю!..» Таким он бывал после второго примерно стаканчика, непременно разыгрывал этакий маленький кавардачок. А то и вовсе, ни капельки не приняв, мог куролесить вовсю. У Иосуба бывали минуточки, когда он просто так, от жизни пьянел – сделает ближнему доброе дело или нападет на чертовски интересную собеседницу, и пошло, и поехало… Игнат что было силы лопатил раствор. Подлил воды из ведра, показалось мало, направился к крану. «Бог в помощь, работничек еров! Что, руки чешутся? Даже выходной костюм не сменил…» – «Обноски донашиваю… – мрачно отозвался Игнат. – А ты, чем ерничать, лучше бы помог человеку». – «Э, нет! – замахал обеими руками Иосуб. – Я парадный костюм берегу. Вот если б ты упредил меня загодя… – Он подмигнул Игнату сразу двумя глазами. – Знал бы ты, с кем я сейчас имел честь дело иметь! А ну угадай! Вовек не угадаешь… Выхожу я, как говорится, в село. Дорога налево, дорога направо, дорога в середке: и туда, и сюда, и обратно. А люди, слышь, везде люди: каждый себе на уме, а мне куда подеваться? Счетуация, брат, ох, счетуация! Я ведь толком тебе говорю: для того только вышел, чтоб выйти, а не чтобы идти. Ни раз уж на распутье стою, делать нечего – налево свернул. Там, кстати, самое буфетное место. Слыханное ли дело? Дойдя уже до прилавка, сообразил я, куда судьба закинула. Чтоб у меня ноги отсохли, если я туда думал идти! Но ведь пришел. Но врать не буду, корешей своих старых встретил: кума Калистрата, Иосуба Мону, тоже тезка мой закадычный, и… Да ведь мы тебе не буфетные завсегдатели! Кабы не седые бороды наши – глядишь, залили бы за воротник… Посовещались мы у прилавка и решили: пусть их молодые резвятся. А у нас свое заведение – шалман кумы Виторицы. Тут разуваются Иосуб с Калистратом, у них в портянках по рубчику – от злыдень схоронили на черный денек, на святую минуточку. «Все! – говорят разом, и глаза у них разгораются, как у чертей. – Похиляли к Виторице!» Посмотрел бы ты на них – павлины лесные, да и только… это которые были народные мстители туркам. Во двор влетают орлами, что твоя свита Стефана Великого, ну а за Стефана вроде бы я. Дома застали куму. Она нас, конечно, приветила, под навес усадила, выставила кувшинчик, за парой головок лука и брынзы полуголовкой сгоняла сожителя, самоеда безгласного, ногами забитого, богом забытого Ванюшку своего Чудного – заметь, и брынзы для нас раздобыла овечьей, домашней, не магазинной какой-нибудь… Да что я тебе расписываю! Посидели как следует быть. Однако… я не о том начал и не с тем пришел. Нахожусь, стало быть, со стаканом в руке и, откуда ни возьмись, смотрю, выходит из дома кумы… как думаешь, кто? Лучше не гадай, сто лет не прознаешь!..
Игнат опустил наземь полное ведро – дужка врезалась в ладонь.
– Да не мотай ты душу, говори наконец!
– Ха! Легко сказать: говори. Сидел бы ты на моем месте, а я выходил… – старый Иосуб оглянулся, не слышит ли кто, подошел к Игнату и прошептал что-то на ухо.
– Вот даже как? – притворился Игнат удивленным. – Интересно, что она там потеряла?
– Лучше спроси: кого потеряла? А я как знал, что встречу ее. Только не у Виторицы, прости меня господи! Думал, прошвырнусь мимо садика, погляжу в дырку заветную – там как раз в заборе хороший сучок вынимается – и на красулю мою полюбуюсь в окошечке, на лужаечке меж деток. Я уже не раз ее так застигал… Тьфу, язык окаянный! – Он ударил себя ладонями по губам. – Выдал-таки грех стариковский! – и зубасто заухмылялся. – Но чтобы она вертелась в нашем вертеле – это уж ни в какие ворота!.. Сижу я, поднявши стакан, и речь у меня зудит в зубах, уже помалу жужжать начинаю в честь Виторицы, а тут – ба! такая природа с крыльца! Дай, думаю, барышню искромтом побалую. Завожусь с полоборота. Открыл рот и вижу… из двери, которую только что прикрыла она за собой, мужик прет! Расшиби меня паралик, если не лез! То есть сунулся лезть, вот как я тебя вижу и ты меня уважаешь, а как на мою гвардию напоролся – шмыг в кусты, обратно, стало быть, за дверь. Вишь, общественности, прощелыга, струхнул. Малый рослый, красивый, как ты у меня, и в костюме столичном… а там черт его знает, может, обноски донашивает. Крест на все пузо, если вру, химическим карандашом помусоля… Я уже было крикнул: «Игнат, мэй, Игнат! Что ты здесь делаешь? Запил?» Уж ты прости дурь стариковскую, глазами ослабился, идти им в пузырь! В дверь втемяшился левым оком, правое на корешей выкосил и на Риту Семеновну оба таращу, а в душе-то об тебе думку держу: поял-таки мой стрепет голубоньку! Браво, мыслю, так ей и надо: от бабы Иоаны ушла – у кумы Виторицы достиг… Одно только скверно: бояре мои тебя усмотрели, уж больно хитро сидели, борода к бороде…
– Кончай, отец, а то ведро на голову вылью, – взмолился Игнат.
– А чего ты взъелся? – удивился Иосуб. – Что тут такого? Старичок глазами прослабился… Вот и говорю своим корешам: вы тут укоротайте часок, а я обернусь за очами, ох, не у тебя ли забыл на рояли? А ты, бедный, лопатишь стылый цемент. Как же так? Ты там – и ты здесь! Как говорит наша Семеновна: раздавление околичности. То ли я симулянт, то ли ты прохиндей… Счету ация!
Игнат опрокинул в корыто воду, вздохнул. Любит заковыристое русское словцо старый Иосуб. А вот руку к лопате приложить – этого он не любит. Между тем Иосуб любовно поглядел на сына исподтишка: «До ядрышка я тебя раскусил, брат Игнат. И всю вашу интрижку на три метра под землей разобрал!» Есть у старика за душой великая тайна. Никто на селе этой великой тайны не ведает, он один распрочуял ее, а как и где – тем более никому не известно. Был будто бы некий сговор между Анной и докторшей. И сказала ей наша докторша: праздно пожила ты со своим мужем ровно три дня и три года. Итак, дорогая сестрица Анна, я согласна тебе помочь, только если ты на это с чистым сердцем пойдешь». И Анна будто бы отозвалась ей: «Пойду, Рита Семеновна!» И они бросились друг дружке на шею и зарыдали согласно, и заворковали, как две белые горлицы: одна белее дня, другая чернее ночи. Это было, когда докторша с черными, как у черта, глазами и телом, полным истомы, как у змеи, еще квартировала у бабы Иоаны… И будто бы докторша, качая Анну у млечной груди, яко младенца же, адскую с нее клятву взяла: «Трижды через плечо плюнь, что из моей воли не выступишь, и будет тебе хорошо». «Клянусь! Клянусь! Клянусь!» – молвила Анна, а чем свою клятву скрепила, никому не известно, даже всезнающему Иосубу. И будто бы дальше лукавая докторша ей сказала: «Отвезу я тебя в женскую клинику к сведущему врачевателю. И он тебе ребеночка в колбочке сотворит. А если у него за два месяца не получится – на себя пеняй: придется мне взяться за Игната». «Как?!» – отпрянула от нее Анна. А у той бесы из глаз так и прыщут. «Я женщина видная, вальяжная телом, да и он парень не промах. Стало быть, будет у меня ребеночек от него, понимаешь?…» «Ребеночек? У моего Игната будет ребеночек! – радостно воскликнула Анна. – И ты его нам подаришь? Запишешь на меня в сельсовете? И всем скажешь, что я его родила!» И тут воцарилось молчание. Глубокое-глубокое, долгое-долгое. В этом месте рассказа у бабы Иоаны кончались слова. При всем честном магазине она закатывала глаза, как слепая, и, безбожница, тихо осеняла иссохшую грудь крестным знамением, после чего продолжала: «Нет, никогда! – вскричала коварная докторша. – Я сама его выращу, сама воспитаю! А если посмеешь препятствовать двум любящим сердцам, так я таки да пойду на аборт!» Дойдя до этих слов, Иосуб сильно конфузился: уж больно смахивала его история на двухсерийную индийскую картину, которую недавно вертели по телику…