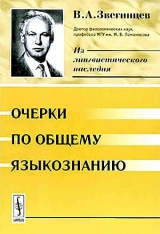
Текст книги "Очерки по общему языкознанию"
Автор книги: Владимир Звегинцев
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
Вопросы метода в советском языкознании
Вопросы метода в советском языкознании с самого начала его возникновения приняли сложный характер. С одной стороны, сохранялись традиции московской и казанской школ. Представители этих школ, работавшие и в советское время – А. А. Шахматов, Л. В. Щерба, Д. Н. Ушаков, А. М. Селищев, В. А. Богородицкий, Г. А. Ильинский, М. В. Сергиевский и др., а также их ученики – продолжали полностью или главным образом ориентироваться на сравнительно-исторический метод.
С другой стороны, параллельно шли поиски создания основ марксистского языкознания и установления особого, марксистского метода. Однако эти поиски сопровождались уродливыми левацкими извращениями, подобными тем, которые были столь характерны для «Пролеткульта» в искусстве. Особенно активно действовали в этом направлении представители группы «Язык – фронт» и школа академика Н. Я. Марра. Используя революционную фразу, они вульгаризаторски переносили социологические категории в область языка. В полемике с Н. Я. Марром, возражая против его вульгаризаторских методов, трезвые мысли были высказаны Е. Д. Поливановым[90]90
См. Е. Д. Поливанов. Сб. «За марксистское языкознание». «Федерация», М., 1931.
[Закрыть] но они были подвергнуты резкой критике и охарактеризованы как «рецидив буржуазного языкознания» и «буржуазная контрабанда»[91]91
Сб. «Против буржуазной контрабанды в языкознании». ГАИМК, 1932, где содержится полемика со всеми лингвистами, не разделявшими взглядов Н. Я. Марра.
[Закрыть].
Отдельного упоминания заслуживает также объединение лингвистов и литературоведов ОПОЯЗ (Общество изучения теории поэтического языка). Это объединение, существовавшее с 1914 по 1923 г. и ориентировавшееся преимущественно на ленинградских ученых (хотя оно имело отделение и в Москве[92]92
Ряд его участников вошел позднее в «Леф».
[Закрыть]), не оказало сколько-нибудь заметного влияния на формирование советского языкознания. Но некоторые его члены, переселившиеся в Чехословакию и продолжавшие там развивать идеи ОПОЯЗа, способствовали созданию пражского лингвистического кружка и возникновению так называемого пражского структурализма[93]93
См. посвященную этому книгу: V. Еrlich. Russian Formalism. History, Doctrine. Hague, 1955.
[Закрыть]. В литературоведении ОПОЯЗ послужил основой для создания формальной школы.
К концу 30-х годов остаются два направления в советском языкознании, проявляющих по отношению друг к другу относительную терпимость: претендующая на положение марксистского языкознания школа акад. Н. Я. Марра и довольно обширная группа языковедов, не разделяющая его взглядов, но и не имеющая единых четких методических позиций. Представители этой второй группы частично продолжали традиции дореволюционного русского языкознания, частично являлись последователями социологической школы Ф. де Соссюра и частично исповедовали откровенный и воинствующий эклектизм. Особо следует выделить крупнейшего советского языковеда последних десятилетий акад. Л. В. Щербу. Его оригинальное и богатое мыслями научное творчество дает все основания называть его создателем самостоятельной лингвистической школы, хотя вместе с тем его как ученика Бодуэна де Куртене нередко причисляют к казанской школе.
Теории акад. Н. Я. Марра были направлены по преимуществу на исследование широкомасштабных глоттогонических проблем, решавшихся, однако, умозрительным путем на основе социологических схем. Основой его исследовательского метода служил совершенно произвольный четырехэлементный анализ и стадиальные трансформации языка. В настоящее время все ошибки Н. Я. Марра подробно разобраны и поэтому нет надобности возвращаться к ним[94]94
Сб. «Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании». Изд-во АН СССР, ч. 1, 1951; ч. II, 1952.
[Закрыть].
После смерти Н.Я. Марра советское языкознание возглавил его ученик – акад. И. И. Мещанинов. Считалось, что он продолжал развивать идеи своего учителя, получившие в своей совокупности наименование «нового учения» о языке. Во всяком случае послевоенный период вплоть до 1950 г. прошел под знаком все усиливающегося давления на языковедов, уклонявшихся в своей научной и педагогической практике от марровских установок и, в частности, проявлявших пристрастие к попавшему в полную немилость сравнительно-историческому методу. Очевидно, что на основании одних своих научных достоинств «новое учение» о языке никогда не смогло бы занять господствующего положения в советском языкознании, так как его серьезные недостатки были слишком ясны. Но оно вводило в заблуждение своими социологическими формулировками, особенно отчетливо и эффектно проступавшими на фоне нейтральных в этом отношении положений традиционной компаративистики. Эти качества и обеспечивали теориям Н. Я. Марра административную поддержку, что в свою очередь привело к установлению в этот период нетерпимого режима в языкознании.
Положение усложнялось тем, что никакого дальнейшего развития метода Н. Я. Марра фактически не происходило и по самому его характеру не могло происходить, так как составлявший его основу пресловутый четырехэлементный анализ не имел никаких четких принципов и, помимо самого Н. Я. Марра, почти никем не применялся в исследовательской работе. Марризм исполнял главным образом ограничительные функции, всячески препятствуя тому, как бы советские языковеды не впали в грех компаративизма. Характерно, что акад. И. И. Мещанинов, повторяя наиболее общие формулировки своего учителя, в последующие годы своей исследовательской работы в действительности ушел в сторону от его теоретических положений и во всяком случае от выдвинутого им метода лингвистического исследования. В своих книгах, опубликованных И. И. Мещаниновым в этот период, – «Общее языкознание» (1940), «Члены предложения и части речи» (1945), «Глагол» (1948) – и в ряде статей он: в широком языковом плане ставит вопрос о доминирующей роли синтаксиса при становлении частей речи, о типологии предложения, о происхождении типологических групп языков, о роли понятийных категорий в семантических и грамматических категориях языка и т. д. В этом направлении своей исследовательской работы он смыкался с такими представителями зарубежного языкознания, как К. Уленбек, Э. Сепир, Г. Шухардт, А. Тромбетти, А. Хаммерих, О. Есперсен и др. По самому своему характеру изучаемые И. И. Мещаниновым проблемы, хотя и требовали исторического подхода, нуждались в совершенно новой исследовательской методике уже и потому, что их рассмотрение осуществлялось в широком контексте культуроведческих категорий. Поэтому работы И. И. Мещанинова были посвящены в такой же степени конкретной лингвистической проблематике, как и поискам нового исследовательского метода, пригодного для разрешения новых языковедческих задач. В этих поисках И. И. Мещанинов в какой-то мере пытался опереться и на марризм, как на «материалистическую» науку о языке, но в этом направлении фактически все сводилось у него только к использованию наиболее общих положений. В последующий за дискуссией 1950 г. период это последнее обстоятельство оказало решающее влияние на оценку научного творчества И. И. Мещанинова. С сожалением следует отметить, что И. И. Мещанинов незаслуженно был поставлен в один ряд с Н. Я. Марром и в связи с этим подвергнут резкой критике[95]95
«Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР», 1953, вып. 3.
[Закрыть].
В июне – июле 1950 г. на страницах газеты «Правда» состоялась открывшаяся выступлением проф. А. С. Чикобава лингвистическая дискуссия, которая оказала большое влияние на дальнейшее развитие советского языкознания. К числу положительных результатов, к которым привела эта дискуссия, относится то, что она разоблачила вульгаризаторскую сущность общетеоретических установок Н. Я. Марра и вскрыла его многочисленные ошибки собственно лингвистического характера (или же чрезвычайно произвольные истолкования языковых явлений). Доминирующее положение «нового учения» о языке, державшееся главным образом на административном понуждении, было устранено. Вместе с тем следует отметить, что в ближайшие годы, последовавшие за дискуссией, советская наука о языке не избежала влияния культа личности, проявлявшегося, в частности, в догматическом толковании всех положений, содержавшихся в выступлении Сталина в дискуссии по языковедческим вопросам.
Дискуссия, естественно, не могла решить всех вопросов советского языкознания. Не получил полной ясности и вопрос о методе.
После дискуссии 1950 г. в советском языкознании на первых порах в качестве основного метода лингвистического исследования был принят сравнительно-исторический метод, подвергавшийся ранее, в 30—40-е годы, гонениям со стороны марристов. Обращение вновь к этому методу, однако, не было результатом всестороннего обсуждения его научных достоинств (также сопоставительно с другими методами), но обычно подкреплялось простой ссылкой на соответствующее высказывание Сталина в работе «Марксизм и вопросы языкознания»: «Н. Я. Марр крикливо шельмует сравнительно-исторический метод как «идеалистический». А между тем нужно сказать, что сравнительно-исторический метод, несмотря на его серьезные недостатки, все же лучше, чем действительно идеалистический четырехэлементный анализ Н. Я. Марра, ибо первый толкает к работе, к изучению языков, а второй толкает лишь к тому, чтобы лежать на печке и гадать на кофейной гуще вокруг пресловутых четырех элементов». В соответствии с этой цитатой главным критерием, на основании которого устанавливается метод для советского материалистического языкознания, является его характеристика как лучшего, чем четырехэлементный анализ Н. Я. Марра, и то, что он «толкает к работе, к изучению языков». Легко увидеть, что под эти критерии может подойти очень широкий круг методов, например ареальный или структуральный. Ведь они, конечно, тоже толкают к работе, к изучению языков. Но можно ли только на основе этого довода решать, что именно они являются теми исследовательскими методами, на которые полностью должно опираться советское языкознание?
Если же оценивать сравнительно-исторический метод по существу, то также неизбежно возникает ряд весьма существенных сомнений. Помимо тех объективных его недостатков, которые обычно приводятся, сопровождаясь оговорками о необходимости его совершенствования у него наличествует много и других. Нельзя, например, не признать вескости упреков, которые в последнее время делаются в его адрес зарубежными лингвистами. Так, представитель неолингвистического направления Дж. Бонфанте заявляет, что младограмматическое языкознание, основывающееся на классическом сравнительно-историческом методе, – это языкознание в пустоте, совершенно абстрактное, вне всякой связи с реальной историей народа, это языкознание упрощенных и «закономерных» (регулярных) схем, рассматривающее всякое исключение из этих схем как еще не объясненную регулярность, языкознание, исследующее языковые факты и явления в изоляции от системы языка и допускающее сравнение изолированных явлений в разных языках без учета географических и хронологических факторов и т. д.[96]96
См. Дж. Бонфанте. Позиции неолингвистики. «Хрестоматия».
[Закрыть].
Следует при этом отметить, что формулирование таким образом недостатков сравнительно-исторического метода отнюдь не является производным от идеалистической позиции Бонфанте. В своем полемическом выступлении он лишь суммирует высказывания многих языковедов разных направлений, и эти критические высказывания вновь повторяются в наши дни (в том числе и в советской лингвистике) при противопоставлении «традиционных» и новейших (структуральных, математических) методов.
Не случайно и то обстоятельство, что сравнительно-исторический метод применяется главным образом в фонетике и морфологии, а в синтаксисе и лексикологии, где, в частности, особенно отчетливо проявляются связи языка с историей, его применение встречается с такими трудностями, которые до настоящего времени остаются непреодолимыми. В этих последних областях с помощью тех приемов, которыми восстанавливаются утраченные языковые факты в истории языков, не удается достичь сколько-нибудь реальных результатов, и только обращение к структуральным методам исследования языка обеспечивает известные успехи в этом направлении.
Все упомянутые недостатки сравнительно-исторического метода, разумеется, отнюдь не исключают его из научной практики советских языковедов; его применение достаточно оправдано столетней историей его служения науке. В рассматриваемой же связи важно отметить, что критерии, на основании которых сравнительно-исторический метод был выдвинут в советском языкознании на положение ведущего, нуждаются в уточнении, а сам метод – в точной оценке его возможностей и определении границ применения. В связи с этим возникают и другие вопросы. Ведь то или иное частное решение конкретной лингвистической задачи можно осуществить различными специальными методами, и неужели только решение, полученное на основе сравнительно-исторического метода, следует признавать доброкачественным? В том, что это не праздный вопрос, убеждают высказывания, подобные тому, которое делает, например, А. В. Десницкая. В своей интересной и богатой по содержанию книге, посвященной изучению родственных отношений индоевропейских языков и уделяющей много места методологическим основам науки о языке, она пишет: «Марксистское языкознание должно противопоставить подлинно научную, историческую трактовку этой проблемы теориям зарубежных структуралистов, неолингвистов и т. д., провозглашающих отказ от традиций классического сравнительного языкознания»[97]97
А. В. Десницкая. Вопросы изучения родства индоевропейских языков. Изд-во АН СССР, 1956, стр. 5.
[Закрыть], покоящегося, в изложении А.В. Десницкой, целиком на сравнительно-историческом методе.
В связи с вопросом о том, может ли сравнительно-исторический метод служить гарантией такого разрешения лингвистических проблем, которое способно удовлетворить марксистское языкознание, стоит и другой более широкий вопрос: каковы критерии, с помощью которых следует осуществлять методологическую оценку метода или конкретного решения частной лингвистической проблемы.
В передовой статье журнала «Вопросы языкознания» (1957, № 5) указывается, что конкретной лингвистической работе в Советском Союзе сопутствовал «сложный и трудный, но совершенно необходимый процесс выработки новых теоретических и методологических основ самой науки о языке»[98]98
Пути развития советского языкознания. «Вопросы языкознания», 1957, № 5. стр. 17.
[Закрыть]. Это указание совершенно справедливо. Сложность и трудность данного процесса (а соответственно и поисков указанных критериев), отсутствие здесь необходимой ясности можно проследить на ряде конкретных случаев. Так, например, смешение синтаксиса и морфологии в работах И. И. Мещанинова было подвергнуто критике в нашей научной литературе[99]99
См. материалы обсуждения работ И. И. Мещанинова, собранные в «Докладах и сообщениях Института языкознания АН СССР», 1953, вып. 3.
[Закрыть] как методологически порочное, а смешение лексики и морфологии в трудах В. В. Виноградова (при определении основного словарного фонда, куда оказались зачисленными не только словообразовательные суффиксы, но и словообразовательные модели[100]100
Cм. В. В. Виноградов. Об основном словарном фонде и его словообразующей роли. «Изв. АН СССР», отд. лит. и яз., 1951, вып. 3.
[Закрыть]) не только не вызвало каких-либо возражений подобного характера, но и нашло широкое распространение в нашей научной и учебной практике. Прямое перенесение социологических категорий в язык у Н.Я. Марра было совершенно правильно расценено как грубая вульгаризация, а требование выискивать в развитии языков «основного закона», по примеру основного экономического закона, преподносилось в передовой статье журнала «Вопросы языкознания» как очередная задача советского языкознания[101]101
«Вопросы языкознания», 1953, № 1, стр. 8.
[Закрыть] и т. д.
Такого рода противоречивость суждений в значительной мере следует приписать тому, что в советском языкознании еще недостаточно четко определены взаимоотношения между методологическими основами науки о языке и ее специальными методами. Эта нечеткость и делала возможным известную произвольность оценок и применение мировоззренческих категорий в тех случаях, когда это было не оправдано. Именно поэтому данный вопрос требует отдельного рассмотрения.
Взаимоотношение методологических основ науки о языке и ее специальных методов
Прежде чем перейти к рассмотрению данного вопроса, необходимо устранить неясности, обусловленные употреблением в языкознании некоторых терминов в отличном от общепринятого значении. Так, с одной стороны, понятия метода и методологии нередко подменяют друг друга, а с другой – метод употребляется в особом, специфическом для науки о языке смысле. Поэтому необходимо с самого начала возможно точнее разграничить эти хотя и взаимосвязанные, но вместе с тем несомненно самостоятельные понятия.
Метод обычно определяется как определенный способ подхода к действительности, способ познания физических и общественных явлений. Так, «Большая советская энциклопедия» (т. 27, второе издание) следующим образом объясняет это понятие: «Метод – способ подхода к действительности, способ изучения, исследования, познания явлений природы и общественной жизни». В этом понимании марксистский метод полностью определяется диалектическим материализмом, т. е. наукой о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Методология же есть учение о методе научного познания мира. Соответственно марксистская методология – это учение о методе научного познания мира, основывающегося на диалектическом материализме.
Но в языкознании понятие метода трактуется по-иному. Можем ли мы, например, говорить о сравнительно-историческом методе в том смысле, в каком понятие метода было объяснено выше? Очевидно, что нет. В языкознании метод – это только некоторая совокупность рабочих приемов, объединенных каким-либо общим принципом и применяемых в лингвистическом исследовании для выполнения частных исследовательских задач. Учение о методе как системе рабочих исследовательских приемов правильнее потому называть не методологией, а методикой.
Приведение используемой в языкознании общеупотребительной терминологии к общепринятому истолкованию повело бы к слишком крупным преобразованиям, и потому от этого приходится отказаться. Волей или неволей необходимо считаться с установившейся традицией и говорить, например, о сравнительно-историческом методе там, где фактически речь идет о системе исследовательских приемов. Однако важно во избежание путаницы с самого начала точно оговорить содержание терминов «метод» и «методология»: в дальнейшем изложении термин «метод» понимается только как совокупность или система исследовательских приемов, а «методология» – как совокупность философских принципов, определяющих понимание основных категорий языка.
Метод обычно занимает по отношению к методологии подчиненное положение. И это вполне понятно, так как метод как совокупность приемов для систематического, последовательного и наиболее целесообразного проведения исследовательской работы направляется в конечном счете на выполнение тех задач, которые ставит перед ним методология. Когда, например, язык понимался как явление природы (у Ф. Боппа), или как естественный организм (у А. Шлейхера), то и исследование направлялось или на вскрытие «механических» и «физических» законов языка, или на описание «жизненных» процессов языка в период его развития (становления) и в период его умирания (распада).
Понятия метода и методологии в вышеописанном смысле, видимо, еще не исчерпывают факторов, обусловливающих как способ и направление научного исследования, так и конкретные рабочие приемы его проведения. Практика научной работы показывает, что существует еще некая третья величина, которая находится в своеобразном промежуточном положении между двумя вышеописанными. Речь идет о том, что лучше всего назвать общим научным принципом. В зависимости от методологических установок он обусловливает соответствующий аспект изучения предмета и служит общей основой для формирования конкретных рабочих приемов, образующих специальный метод.
Из истории науки известно, что общие научные принципы, объединяющие некоторую совокупность исследовательских приемов в систему, не есть принадлежность одной науки Так, в частности, сравнительно-исторический принцип изучения явлений был перенесен в языкознание из других наук. Но языковеды, применявшие его к изучению языка, воплотили его в систему определенных рабочих приемов, направленных на определенную исследовательскую цель. Талантливый русский языковед Н. В. Крушевский, возражая против самого термина «сравнительная грамматика», писал в этой связи: «Название это своим происхождением обязано тому обстоятельству, что первые научные истины, касающиеся языка, были добыты путем сравнения», но «сравнение не есть метод, принадлежащий единственно науке о языке; он свойствен ей постольку же, поскольку свойствен и другим наукам»[102]102
Н. В. Крушевский. Предмет, деление и метод науки о языке. «Хрестоматия», стр. 242.
[Закрыть]. Об этом же пишет в своем кратком очерке истории языкознания и А. Мейе: «Методическое исследование исторических причин – вот самое оригинальное и новое, чем мы обязаны истекшему столетию. В механике, в физике, в химии методами Архимеда, Галилея, Ньютона добыто было великое множество новых результатов, но сам метод уже достиг своего совершенства и оставалось только применять его со все возрастающей точностью ко всем объектам, которые он позволяет изучать. Метод же исторического объяснения был созданием XIX века… Сравнительная грамматика составляет часть предпринятых в XIX веке систематических исследований исторического развития явлений природы и общества»[103]103
А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Соцэкгиз, М. – Л… 1938, стр. 447.
[Закрыть]
Подобные явления повторялись в истории науки многократно. Совершенно аналогичную картину мы наблюдаем при становлении тех новых приемов лингвистического исследования, которые исходят из структурального принципа, почему этому направлению в науке о языке и было присвоено наименование структурализма. Структуральный принцип не обладает в языкознании единством в выражающих его конкретных исследовательских приемах и связывается с неоднородными философскими и мировоззренческими категориями. Но как определенный принцип научного исследования он един не только в разных видоизменениях лингвистического структурализма, но и в целых группах наук, и это обстоятельство отмечалось достаточно часто. По утверждению Э. Кассирера, структурализм в лингвистике есть «выражение общей тенденции мышления, которая в последние десятилетия стала в большей или меньшей степени проявляться почти во всех областях науки»[104]104
Е. Сassireг. Structuralism in Modern Linguistic. «Word», 1945, vol. 1, No. 2, p. 120.
[Закрыть]. Видный чехословацкий филолог Я. Мукаржовский указывает, что понятие структуры имеет широкое хождение в современной психологии познания и во многих других областях современной науки. «Структурализм, – пишет он, – не мировоззрение, предвосхищающее эмпирические данные и выходящее за их пределы, и не просто метод, т. е. совокупность исследовательских приемов, применяемых только в одной области изучения. Это общий принцип, оправдавший себя в различных дисциплинах – в психологии, лингвистике, литературоведении, теории и истории искусства, социологии, биологии и т. д.»[105]105
J. Mukařovský. Strukturalism v estetice a ve vědě î literaturě. Kapitoly z České poetiky, I. Prague, 1941, str. 14–15.
[Закрыть].
В чем же заключается структуральный принцип? Ответ на этот вопрос стремятся (среди прочих ученых) дать французские философы Клапред и Лалланд. Первый из них пишет: «Сущность этой концепции состоит в том, что явления необходимо рассматривать не как сумму элементов, которые прежде всего нужно изолировать, анализировать и расчленить, но как целостности, состоящие из автономных единиц, проявляющие внутреннюю взаимообусловленность и имеющие свои собственные законы. Из этого следует, что форма существования каждого элемента зависит от структуры целого и от законов, им управляющих»[106]106
Vocabulaire technique et critique de la Philosophie. Paris, 1932. cм. статью под словом «forme».
[Закрыть].
Согласно Лалланду, термин структура употребляется ныне в науке «в специальном и новом смысле слова… для обозначения целого, состоящего, в противоположность простому сочетанию элементов, из взаимообусловленных явлений, из которых каждое зависит от других и может быть таковым только в связи с ним»[107]107
Там же, см. статью под словом «structure».
[Закрыть]. Один из пионеров лингвистического структурализма В. Брёндаль утверждает, что этот принцип уже прочно вошел в науку о языке. Приводя определение Лалланда, он пишет: «Именно в таком смысле Соссюр говорит о системах, где все элементы поддерживают друг друга, а Сепир – о модели лингвистических целых. Заслуга Трубецкого заключается в создании и разработке структуралистического учения о фонологических системах»[108]108
В. Брёндаль. Структуральная лингвистика. «Хрестоматия», стр. 415.
[Закрыть].
Изложенные соображения дают основания для отграничения всех трех понятий друг от друга и, в частности, общего научного принципа от методологии, с одной стороны, и от специального метода, с другой. Одно направление такого рода отграничения совершенно очевидно. Едва ли необходимы доказательства для утверждения того, что сравнительное, сопоставительное или историческое изучение явлений не есть собственно методологические категории. Другое дело, на что уже указывалось выше, что общий научный принцип в методологических заданиях может обусловливать соответствующий аспект изучения предмета. Так, методологическими категориями советского языкознания, так же как и других наук, являются категории диалектического материализма, а, например, сравнительно-исторический принцип обусловливает лишь тот или иной аспект изучения предмета. Совершенно при этом очевидно, что одна и та же методологическая основа допускает использование разных общих научных принципов. Если уж на то пошло, то сравнительное и историческое изучение есть уже комбинация нескольких научных принципов. Эту комбинацию можно, конечно, расширить и установить, например, типологически-сравнительно-исторический принцип[109]109
Называя сравнительно-историческое языкознание и дескриптивную лингвистику важнейшими разделами науки о языке, Г. Глисон, например, говорит о сотрудничестве этих двух научных принципов: «Методы обоих дисциплин в принципе очень близки. Они различаются между собой в основном отбором материала, подлежащего изучению. Точные методы изучения языка были впервые разработаны именно сравнительным языкознанием. Поэтому дескриптивная лингвистика в области методики многим обязана сравнительному языкознанию. В свою очередь, чтобы добиться лучших результатов от применения метода, сравнительное языкознание обращается к дескриптивной лингвистике за фактическим материалом» (Введение в дескриптивную лингвистику. ИЛ, 1958, стр. 447). О соединении разных научных принципов и их сотрудничестве см. также: A. Martinet. Linguistique structurale et grammaire comparé. «Travaux de l'Institut de linguistique», 1956, vol. 1, p. 7, его же. The Unity of Linguistics. «Word», 1954, vol. 10. No. 2–3.
[Закрыть].
На первый взгляд представляется более сложным провести разграничение между общим научным принципом и специальным методом. Но это обманчивое впечатление. Выше такое разграничение частично уже проводилось при разборе различий между сравнительно-историческим языкознанием и сравнительно-историческим методом. В дополнение можно привести некоторые общие соображения. В одном случае мы говорим об общем и не получающем конкретного выражения принципе, в другом – о совокупности конкретных рабочих приемов (специальные методы). Общий научный принцип может применяться ко многим наукам, а специальный метод потому и называется специальным, что он есть достояние одной науки. Например, ни метод лингвистической географии, ни метод внутренней реконструкции, ни собственно сравнительно-исторический метод не могут найти себе применения за пределами науки о языке. Правда, определенный научный принцип – будь то сравнительно-исторический или, структуральный – тесно связан со специальным методом, так как служит основой для системы исследовательских приемов и известным образом организует их. Не тот же структуральный принцип получает неодинаковое воплощение в системе рабочих приемов, например, в биологии или физике, с одной стороны, и в социологии или лингвистике, с другой стороны. Более того, один и тот же общий научный принцип даже в пределах одной науки может находить свое выражение в разных системах рабочих исследовательских приемов или в различных специальных методах. Это может происходить под влиянием как методологических установок, так и характера изучаемого материала. Так, структуральный принцип фактически воплощается в трех разных методических системах – глоссематики, функциональной лингвистики (Пражский лингвистический кружок) и дескриптивной лингвистики. Это разделение в значительной степени следует объяснять методологическими причинами. Но, с другой стороны, такие языки, как индейские языки Америки, которые «не имеют истории» (т. е. памятников, отражающих прошлые этапы их развития), исключают использование сравнительно-исторического метода. А такие изолированные языки, как японский или баскский, не имеющие генеалогических связей с другими языками, допускают историческое, но не сравнительное (в специально лингвистическом смысле) изучение. Здесь мы уже сталкиваемся с влиянием языкового материала на выбор метода.
Как уже указывалось, ни общий научный принцип, ни метод сами по себе не являются категориями методологическими. Но и специальные методы и общие научные принципы, однако, всегда соединяются с определенными философскими взглядами и по самому своему существу могут находиться в согласии с этими философскими взглядами, быть иногда более или менее нейтральными по отношению к ним или даже находиться в известном противоречии с ними. Наиболее целесообразным и наиболее способствующим научному исследованию следует признать такое положение, когда общий научный принцип и связанная с ним конкретная система рабочих приемов научного исследования (метод) находятся в согласии с методологией и следуют за ней.
В истории языкознания можно обнаружить разные типы указанных отношений. В частности, нередки случаи, когда между методологией и методом складываются обратные отношения, когда ведущим оказывается не методология, а метод, или, точнее говоря, когда метод поглощает методологию. Это имеет место в тех случаях, когда метод универсализируется и превращается в единственно возможный подход к изучению языка.
Так было, например, со сравнительно-историческим методом у младограмматиков, не мысливших себе в языкознании иных задач, кроме тех, которые возможно решить с его помощью. Именно в результате такого подхода исследовательская проблематика в области науки о языке чрезвычайно сузилась и фактически свелась к историческому изучению фонетики и морфологии, где только и можно было проследить действие фонетических законов и процессов аналогии. В соответствии с этим для младограмматиков язык рисуется только как психофизиологическое явление. Универсализация метода лингвистической географии в неолингвистике также привела к тому, что через его посредство стали определяться общие категории языка, что несомненно входит в компетенцию методологии. Отсюда и определение сущности языка, которое в неолингвистике фактически производится методическими средствами. «Называя изоглоссами, – пишет, например, В. Пизани, – элементы, находящиеся в обладании членов данной лингвистической общности в данный момент времени, мы можем определить язык как систему изоглосс, соединяющих индивидуальные лингвистические акты»[110]110
V. Рisani. Linguistica generale e indoeuropea. Milano, 1947, p. 13.
[Закрыть]. Посредством такого определения язык превращается в совокупность некоторых элементов (изоглосс), являющихся техническими приемами в методике исследовательской работы лингвистической географии. В наши дни основатель глоссематики Л. Ельмслев развивает на основе структурального принципа свое учение о методе, сущность которого он объясняет следующими словами: «…я со всяческой скромностью, но вместе с тем со всею твердостью подчеркнул бы, что считаю и буду считать… структурный подход к языку как схеме взаимных соотношений своей главной задачей в области науки». И несколько ниже уточняет: «…лингвистика описывает схему языковых соотношений, не обращая внимания на то, чем являются сами элементы, входящие в эти соотношения»[111]111
Л. Ельмслев. Метод структурного анализа в лингвистике. «Хрестоматия», стр. 423–424.
[Закрыть]. Язык, по его мнению, должен изучаться как «замкнутая в себе специфическая структура»[112]112
L. Нjelmslev. Ornkring sprogteoriens grundlæggelse. København, 1943, p. 19.
[Закрыть]. Разработанная Л. Ельмслевом исследовательская методика в идеале и должна привести к выведению формул чистых отношений, свойственных разным языкам. Эта методика, односторонне подчеркивающая характерные для различных языков структурные отношения его элементов и ничего, кроме этих отношений, не видящая, представляет сам язык в виде абсолютно бесплотного образования. Отрешенный от реальных форм существования, язык «чистых отношений» становится во всем подобным содержанию, выраженному математическими формулами.








