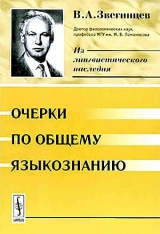
Текст книги "Очерки по общему языкознанию"
Автор книги: Владимир Звегинцев
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
По сути говоря, переход с одной языковой системы на другую, от одной языковой «картины мира» к другой аналогичен переходу от одной системы «мер» и их внутренних отношений к другой. Формы языка и мышления, свойственные им системы членений и объединений при этом меняются, но за ними стоит в основном единое реальное, понятийное и логическое содержание. И никаких новых идей, нового содержания форма языка и мышления в такой же степени не способна создать, как и разные системы мер – все сводится только к различиям в членении этого содержания. Единственно, о чем можно в этой связи говорить, это об особых «стилях» языка, в том смысле, в каком о них говорил Ш. Балли[420]420
Ш.Балли. Общая лингвистика и вопросы французского языка. ИЛ, М., 1955.
[Закрыть]. Рассматривая сопоставительно французский и немецкий языки, он видел характерные черты первого в большей аналитичности и абстрактности его структурных элементов, в то время как в немецком языке он подчеркивал его синтетические и феноменалистические тенденции. Но эти «национальные» особенности французского и немецкого Ш. Балли не связывал с различными типами духовного строя народов и их культурой, а искал их в корреляции фонологических и морфологических структур обоих языков. Так, типичный для французского порядок слов определяемое – определитель, противопоставляемый немецкому порядку определитель – определяемое, он соотносил с тенденцией французского языка к конечному ударению и с начальным ударением в немецком языке (ср. французское chapeau gris и немецкое grauer Hut). А это в свою очередь ставится в связь с предрасположением французского к открытым слогам и отсутствием в нем сложных фонем (аффрикат) и нисходящих дифтонгов в противоположность обратным тенденциям немецкого языка. Совершенно очевидно, что подобного рода «стилистические» особенности языков, покоящиеся на структурных отношениях их элементов, не могут обладать теми формирующими и руководящими качествами по отношению к «идейному содержанию», о которых говорит Уорф.
В марте 1953 г. группа видных американских лингвистов, антропологов, психологов и философов собралась на конференцию, чтобы всесторонне обсудить гипотезу Сепира – Уорфа и по возможности проверить ее на языковом материале[421]421
Материалы этой конференции собраны в сборнике «Language in Culture», вышедшем под редакцией Н. Hoijer. Chicago, 1954.
[Закрыть]. Один из докладчиков на этой конференции, Джозеф Гринберг, таким образом формулировал свое отношение к гипотезе: «Поскольку естественные языки не придумываются философами, а развиваются как динамичное орудие общества, стремящееся удовлетворить постоянно меняющиеся его потребности, не следует ожидать и, как подсказывает мне опыт, невозможно обнаружить существования некоей особой семантической подосновы, которая необходима семантической системе языка для того, чтобы отражать какое-то всеобъемлющее мировоззрение метафизического характера»[422]422
Цит. сб., стр. 18.
[Закрыть]48. Мнение о том, что ни о какой метафизике применительно к структурным особенностям языка не может быть и речи, в той или иной формулировке высказывалось и другими участниками конференции.
В процессе обсуждения отдельных аспектов гипотезы Сепира – Уорфа Джозеф Гринберг прибег к гипотетической ситуации, чтобы подкрепить свои рассуждения, приведшие его к вышеприведенному заключению. Допустим, говорит он, на луну попадают два человека, говорящие на разных языках. Они оказываются в совершенно новой обстановке, абсолютно отличающейся от земной, и дают ее описание каждый на своем языке. Если допустить, что язык формирует действительность, то тогда, очевидно, в этих двух описаниях перед нами должны возникнуть два различных мира. Сам Гринберг говорит по этому поводу следующее: «Моя точка зрения сводится к тому, что они (т. е. люди разных языков. – В. 3.) не в состоянии будут сказать одно и то же, если они говорят на различных языках, но это будет результатом различий в системах убеждений, а эти последние определяются не структурой языка, а общей культурной ситуацией и прошлой историей народов»[423]423
Цит. сб., стр. 136.
[Закрыть]. Подобная предположительная ситуация, действительно, дает повод для рассмотрения разбираемой проблемы с новой стороны. Мимоходом стоит, однако, заметить, что эта ситуация не настолько уж фантастична и (если не буквально, то в приближенном виде) многократно повторялась в истории человечества, так что она носит не только теоретический характер, но и обладает реальными практическими результатами. В качестве примера можно сослаться на описание арабскими путешественниками природы и обычаев скандинавских викингов, мир которых был для арабов, по-видимому, столь же чужд и необычен, как и лунный. И тем не менее описания, составленные на арабском и древнескандинавском языках, не представляют нам два различных мира. Мы легко узнаем в них одни и те же явления и события. Обратимся, однако, именно к теоретической стороне этой предполагаемой ситуации.
Она заставляет нас прежде всего делать строгое разграничение между содержанием языка и его структурой, причем это разграничение должно касаться преимущественно лексической и семантической сторон языка. К содержанию будет относиться вся та совокупность понятий о мире объективной действительности, которую приобрел тот или иной народ в процессе своего исторического развития. В содержании языка, иными словами, находит свое отражение культура народа и формы этой культуры. К структуре языка (если пока говорить о его лексической и семантической сторонах) относятся способы членения, классификации и объединения тех явлений и предметов объективной действительности, которые составляют содержание языка. Говоря словами Вайсгербера, структура языка и составляет особые в каждом отдельном случае «картины языка».
Возвращаясь к «лунной ситуации», мы должны признать справедливость не только общего вывода Гринберга, но и той части его суждения, где содержится утверждение, что люди разных языков «не в состоянии будут сказать одно и то же». Это, несомненно, так, однако при одной существенной оговорке: в той мере, в какой будет различаться содержание их языков, но независимо от структурного своеобразия последних.
Желая, например, дать представление о высоте какого-нибудь предмета, один может сказать, что он высотой с пальму, а другой измерит его высотой айсберга. Один будет измерять быстроту движения полетом чайки, а другой – полетом попугая или колибри и т. д. В данном случае мы будем иметь дело с теми же самыми явлениями, которые обусловливали видение разных «небесных картин» (созвездий): в одном случае битвы азов, а в другом – центавра. Но все это относится к содержанию языка, а речь идет не о нем, когда Вайсгербер и Уорф говорят о преобразующей силе языка, о его «метафизике». В этих случаях они имеют в виду именно структурные стороны языка.
При всем многообразии культур люди «земного мира» имеют столько общего, что они всегда в состоянии понять друг друга и составить правильное представление о предметах речи – об этом свидетельствует практическая возможность перевода с любого языка на любой. Во всяком случае, они находятся в среде одних и тех же реальных категорий пространства, времени и субстанции, которые в первую очередь имеет в виду Уорф. И вот эти-то категории и находят разное выражение в структурных элементах языков, в их грамматических категориях и свойственных им членениях и объединениях. И в этом, по уверению Уорфа, находит свое выражение «метафизика» языка, обусловливающая и особый способ видения действительности.
Поскольку у людей «земного мира» реальные категории пространства, времени и субстанции являются общими, а различно только их языковое (структурно-языковое) выражение, мы будем иметь ситуацию, в общих чертах и в своем принципе повторяющую положение о соотносимости разных систем мер (о чем была речь выше). Здесь также одни и те же реальные категории выражаются разными языковыми «мерами», т. е. особыми их членениями и системными объединениями.
Следовательно, располагая единым для обоих языков знаменателем, каковым является земная действительность, и зная, что все земные языки в конечном счете являются производными от этой действительности, мы вправе ожидать, что в описаниях необычной лунной обстановки, сделанной средствами разных в структурном отношении языков, мы будем иметь не два, а один мир. А различия культур будут различиями couleurlocale, вносящими своеобразную окраску, но не меняющими существа дела.
Употребляя аналогию, можно сказать, что две различные системы языков подобны двум различным системам денежных знаков, имеющим единое золотое обеспечение – их земную действительность. И так же как единое золотое обеспечение позволяет производить перерасчет с рубля на доллар и обратно, так и единая земная действительность позволяет по установленному «курсу» производить «перерасчет» логических ценностей, которыми орудуют языки, например с английского на язык хопи и обратно. Это и будет переходом из одного «круга» в другой, о чем говорил В. Гумбольдт и что послужило основой для теорий Вайсгербера и Уорфа. Но только у этих «кругов» не оказывается никаких магических качеств, никакой «метафизики», а есть лишь абсолютно естественные качества, поддающиеся научному объяснению и анализу в отношении как их становления, так и функционирования.
Все предыдущее изложение позволяет, таким образом, с уверенностью заключить, что языку никак нельзя приписывать преобразующих действительность свойств. Вместе с тем это изложение показало большую сложность проблемы отношений языка и мышления. Оно предупреждает против слишком прямолинейных решений данной проблемы, указывает на ее многоаспектность и многогранность. Именно поэтому ее рассмотрение нельзя считать законченным даже в очень общих чертах до тех пор, пока не будет исследовано другое направление взаимодействий языка и мышления, о чем говорилось в самом начале настоящего раздела. Под этим иным направлением разумеются формы влияния мышления на отдельные элементы языка. Как уже указывалось, в этом направлении необходимо выделить несколько конкретных теоретических задач.
Понятие и лексическое значение
В последние годы проблема отношения понятия и лексического значения заняла в советском языкознании видное место и послужила предметом многочисленных статей[424]424
Не намереваясь исчерпать список работ, посвященных проблеме отношений понятия и лексического значения слова, в качестве примера можно привести следующие статьи: А. И. Смирницкий. Значение слова («Вопросы языкознания», 1955, № 2); Л. В. Ковтун. О значении слова («Вопросы языкознания», 1955, № 5); Ф. Травничек. Некоторые замечания о значении слова и понятия («Вопросы языкознания», 1956, № 1); Е. М. Галкина-Федорук. Слово и понятие в свете учения классиков марксизма-ленинизма («Вест. Моск. ун-та», 1951, № 9); П. С. Попов. Значение слова и понятие («Вопросы языкознания», 1956, № 6); Д. Т. Горский. О роли языка в познании («Вопросы философии», 1953, № 2); Л. Г. Воронин. Понятие и слово в свете марксистско-ленинского учения о единстве языка и мышления (автореферат канд. дис. Киев, 1954); Л. Д. Бланк. К вопросу о слове, понятии и значении («Уч. зап. Орехово-Зуевского гос. пед. ин-та», 1955, т. II). См. также кн.: К. А. Левковская. Лексикология немецкого языка (Учпедгиз. М. 1956, стр. 24–45), где дается критический обзор различных определений лексического значения.
[Закрыть].
Язык – многостороннее явление. Как уже указывалось, он собран как бы из разных элементов. Звуковая сторона языка представляет нам его как физическое явление. Но речевые звуки произносятся человеком, т. е. рождаются в живом организме, и это позволяет связать язык с физиологией. Так как речь связана с высшими формами деятельности человеческого организма (образование так называемой «второй сигнальной системы»), то язык можно рассматривать и в психологическом аспекте. Но язык неразрывно связан с мышлением, мышление протекает в языковых формах, в системе языка фиксируются результаты познавательной деятельности человеческого мышления, и это обстоятельство дает основание утверждать, что категории мышления также получают свое отражение в системе языка.
Сложная, «сборная» природа языка, поворачивающегося к испытующему человеческому взору то одной, то другой своей стороной, привела к тому, что в разные периоды истории науки о языке он изучался то как логическая система, условно обозначаемая звуковыми комплексами, то как живой организм, то как индивидуальное психофизиологическое явление, то как одна из систем знаков и т. д.
Однако язык не механическое соединение всех этих элементов, легко распадающееся на них. Изучение языка может получить известную помощь и от физики, и от психологии, и от физиологии, и от логики, но мы никогда не постигнем подлинной природы языка, если будем изучать его как предмет каждой из этих наук и методами этих наук. Даже совокупные усилия названных наук не раскроют перед нами секретов природы языка. Язык – предмет самостоятельной науки – языкознания, или лингвистики, и изучается он специальными методами, ориентированными на специфические особенности языка.
Это происходит потому, что все элементы языка в своем объединении образуют особую, социальную по своему характеру структуру, сама организация которой (так же как и функционирование) подчинена определенным целям – быть орудием мысли и служить средством общения. Это значит, что какие бы элементы ни составляли структуры языка, как только они становятся ее компонентами, они обретают новые качества, которые определяются сточки зрения тех функций, которые выполняют эти элементы в структуре языка. Можно говорить, что они обретают при этом «качество структурности» (Strukturqualitдt).
Это не означает, однако, что, войдя в структуру языка, тот или иной элемент уходит из-под власти законов своей «первичной» природы и полностью отдает себя в подчинение своего нового господина и повелителя – структуры языка. Нет, «первичная» природа элементов языка сохраняет свою власть над ним, но и законы этой «первичной» природы элементов структура языка обычно реализует в своих целях, направляет на служение определенным функциональным потребностям этой структуры. Поясним сказанное примером.
Звуковая сторона языка образует его фонологическую систему. В фонологическую систему конкретного языка, во-первых, входят не все звуки, которые способен артикулировать речевой аппарат человека. Каждый язык как бы производит в этом отношении определенный отбор, и поэтому, хотя число фонем в разных языках может быть неодинаковым, оно для каждого языка в определенный период его развития строго ограничено. Язык «глух» по отношению ко всем тем речевым звукам, которые оказываются за пределами его фонологической системы. Для англичанина звуки русского языка, передаваемые буквами щ, ж или ы, не являются речевыми звуками, точно так же как английское th в звонком и глухом произношении – для русского. В случае необходимости язык истолковывает чужеродные звуки через качество фонем своего языка. Так, английское Theckeray и Plimouth превращаются в русском языке в Теккерея и Плимут.
Во-вторых, все фонемы каждого языка находятся в строгих системных отношениях друг с другом, в результате чего один и тот же по своим акустическим качествам звук, употребленный в фонетической системе разных языков и тем самым оказывающийся в разных системах позиционных чередований и нетождественных фонемных рядах, как языковое явление перестает быть «одним и тем же». Он обретает «качество структурности», превращающее его из простого звука, произнесенного речевым аппаратом человека, в характерный для данного языка звуковой тип, в фонему, облеченную определенной функцией – различать звуковую оболочку слов, связанных с определенным значением (в этом плане говорят также о смыслоразличительной функции фонем)[425]425
Р. Якобсон в докладе The phonemic and grammatical aspects of language in their interrelation говорит поэтому поводу: «Фонема принимает участие в сигнификации, не обладая своим собственным значением. Семиотическая функция фонемы в составе более высокой лингвистической единицы заключается в указании, что эта единица имеет иное значение, чем эквивалентная единица» («Actes du sixiиme congrиs International des linguistes». Paria, 1949, p. 8).
[Закрыть].
Но войдя в фонологическую систему языка и приобретая как член этой системы «качества структурности», речевой звук не отрешается от своих «физических» качеств, не уходит от их власти, а обращает их на службу новым целям. Все те дополнительные характеристики, которые речевой звук приобретает в конкретной фонологической системе, строятся не на основе только системных отношений как таковых, а наоборот, эти системные отношения строятся на реальных «физических» качествах данного речевого звука. Поэтому и фонологическая система языка – это не система чистых отношений, а система отношений материальных элементов со своими физическими качествами, находящими свое выражение во всех вариантах, разновидностях и формах фонем, характерных для данного языка[426]426
По этой же причине, надо полагать, невозможен разрыв между фонетикой и фонологией, представляющими, по сути говоря, разные аспекты изучения одного явления.
[Закрыть]. В таком же плане надо, очевидно, подходить и к решению проблемы отношения понятия и лексического значения слова.
Слово «понятие» употребляется в языкознании не в строго терминологическом смысле. Философы определяют понятие как «результат обобщения массы единичных явлений. В процессе этого обобщения мы отвлекаемся, абстрагируемся от случайных моментов, несущественных свойств и образуем понятия, которые отражают существенные, основные, решающие связи, свойства явлений, вещей»[427]427
«Краткий философский словарь». Госполитиздат, М., 1954.
[Закрыть]. Понятие – это отдельная мысль, выделяемая из состава суждения. Его важнейшей логической функцией является способность отражать в мысли более или менее полный итог знаний. «Понятие как итог познания предмета есть уже не простая мысль об отличительных признаках предмета: понятие-итог есть сложная мысль, суммирующая длинный ряд предшествующих суждений и выводов, характеризующих существенные стороны, признаки предмета. Понятие как итог познания – это сгусток многочисленных уже добытых знаний о предмете, сжатый в одну мысль»[428]428
«Логика» под ред. Д. П. Горского и П. В. Таванца. Госполитиздат, М., 1956, стр. 29–30.
[Закрыть].
Когда языковеды говорят о связях понятия со значением слова, то они обычно имеют в виду лишь обобщающую природу слова. Ведь знаменательное слово всегда обозначает определенную совокупность предметов, объединяемых по тому или иному признаку в определенный класс предметов[429]429
В данном случае и других подобных случаях слово «предмет» употребляется в ощефилософском смысле. Под ним разумеются не только собственно предметы, но и процессы, отношения, состояния и вообще вся совокупность явлений действительнсти.
[Закрыть]. Основываясь на этой обобщающей природе слова и сближая ее с одним из признаков понятия (оно есть результат обобщения массы единичных предметов), но не учитывая других существенных черт понятия (отражение в нем основных, решающих связей, свойств явлений и предметов, его итоговый характер, суммирующий ряд предшествующих выводов и суждений, и пр.), языковеды нередко ставят знак равенства между понятием и значением слова. «В большинстве слов, – пишет, например, Е. М. Галкина-Федорук, – значение и понятие совпадают, образуя единое логико-предметное значение, но такое явление наблюдается далеко не во всех словах. Например, все междометия понятий не образуют. Нет понятий как логических категорий и в некоторых местоимениях, и в словах-союзах, частицах»[430]430
Е. М. Галкина-Федорук. Слово и понятие в свете учения классиков марксизма-ленинизма «Вестн. Моск. ун-та», 1951, № 9, стр. 124–125; Ф. Травничек. Некоторые замечания о значении слова и понятия. «Вопросы языкознания», 1956, № 1. Автор доказывает, что понятия содержатся и в междометиях.
[Закрыть].
Такое отождествление, разумеется, едва ли можно признать правомерным. Слово действительно служит основой для осуществления процесса обобщения, и в данном случае язык (или, точнее говоря, элементы языка) показывает нам наглядным образом, как он выполняет свою функцию орудия мысли. Но сам этот процесс обобщения протекает не в тех формах, в каких осуществляется логическое суждение, и в своих конечных результатах очень часто не может претендовать на приложимость к нему совокупности тех перечисленных выше признаков, которыми характеризуется понятие как логическая категория.
Возьмем для примера самое обычное слово – стол и посмотрим, как в нем проходил процесс обобщения, какие классы предметов оно объединяет в своем значении и на какие существенные, решающие связи и свойства опирался этот процесс обобщения. Этимологические данные свидетельствуют, что оно изначально связано со словом стлать и первоначально обозначало собственно некое место, на котором «расстилалась» еда (ср. диал. столечник – «скатерть»). Так как еда обычно накрывалась на возвышенном месте, то этим словом стали в дальнейшем обозначать всякого рода возвышенные места (причем в прямом и переносном смысле). Ср. престол – «трон», «княженье», «епископская кафедра», «алтарь в церкви» (также стольный град – «столица», стольник – дворцовая должность). Словом стол обозначали и определенного вида мебель – определенный класс предметов, также обладающий своими признаками. Но за столом едят, и поэтому стол это также и еда («диетический стол») – уже другой класс предметов и также со своими признаками. За столом выполняют также и работу, поэтому возникают адресный стол, стол заказов и пр. – новый класс предметов со своими признаками. Самое замечательное при этом то, что разные значения слова стол (так же как и многих других) сосуществуют в нем одновременно. Сам процесс обобщения идет, следовательно, в слове зигзагообразно, переходит от одного класса предметов к другому, перегруппировывает и объединяет их по-разному в разные исторические периоды жизни слова и т. д. Чем же объясняется такой зигзагообразный путь процесса обобщения в слове – только ли особенностями логического суждения? И можно ли при этих условиях говорить о тождественности значения слова и понятия?
Прямого уподобления здесь, конечно, нет, но между значением и понятием не может быть и разрыва. Каким бы извилистым ни был путь обобщения в слове и какими бы причинами ни была вызвана эта извилистость (об этом ниже), это все-таки процесс обобщения, на основе которого происходит и формирование логического понятия. Понятие как логическая категория, как итог знаний о предмете, как сложная мысль, суммирующая длинный ряд предшествующих суждений и признаков, как отражение существенных, решающих признаков и свойств предмета – это целеустремленное и логическое оформление того процесса обобщения, который как бы «стихийно» совершается в слове в силу его обобщающей природы.
Входя в структуру языка, понятие обретает новые качества, которые придает ему эта структура; оно получает «качество структурности», которое проводит существенное разграничение между ним как логической категорией и как компонентом языка. Происходит то же самое, что и со звуком, который превращается в элемент языка – в фонему. Просто звук, произведенный речевыми органами человека – это только физическое (или физико-физиологическое) явление, но как элемент фонологической системы языка, как фонема он – структурная его часть и приобретает новые качества, которые превращают его в лингвистическое явление. Точно так же и понятие, войдя составным элементом в структуру языка – в лексическое значение слова, перестает быть логической категорией и превращается в лингвистическое явление.
К чему же сводятся различия между понятием, как логической категорией, и его лингвистическим воплощением? Какие новые качества, обусловливающие переход логического явления в лингвистическое, придает понятию структура языка? И как в подчинении у нового властелина – структуры языка – понятие реализует в лингвистической плоскости свою «первичную» природу (как это имеет место в случае с фонемой)? Вот круг вопросов, которые имеют прямое касательство к проблеме отношений понятия и значения слова.
Различие между понятием и лексическим значением слова заключается в том, что в формировании первого принимают участие, так сказать, две силы: предмет и мышление, а в формировании второго – три силы: предмет, мышление и структура языка.
Но ведь мышление (понятийное) всегда протекает в формах языка. Каким же образом оказывается возможным исключить языковой фактор при образовании понятий? Этот вопрос частично затрагивался в предыдущем разделе, и из того, что там по этому поводу было сказано, явствует, что если только допустить в данном случае примат фактора, представляющего структурные особенности языка, то это значит неизбежно признать наличие национальных своеобразий в понятиях, влияние структуры языка на самый процесс познания мира и, следовательно, присутствие в языке тех метафизических качеств, о которых говорил Уорф. Однако ничего подобного в действительности нет.
Как происходит формирование понятий? Возьмем для наглядности несколько упрощенный случай, намеренно сблизив его с образованием «значения» слова.
В своей практической деятельности человек сталкивается с рядом предметов, обладающих внешним сходством и общностью назначения или использования. Выявление в этих предметах указанных общих черт есть мыслительный процесс обобщения определенных признаков, устранения случайных моментов и выявления основных, решающих. Имея дело, например, со столами, мы отвлекаемся от того, что столы бывают маленькие и большие, с тремя, четырьмя или шестью ножками, с ящиками или без ящиков, кухонные, столовые или письменные и т. д. Мы выявляем только некоторую и общую для всех столов совокупность признаков, на основании которых и подводим определенные предметы под категорию «стола». А этот процесс установления общих признаков, отвлечения от случайных, выявления единой категории предметов даже и в этом упрощенном случае есть сложный мыслительный процесс, связывающий ряд мыслей, суммирующий многочисленные наблюдения, сопоставляющий и разъединяющий их; иными словами, это есть процесс суждения. И такой процесс суждения протекает, конечно, всегда в формах языка, опираясь на них. Но, будучи сложной мыслью, он строится в виде развернутых предложений и, конечно, не может протекать в пределах одного единственного слова стол. Само возникновение этого слова в языке есть фиксирование результата сложного суждения, итог познания предметов данной категории, который, будучи закреплен определенным словом, обогащает язык и поступает в распоряжение данного общества для дальнейшего использования наравне с другими, уже существующими в нем лексическими элементами. Как видно, без языка и в данном случае никак нельзя обойтись. Но в формировании логического понятия язык не непосредственный «участник» разыгрывающегося действия, а только «обслуживающий персонал», обеспечивающий это действие. Иными словами, он есть только средство, орудие мысли, но не ее содержание (или какая-то ее часть содержания).
Важно при этом отметить, что построение сложной мысли может проходить в формах разных языков, но это не может препятствовать тому, что в конечном счете возникает один и тот же итог, т. е. формируется одно и то же понятие. Структура языка в данном случае не может играть какой-либо ведущей роли. Ведь в Москву можно приехать и поездом, и самолетом, и даже на верблюде, а характер Москвы как конечной цели поездки от этого не изменится.
Не менее важным является и другое обстоятельство. Формирование понятия в длинной цепи суждений протекает в языковых формах, но это понятие как итог познания предмета не обязательно фиксируется единым словом, хотя сама обобщающая природа слова создает очень удобную основу для этого и потому широко используется для этой цели. Так, открывая «Краткий философский словарь», мы сталкиваемся в нем с такими названиями отдельных его статей: «Пережитки капитализма в сознании людей», «Переход количественных изменений в качественные», «Материалистическое понимание истории» и т. д. Все это – понятия, хотя они и не закреплены единым словом, и уж, конечно, никакая структура языка не оказала влияние на их формирование. Понятие может быть выражено описательным образом и более многословно (особенно когда оно находится в процессе становления), его истолкованию и изложению может быть посвящена даже целая книга.
Но обычно, и в частности, в науке мы прибегаем в подобных случаях к фиксированию даже и очень сложных понятий единым словом: сенсуализм, спиритуализм, телеология, теогония, теизм, феномен, фетишизм и т. д. Это уже отдельные слова, но особого порядка. Это термины, и их особенность заключается в том, что они не обладают тем, чем обладают обычные слова – лексическим значением. Их «значением» является научное понятие, на жизнь которого, изменение и развитие система языка не оказывает прямого влияния. Они развиваются и изменяются вместе с развитием и изменением науки, которую обслуживают. Так, например, термин атом у философов классической древности покрывал собой одно понятие, которое с развитием физики многократно видоизменялось, прежде чем стать таким, каким оно является в современной физике. При этом никакой, конечно, язык не оказывал никакого влияния на изменение понятия атома, а следовательно, и его значения. Используясь во множестве языков, этот термин (и ему подобные) оказывается как бы вне языка. Особая природа чистых терминов наделяет их независимостью по отношению к тем обязательствам, которые структура языка накладывает на свои элементы. Они вместе с тем с наибольшей ясностью и наглядностью показывают, что в формировании понятия, как логической категории, действительно участвуют только две силы: предмет и человеческое сознание (см. раздел «Элементы знаковости в языке»).
Но в языке во множестве существуют и слова двойственной природы. Это такие слова, терминологическое значение которых складывалось по сходству или на основе лексического значения обычного слова. Таковы, например, слова корень, основа, перенос, подъем, такт, приставка и пр. Эта категория слов напоминает двуликого Януса, который глядит в разные стороны. Так, например, слово корень в терминологическом смысле может быть основной частью слова без приставок и суффиксов (лингвистическое понятие) или величиной, которая при возведении в определенную степень дает определенное число (математическое понятие), но, с другой стороны, оно может употребляться в своих лексических значениях, т. е. в смысле вросшей в землю части растения (дуб глубоко пустил корни в землю), места соединения отдельных органов с телом (корни зуба, корень языка и пр.), начала или происхождения чего-либо (корни зла, корни крепостного права) и т. д. Степень близости между терминологическим и лексическим значением у слов этой категории может быть различной: от бесспорных омонимов (ср. например, башмак – как род обуви и как вид тормоза, применяемого в железнодорожном транспорте) до таких случаев, когда линия разделения терминологических и лексических значений очень неясна (ср., например, значения, которые «Толковый словарь русского языка» под редакцией Ушакова дает для слова жизнь: 1. Существование вообще, бытие в движении и развитии. Жизнь мира. Законы жизни. 2. Состояние организма в стадии роста, развития и разрушения. Жизнь человека. Жизнь растений. 3. Время от рождения до смерти человека или животного. В течение всей жизни. Раз в жизни. 4. Развитие чего-нибудь: события, происходящие с чем-нибудь существующим. Переломный момент в жизни государства. 5. Совокупность всего сделанного и пережитого человеком. Жизнь Ленина – неустанная, кипучая работа. 6. Деятельность общества и человека во всей совокупности ее проявлений. Жизнь есть борьба и труд. 8. Уклад, способ существования, времяпрепровождение. Городская жизнь. Праздная жизнь. 9. Энергия, внутренняя бодрость. Жизнь так и кипит в нем и т. д.). Надо отметить, что категория подобных слов двойственной природы очень обширна, а типы взаимодействий и связей их терминологических и лексических значений многообразны, хотя и совершенно не изучены. Но недоучет особенностей этой категории слов часто приводит к большой путанице при определении отношений, существующих между понятием и лексическим значением.
Наконец, имеется категория так называемых «обычных» слов (и они-то и рассматриваются в первую очередь, когда речь идет об отношениях понятия и значения слова), т. е. слов, лишенных терминологических значений и обладающих только лексическим значением. Характерной особенностью этой категории слов является то, что развитие их лексического значения, которое также основывается на процессе обобщения, всегда протекает в пределах одного и при этом определенного слова, т. е. слова данного языка со всеми особенностями его лексической системы и существующими в ней внутренними смысловыми отношениями. Это обстоятельство вносит весьма существенные коррективы и в самый процесс обобщения. Эти коррективы обусловливаются тем, что процесс обобщения, составляющий основу образования понятия, протекает в данном случае под контролем структуры языка, подчиняется господствующим в данной структуре лингвистическим закономерностям и, таким образом, «первичная» природа понятия подчиняется потребностям языковой структуры. Понятие получает «качество структурности» и из логической категории превращается в лингвистическую.








