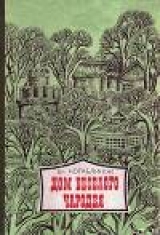
Текст книги "Кольцо художника Валиади"
Автор книги: Владимир Кораблинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Глава тринадцатая
«Вот, Лизушка, – безмолвно говорил Валиади, – жалко, что не знавала ты незабвенного нашего Архипа Иваныча… Ах, какой же был красавец этот человек! Красота – ну как бы это сказать – просто лучами от него исходила. В ту пору фамилия Куинджи как зоревая звезда сияла. Но какая-то дымка таинственности, что ли, окутывала его. Он в то время уже нигде не выставлялся, жил отшельником, и что делалось у него в мастерской, одни мы, его бывшие ученики, знали. Да и то не все, а только любимчики. Не хвастаю, ей-ей, нисколько не хвастаю, – и я считался в их числе. Я был тогда молодой и ужас какой здоровенный, с меня мой друг, Валерьян Глебов, Ваську Буслаева писал, – можешь себе представить…
Еще в Академии сколотилась у нас коммуна: Глебов, Кениг – да, да, тот самый знаменитый Кениг, Прасолов Алеша – изумительно он небо писал! – Кустов и я. Вместе мы, впятером, мастерскую снимали на Васильевском, вместе на этюды ездили, касса, конечно, у нас общая была. Всегда пустая, к сожалению. Но какие планы, какие гомерические замыслы у нас роились! Ты, Лизушка, и представить себе не можешь…»
Валиади засмеялся. Мало похожее на смех, какое-то хриплое карканье вырвалось у него из горла. И идущие рядом оглянулись.
– Братец! – тронув Валиади за локоть, сказал небритый старик. – Бог вам, братец, послал сей крест… Но ведь он же, всемилостивый, и укрепит вас.
Валиади сердито поглядел на старика. «Где я его видел? – подумал. – Страшно знакомое лицо!»
– Вы, милый брат, – все еще держась за локоть художника, продолжал старик, – вы и представить себе не можете, сколько у него милости…
– У кого? – отрывисто спросил Валиади.
– У того, кто послал нас с вами в сей путь тернистый… Кто есть высшая точка человеческого разумения, кто не только в радости, но и в скорби пребывает с нами!
«Чего он пристал ко мне? – поморщился Валиади. – Неужто заметил?»
– Ах, да, простите, – сказал он, так только, чтобы сказать что-нибудь назойливому старику, и зорко оглядел тележку. Там все было исправно – подушка, одеяло; вот разве чересчур привалилась Лизушка к правому борту.
И Валиади повел тележку, легонько и незаметно встряхивая ее налево, стараясь толчками придать телу жены естественное положение. Он взмок от усилий, но добился чего хотел, однако от тряски чуть-чуть сползло одеяло и Лизушкина голова показалась – голубой чепчик, седая прядь волос, лоб. «Ничего, ничего, – соображал Валиади, – этак, может быть, даже и лучше, натуральнее…»
«Верно, Лизушка? – спросил он. – Как-нибудь да уж перехитрим мы их с тобою! Ты извини, что я рассказ свой оборвал: привязался старик этот… Где же все-таки я его видел? Ну, да бог с ним, давай про нашу коммуну лучше.
Страшно нам всем хотелось тогда пожить в Крыму, у моря, этакой, знаешь ли, первобытной жизнью. Мы даже сны крымские стали видеть – солнце, море, горячие камни… А у меня в этих снах еще и музыка звучала какая-то изумительная. Ах, если б ее записать! Понимаешь, море набегало на мелкие разноцветные камешки, и получалась музыка, и я ею, как Петя Ростов, – помнишь? – дирижировал: громче, тише… или – греми! греми!
Но сны снами, а деньги? Их-то и не было.
Я, правда, тогда уже продал свою дипломную «Из варяг в греки», да что мне за нее дали? Гроши. Так в мечтах, в сновиденьях, жил наш Крым – море, солнце. А в Питере – зима, снежище, мороз – лютый декабрь! И вдруг перед самым рождеством, в сочельник, вваливается как-то Алеша Прасолов, тащит елку. Вот, Лизушка, гениальный мужик был! Подумай, елку приволок!
Ну, разумеется, закипела работа: клей, ножницы, цветная бумага… Пол даже помыли в мастерской, чего, по совести сказать, никогда не делали, и вот вечером у нас чисто, тихо, свечи зажгли на елке, – ну, праздник, одним словом… И, знаешь ли, какое-то дивное чувство, какое-то детство в нас самих, как эти красненькие и голубенькие свечечки затеплилось. Сидим тихонечко и словно бы деда Мороза ждем.
И, можешь себе представить, тут-то и начинается фантастика, что-то вроде Гофмана, что-то совсем уж как в рождественском рассказе… Часов в десять распахивается дверь, и на пороге – кто бы ты думала? А? Вот уж не угадаешь – он! Он, наш кумир, наш волшебник, Архип Иваныч! Коренастый, с львиной головой, снег на шапке, на бороде, на воротнике бобровом, ну, Санта-Клаус, да и только! И весь пакетами увешан… «А! – говорит. – Да у вас елка! Ну что же, тем лучше!» С этими словами кладет под елку пять пакетов и исчезает.
Как в сказке.
Ну, это для красного словца, разумеется. Исчез-то он довольно обыкновенно: подошел к двери, отворил ее – и был таков! Но потому, верно, что все это так неожиданно вышло, нам показалось, что он не ушел, а вот именно, исчез! Первым, помнится, пришел в себя Кениг: немец все-таки, в нем всегда здравый смысл преобладал. «Милорды, – говорит, – а ведь это, кажется, не сон. Я, – говорит, – вон мокрые следы вижу на полу». Кинулись мы к пакетам – батюшки! Подарки! На каждом надпись: Кенигу, Прасолову, Валиади, – все, все перечислены, никто не забыт! Кустову – музыкальную шкатулку (он очень всякие органчики любил – трам-блям, клюм-блюм), Кенигу – полишинеля почему-то – в колпачке, с бубенчиком… Мне – целая куча вятских барынь, коней, петухов, – знал старик мою слабость к вятской потешке-куколке… Но самое замечательное – это что при каждом подарке был конверт, а в нем – сотенная бумажка, «катеринка», как их тогда называли… Ну, тут уж мы, должен тебе сказать, совсем обезумели. «Крым! – кричим. – Крым! Море!» Да такую топотню подняли, что на елке свечи стали гаснуть!»
Валиади снова хрипло каркнул. И снова возле него оказался небритый, длинноволосый старик и своими пустыми, дребезжащими словами оборвал задушевный разговор.
– Не углубляйтесь в себя, братец, – вкрадчиво, словно не говорил, а пел. – Давайте-ка, братец, разделим несчастие ваше, вам легче станет…
«Да где же, черт возьми, я видел эту ханжескую образину? – опять пытался вспомнить Валиади. – Этот липкий, медовый голос, это смиренное выражение лисьей мордочки?»
– Знайте, братец, – разливался старик, – знайте, что есть рука, которая всегда вас поддержит… Да и что такое смерть? А, братец? Не есть ли она всего лишь переход человека из состояния духовно несовершенного в наивысшее, наипрекраснейшее, я бы сказал, состояние?
«Знает, догадался, лисья рожа! – с ненавистью поглядел Валиади на старика. – Это, верно, ему та горбатенькая сказала… Но вот что: ему, кажется, нравится роль утешителя и наставника. Отлично. Надо притвориться, будто я его принимаю всерьез. Иначе обидится и может донести».
– Да, да, вы правы, конечно, – согласился Валиади. – Благодарю вас.
– А ведь как это просто, братец! – возвеселился старик. – Как божественпо просто! А? Из несовершенного – в наипрекраснейшее! Подумайте-ка: вот нам с вами тяжело, мы мним себя в горести, плененными врагами мним… А ей, – он кивнул на тележку, – ей все – братья, и нет ни пленения, ни врагов! Да полно, братец, и в самом деле, давайте подумаем: пленение ли это? И те люди, что направляют нас с вами на запад, – враги ли они нам? А не совершается ли с нами сейчас переход в наивысшее, в наипрекраснейшее…
Старик не договорил. Впереди, где виднелась полуобгоревшая дорожная казарма, раздались крики конвоиров, хлопнул одинокий выстрел. Ряд за рядом останавливались люди, еще не понимая, что им приказывают. Наконец передние стали сворачивать с дороги в степь.
И тогда, в той стороне, куда стремительно убегало шоссе, Валиади увидел чистый, во все небо, чуть красноватый закат, яркую вечернюю звезду над ним и понял, что нынешний тяжкий день окончен и что здесь, у черной казармы, будет ночлег.
Глава четырнадцатая
За казармой оказалась довольно глубокая, поросшая бурьяном котловина. Чтобы ловчее было караулить, немцы согнали в нее людей, и в яме сделалось тесно, как в тюремной камере.
Всем хотелось пить, и люди стали кричать: «Воды давай!» Но конвоиры не обращали внимания на крики. Сойдясь на краю ямы, они курили, разговаривали, смеялись. Вскоре послышался треск мотоцикла. К солдатам подкатил тот, с разноцветным лицом, немец, который говорил по-русски и, видимо, был у них за главного. Он слез с машины и некоторое время молча разглядывал пленных. Затем крикнул:
– Внимание! – и правильно, старательно выговаривая русские слова, сказал: – Никто не должен выходить из убежища. Часовой имеет распоряжение стрелять во всякого, кто. попытается это сделать. Понятно? Сейчас вы будете иметь воду.
Он повернулся к солдатам, что-то сказал им и, оглушительно стреляя мотором, укатил.
Конвоиры принялись водить пленных к колодцу небольшими группами, по восемь-десять человек. Колодец оказался мелкий, и вода в нем была плохая – желтая, отвратительно пахнущая керосином. Однако и такую очень скоро вычерпали до грязи, и приходилось подолгу ждать, пока она снова набежит.
Между тем стало темнеть, небо покрылось наволочью, минутный дождик пролетел, пошуршал в бурьяне. И, хотя далеко еще не все успели запастись водой, конвоиры, очевидно побоявшись наступившей темноты, перестали водить людей к колодцу.
К полуночи заметно похолодало. Несколько раз налетал такой же, как вечером, шальной дождь, но ветер стремительно гнал тучи и не давал ему разойтись. В яме было тихо. Кое-как примостясь, тесно прижавшись друг к другу, тяжелым, болезненным сном спали утомленные люди.
И лишь один Валиади не спал.
Когда стало так темно, что конвойный сверху уже не мог разглядеть, кто чем занимается в яме, Валиади приоткрыл Лизушкино лицо. Сперва он смутно различил одно лишь белое пятно, но понемногу глаза привыкли к темноте, стали угадывать черты лица – брови, чуть приоткрытый рот, прядь волос на лбу. Валиади присел на край тележки в ногах жены, точно так, как сиживал он много раз, когда она лежала дома.
Свистел ветер, время от времени швыряя на спящих обломки сухого бурьяна, пригоршни песку… Иногда кто-то глухо кашлял наверху. «Наверно, часовой», – подумал Валиади и сразу так ясно, так отчетливо представил себе всю нелепость происходящего, что вздрогнул даже. В самом деле, какая несуразица – и в том, что Лизушка умерла, и что он и несколько сотен других людей загнаны в эту яму, и что наверху, в самом сердце России, по родной русской земле ходит невесть откуда пришедший чужой человек – часовой! Но самое несуразное, самое отвратительное было то, что этот чужой человек имел кем-то данное ему право не выпускать людей из ямы и безнаказанно убивать их, а люди безропотно ему подчинялись и покорно ждали своей участи. И он, Николай Валиади, старый русский художник, никогда и ни перед кем не ломавший шапки, ни разу за всю жизнь не покрививший душой, – он тоже загнан вместе со всеми, и неведомый немецкий солдат сторожит его и может что угодно приказать и даже убить!
Все эти мысли, как столб пламени из-под рухнувшей крыши горящего дома, вырвались разом и ярко осветили тот душевный мрак, в котором все последнее время блуждал Валиади. И ясное утро в тихом переулочке вспомнилось ему, глухой Дрознесс со своими красными и оранжевыми георгинами… и старая береза, так, сдуру, поваленная тупым и злобным Эльясом…
И он окончательно понял, что должен сделать, и сделать не откладывая, сегодня же, пока не забелеет рассвет. Ему стало легко и ясно. Он весело улыбнулся и, поглядев в темноту, хитро подмигнул кому-то.
А там, наверху, табунились черно-серые тучи, ветер все яростнее, все злее посвистывал да в непроглядной тьме все надрывней, все чаще кашлял простуженный часовой.
Глава пятнадцатая
«Ну, Лиза, – сказал Валиади, – скоро, видно, мы расстанемся. Вот доскажу тебе про крымское лето и пойду. Ничего, Лизок, не поделаешь, должен пойти, А ты лежи. Тут тебе хорошо, затишно…»
С удивлением почувствовал, что хочет есть. Да так хочет, что прямо дрожь пробирает. Такие внезапные приступы голода с ним случались. Сидит, бывало, в мастерской, работает, увлечется, ничего, кроме работы, не видит, не чувствует и вдруг – вскакивает, несется на кухню, рыщет в столе, в шкафу и с жадностью, с наслажденьем съедает все, что под руку попадется.
В темноте стал он шарить возле себя, ища мешок, задел рукой кого-то, кто-то сонно замычал, приподнял голову, и, пробормотав: «Ох, боже ты мой!» – опять заснул. «Черт! – выругался Валиади. – Где же мешок?» Наконец нащупал его под тележкой, развязал, вынул сухари. Они оказались словно каменные, их надо было бы размочить, и Валиади пожалел, что не сходил за водой. Небритый-то целый чайник притащил и предлагал ему, а он, чудак, отказался: час назад ему и в голову не приходило, что так захочется есть. «Да термос-то!» – внезапно осенило. Горячий чай, сухари, – необычайно вкусной показалась ему еда, но в то же время и стыдно сделалось перед женой.
«Извини меня, Лизушка, за эту чертову мою прожорливость! – виновато сказал. – Я ей и сам не рад… Впрочем, знаешь что? Я буду есть и рассказывать, хорошо? К чертям эту ночь, эту дурацкую яму, куда нас, словно овец, загнали на ночевку! К чертям всю ту нелепицу, что произошла сейчас в нашей жизни! Пусть ничего этого не будет, а только солнце, деревья, камни и море, море… изумительное, огромное, зеленовато-голубое… Смешно, кощунственно говорить так о природе, а скажу: у моря, Лиза, цвет ненатуральный, химический какой-то, анилиновый, честное слово! Впрочем, извини, я опять в сторону сбиваюсь… Крым! Все было в нем потрясающе: небо, горы, лесные заросли, нагромождение горячих, ну просто раскаленных камней, умопомрачительная масса воды, яростное солнце, которое так жгло, что иной раз казалось, будто оно шипит, ей-богу! Черт знает что!
Мы, разумеется, убежали от дач, от курортов, набрели на какую-то пещеру в горах, в непроходимой чаще орешника, и стали там жить так, как, вероятно, жили люди, впервые познавшие огонь. Мы ходили голыми, обросли бородищами и до того продубились, просолились от купания, что лизнешь руку – соль! Чистая соль, честное слово! И писали, писали без конца… да как! Помнишь, этюд у меня в мастерской над дверью – «Камни»? Ты еще как-то сказала, что он и ночью светится? Это я там написал.
А пещера!
Уверяю тебя, тысяч за десять лет до того, как мы туда ввалились, в ней жили люди с каменными топорами. Голову даю на отсеченье – жили! И так же, как мы, ночами жгли костры, слушали море, а когда всходило солнце, орали от восторга, от счастья… Что? Мы? Ну, само собой, и мы тоже орали. Прасолов называл эти наши вопли гимном восходящему солнцу…
Ты, Лиза, верно, ждешь каких-то приключений, необычайных событий. Нет, милая, ничего этого не было. Одно разве только, что к концу лета напала на меня хворь – черт ее знает, что за хворь! – мы тогда всякую лихорадку инфлуэнцей называли. С неделю отвалялся я в пещере. Ах, какие виденья у меня в бреду возникали! Звери, боги, чудовища, цветы… Но одно повторялось бесконечно: будто лежу я, втиснутый в горячую каменную расселину, прячусь, что ли, а надо мной со злобным лаем, на бешеном скаку проносятся вытянутые в струнку черные, тощие, длиннотелые псы… один за другим, один за другим!
Представь же себе мое изумленье и даже страх, – да, да, Лиза, страх, клянусь тебе! – когда однажды утром я увидел этот мой кошмар, этих скачущих псов возле себя – в пещере, наяву! А? Поверишь ли? Дело было ранним утром, я уже проснулся, но лежал с закрытыми глазами. Лихорадка кончилась, всю ночь я потел ужасно и спал, спал… Проснулся от шороха, от чьего-то шепота: это мои товарищи отправлялись на этюды. А мне лень было открыть глаза и было чудесно, хорошо.
Наконец товарищи умолкли, ушли. Я слышал шум их шагов, треск сучьев, слышал, как сорвался камень с крутизны, покатился вниз. А вскоре взошло солнце. Это я понял потому, что в темных закрытых веках вдруг сделалось ярко и розово. И я повернулся на бок, собираясь опять уснуть, но почему-то чуть-чуть приоткрыл глаза. Я лежал, уткнувшись лицом в земляную, нет, правильнее, пожалуй, сказать – в каменную стену. Перед моими глазами был бугристый красноватый камень. Его пересекала длинная трещина, по которой полз крошечный жучок с темно-зеленой, чуть золотистой спинкой. Лениво следил я за ним: вот он ушел в глубь трещины, вот вылез из нее, снова исчез и вдруг остановился, забавно зашевелил усиками. И там, где он остановился, я увидел длинное, черное, вытянутое тело скачущей собаки! Крошечная, с ноготь, но точно, точно такая же, как в бреду! «Ну, опять начинается», – подумал я и закрыл глаза. Собака исчезла, и я сразу уснул.
Проспал я очень долго; когда проснулся, было уже близко к вечеру, – я это определил по цвету неба в отверстии пещеры, да, кроме того, дымком тянуло и слышались негромкие голоса моих товарищей. Они, видно, вернулись с этюдов и готовили похлебку. Я вспомнил про зеленого жучка и черную собаку и искоса глянул на трещину. Представь себе, Лизушка, жучок исчез, а собака была на месте! Она, видимо, застряла там… Тогда я взял спичку, осторожно поковырял в трещине, и оттуда вывалилось колечко… Оно изображало двух гонящихся друг за другом псов. Да, да, Лиза, это было то самое железное колечко, которое тебе хорошо известно, которое я носил всю жизнь, да оно – вот видишь – и сейчас у меня на указательном пальце!
Потом… ну, потом я выздоровел, и мы еще долго, почти до самой зимы, бродили по Крыму. И однажды видели Льва Толстого. Опустив голову, задумавшись, он ехал верхом на отличной вороной лошади. Мы сошли с дороги и низко-низко ему поклонились, а он улыбнулся, приподнял белую пуховую шляпу и ответил нам таким же преувеличенно низким поклоном. Было похоже, будто он нас передразнил, ей-богу!
Вот и все, что со мной случилось в Крыму. Но все это – солнце, море, раскоряченные сосны, Куинджи, колечко, этюды, Толстой, наконец, – все, все воедино слилось во мне, как праздник, как радостное ощущение моей милой родины, как удивительная крепость жизни… И таким теплым, таким ярчайшим светом были полны эти впечатления, что, веришь ли, всю жизнь я согревался ими… они меня как бы электричеством заряжали. Да и сейчас вот заряжают! Я чувствую себя сильным, ничто не остановит меня. Это – вдохновение. И я иду…
А ты лежи тут, не жди меня, я, возможно, и, не вернусь. Прощай!»
Глава шестнадцатая
А часовой все кашлял, глухо, словно в бочку бухал: он, видимо, не на шутку простудился. И по этому-то кашлю очень легко было определить место, в котором он находился.
Добравшись до верхнего края котловины, Валиади замер и прислушался. Кашель сначала удалился направо, потом, после долгой паузы, вдруг бухнул над самой головой, потом пошел налево. Расстояние между правой и левой точками было примерно метров тридцать – сорок.
Ветер бесновался, не утихал; внизу было куда тише. «Отлично! – подумал Валиади. – Дуй, ветер! Свисти… Я вот только передохну малость, мешкать, брат, нечего: дело к рассвету…»
И верно, тучи ли стали легче, прозрачней, или глаза привыкли к темноте, – только Валиади показалось, что ночь сделалась светлее. Притаясь за кустами огромных лопухов, он сидел, отдыхал, слушал, как ветер свистит, как покашливает часовой.
Мысль о том, что сейчас ему придется убить человека, что это ужасно и уж никак не вяжется с его вегетарианством, – мысль эта и в голову не приходила. Нет, он просто чувствовал себя работником, которому нужно справить заданное дело, и справить хорошо, добросовестно. Но как он будет это делать, он не знал, не представлял себе. При нем не было ни ножа, ни дубинки, ни камня. Одни руки.
На какое-то самое малое мгновение ему стало жалко простуженного часового, и даже мелькнул вопрос: а нужно ли? – но тут же в памяти возникла падающая старая береза, Дрознесс в окровавленном парусиновом пиджачке, черные тросы на бронзовой шее царя Петра… И сомнение и жалость исчезли. Другая мысль озаботила, что неловко ему будет в тяжелом, длинном драповом пальто делать это, – как бы ноги не запутались. «Э, ничего! – махнул рукой. – Небось справлюсь».
Солдат покашлял над самой головой и ушел направо. «Ну, с богом!» – сказал себе Валиади и, подобравшись еще ближе к самому краю ямы, нащупал ногой твердый выступ, чтобы опереться при прыжке. Теперь, с этой позиции, ему хотя и смутно, но уже стал виден уходящий в серый сумрак часовой. Дойдя до крайней правой точки, немец постоял немного, глухо кашлянул, пробормотал, отхаркиваясь, что-то и повернул назад. «Вот бы тут еще закашлялся, – готовясь прыгнуть, подумал Валиади. – Ну-ка, господин фашист, еще разок!» И в самом деле, поравнявшись с Валиади, часовой снова словно в бочку забухал.
В тот же миг он лежал на земле, не понимая, что с ним произошло: что-то огромное, показавшееся ему чуть ли не с дерево, метнулось из ямы, железными клещами стиснуло глотку. В глазах поплыли черно-красные круги. Он даже хрипеть не мог, только молча сучил ногами. Одна рука при падении подвернулась за спину, и вытащить ее было невозможно – так тяжело навалился Валиади. Свободной рукой немец захватил в горсть складку грубого драпа, конвульсивно зажал ее, отчаянно рванул… Но это было последним усилием, – сознание померкло, и наступили темнота и тишина.
«Ага, – сказал Валиади, – ты затих… Но я не отпущу тебя, я должен знать, что дело сделано наверняка…»
И он еще с минуту стискивал глотку часового. Затем разжал онемевшие пальцы и отодвинулся от мертвого. Хотел вскочить, уйти в степь, к Дону, хотел бежать, спасаться.
Страшное, дикое желание жить на минуту охватило его – и погасло. Во всем теле сделалась слабость, в голове словно молотками застучали, по ногам прошла противная дрожь. «Кончилось, – прошептал Валиади, – кончилось, иссякло вдохновенье…»
И осторожно сполз в яму.







