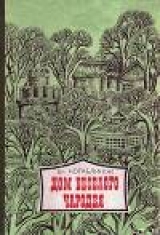
Текст книги "Кольцо художника Валиади"
Автор книги: Владимир Кораблинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Владимир Александрович Кораблинов
Кольцо художника Валиади
Черная земля под копытами
Костями была засеяна,
А кровью полита:
Горем взошли они
По русской земле…
«Слово о полку Игореве».

Глава первая
Энское шоссе была длинная, прямая, выложенная крупным булыжником дорога. Кое-где ее обсадили ветлами, кое-где к ней подступали реденькие перелески. Небольшие деревеньки лепились возле, вытягиваясь по обочинам. По одну сторону вдалеке белели меловые горы, а по другую – до самого горизонта – лежали, зеленовато-голубые весной и золотистые летом, поля. Там, где снеговыми тучами громоздились меловые утесы, был Дон. Среди неохватных полей вилась небольшая ямистая речка с татарским названием Юлдуз.
Каждый год, как только сходил снег, шоссе начинали чинить: возили камни, песок; сотни рабочих, стоя на коленях, тюкали молотками, заделывали бесчисленные пробоины. До самой глухой осени продолжалась эта, по сути дела, бесполезная работа: осенние дожди и мартовское половодье разрушали сделанное летом, проходило самое малое время – и дорога вновь требовала ремонта. И снова яростно матерились водители, ныряя в глубокие рытвины, объезжая по длинным логам разрушенные мосты, пережигая горючее.
Энску было не до шоссе: слишком уж война разбила и город, и прилегающие к нему села. Наконец облисполком вынес решение об асфальтировании дороги. Дружно принялись люди за работу, днем и ночью неумолкающий шум стоял на шоссе. Мощные машины с ревом вгрызались в рыжую глинистую землю, ровняя дорогу и расширяя ее. Задымили, точно по щучьему веленью выросшие в оврагах, крошечные асфальтовые заводики. Розовые, голубые зарева сияли по ночам над шоссе. Работа шла споро и весело.
Иногда дорожникн натыкались на интересные находки. Так, были выкопаны два глиняных горшка, набитые старинными монетами, ржавый, с глубокой вмятиной, шлем, полусгнившая ременная уздечка, украшенная серебряными бляхами с монгольскими письменами. Дорога была старая.
А однажды возле погорелой деревушки Ямище, где бульдозер выравнивал какие-то похожие на болотные кочки холмики, были найдены человеческие кости, череп и железное колечко. Кости и прежде не раз встречались, и не они привлекли внимание дорожников. Колечко их заинтересовало. Рабочие окружили нашедшего кольцо бригадира, брали находку в руки, разглядывали, удивлялись необыкновенной форме: кольцо изображало двух гонящихся друг за другом собак.
– Не сам ли Батыга потерял? – пошутил кто-то.
– Батыга не Батыга, – сказал бульдозерист, человек пожилой и серьезный, – а вещь, безусловно, старинная.
– Нет, правда, – не унимался шутник, – я слыхал, будто он этой самой дорогой ходил.
– Тут, брат, и похуже твоего Батыя хаживали, – сказал бульдозерист. – С местными жителями поговори, они тебе скажут.
– Чего – местные жители! – усмехнулся бригадир. – Я аккурат в сорок втором сам в этих местах воевал, знаю… Распроклятая это для русского человека дорога была. Сколько по ней фрицы нашего народу прогнали – нет числа! Тут, ребята, каждый камушек горючей слезой полит…
Он спрятал колечко в карман спецовки и не спеша зашагал в сторону села. Бульдозерист вздохнул, покачал головой и пошел следом.
– Колечко-то, – сказал, – в музей бы надо предоставить. Может, ему и цены нету…
– Да вот завтра все равно в город ехать, – отозвался бригадир. – Забегу, конечно, отдам.
Красноватая полоска зари мерцала за белыми срубами строящейся заново деревни, обещая на завтра ветреный день. Глубокие синие тени ложились в поросшей чернобыльником котловине. В Ямище пригнали стадо, розовая пыль стояла над деревней. Легкий ветерок поднялся, подхватил розовое облако и, развеивая пыль, понес его в степь, туда, где серой лентой убегало вдаль шоссе и чернел одинокий столб с дорожным знаком и надписью: «До города Энска 24 километра».
Глава вторая
В этом самом городе Энске – зеленом, уютном, древнем (он не раз упоминался в отечественной истории) – жил в довоенное время старый художник, коренной русский человек, носивший бог весть почему греческую фамилию – Валиади.
С крутых бугров, на которых был расположен город, далеко – до туманного горизонта – виднелась степь с неширокой, извилистой рекой. Возле Энска река растекалась на множество стариц и затонов, образуя в месте их слияния как бы громадную лучистую звезду. Чахлые перелески пестрели среди яркой желтизны полей; белыми каменными идолами торчали еще уцелевшие кое-где колокольни.
Семьсот лет назад по этой степи и в самом деле кочевали монголы; многое повидали древние, торчащие круглыми шапками курганы, о многом могли бы они рассказать. Но не было тут тогда ни города, ни частых деревень, на сотни верст лежала одна дикая, голая ковыльная степь… И так, во всей дикости, еще три века покоилась безлюдная степь, пока по царскому указу не был построен городок и деревянная крепость при нем, чтобы «глядеть ногайцев».
В конце семнадцатого столетия сюда прискакал юный, голенастый, с бешено вытаращенными глазами царь Петр и приказал сгонять окрестных мужиков на великое корабельное строение.
За долгое время своего существования город хлебнул всякого: его и черкасы жгли, и народ бунтовал против лихоимцев-воевод, и петровские пушки палили в честь новых, спущенных на воду кораблей. Дважды сгорал дотла, и гладу было принято и мору – не счесть, но выстоял, и все рос да разрастался, и к середине прошлого века это был уже довольно большой губернский город со своими «Ведомостями», двумя гимназиями, со знаменитой на всю Россию конской ярмаркой, богатым монастырем, круглыми торговыми рядами и даже очень порядочной книжной лавкой.
Жизнь здесь шла ни шатко ни валко, потихонечку – от ярмарки до ярмарки, от богомолья к богомолью. Впрочем, и то и другое совпадало во времени: и торг, и обнесение мощей происходили в середине августа. В эти дни город кишел народом. Колокольный звон, рев архиерейских певчих, вопли кликуш, ржанье лошадей, скрип тележных колес, слова молитв и крепкая матерщина, – все это в течение десяти дней висело над городом. Но постепенно затихала ярмарка, допевались последние молебны, разъезжались конские барышники, в разные концы России расходились богомольцы… И снова всё погружалось в полусон да так в тягучей дреме и жило до следующей ярмарки, до следующего богомолья.
Вот таким-то тихим, ленивым, дворянско-купеческим город просуществовал до семнадцатого года. Вскоре после Октябрьских событий впервые появился в нем тот художник, о котором пойдет речь.
Он был тогда еще далеко не стар. Огромный, с реденькой пшеничной бородкой, с руками грузчика, с горячими синими глазами, пронзительно глядевшими из-под косматых бровей, он сразу выделился среди горожан. Все в скором времени признали его, привыкли к нему, даже полюбили, хотя он никому в друзья не напрашивался, жил замкнуто, ни у кого не бывая и появляясь лишь на рынке с камышовой кошелкой или в тихих старинных закоулках города – с большим холщовым зонтом, этюдником и раскладным стульцем.
Он привез с собою жену, но ее никто не видел. Соседи рассказывали, что она «неходь», что, приехав с вокзала, художник снял ее с пролетки и внес в дом на руках. И что она не по нем была – крошечная, в чем душа держится, и это служило первое время предметом обывательских россказней и пересудов.
Многие удивлялись замкнутости художника, она их раздражала, ибо ничто так не злит обывателя, как люди, незнающиеся ни с кем, живущие сами по себе, в особицу. И, может быть, кому другому и досталось бы от соседей за такое отщепенство, но, видно, было что-то в художнике, с чем обыватели мирились и не только не ненавидели его, но даже уважали и словно бы побаивались.
Глава третья
Так прожил художник в Энске двадцать с лишним лет.
Он стал для города своего рода достопримечательностью. Исчезни он вдруг – и это было бы все равно, как если бы исчез памятник Петру или старинный, с петровских времен уцелевший, темный, приземистый дом адмиралтейства.
Удивительно, как в старых русских городках быстро узнавалось все о новом человеке! Ведь, как уже говорено, ни с кем не водил знакомства художник, а весь город знал, что родом он из елецких мещан, что учился в Петербурге и кончил курс знаменитого Куинджи, что у него в доме не едят мясо, что они с женой – вегетарианцы. Много рассказывали об изумительной физической силе художника: будто бы и подковы гнет, и железную кочергу узлом завязывает. Словом, о нем узнали все, кроме одного: что делается в его мастерской. Он никогда не продавал своих картин. Одну-единственную вещь он написал по заказу музея – портрет Петра Первого в рост на фоне адмиралтейства, того самого чернокирпичного, стоящего на берегу реки мрачного дома, которым так гордились горожане и возле которого по воскресным дням на ярко-зеленой траве собиралось гулянье с баянами, лодочным катаньем и пивными горпищеторговскими ларьками.
Его часто видели с этюдником. Но что он писал?
Уголок старой, горбатой улички; вросшую в землю, полуразвалившуюся звонницу древнего монастыря; старый деревянный мост, возле которого ютилась разукрашенная пестрыми флажками лодочная станция «Динамо»; крутой, зажатый между двумя каменными стенами спуск к реке, с отвратительной щербатой мостовой, с ветхими покосившимися деревянными перильцами для пешеходов…
Все это казалось такой безделицей, о которой нечего было и толковать всерьез. Горбатые улицы, церковные развалюхи, кособокие домишки, допотопные фонари и круглые, похожие на грибы афишные тумбы – все это давным-давно осточертело горожанам, в этом не виделось ничего замечательного. И когда в начале тридцатых годов город стал бурно строиться и на месте всяких там «обжорок», «монастырщин» и «поповых огородов» появились огромные каменно-стеклянные дома, никому и в голову не пришло, что стоило бы на память, ну, для истории, что ли, хоть как-нибудь запечатлеть облик старого, уходящего в прошлое города.
Нашелся, правда, один энтузиаст, фотограф-любитель, который совершенно бескорыстно, несмотря на скудные свои средства, пытался это сделать. Но то, что им создавалось, было всего-навсего не очень умелой, мертвой фотографией, по которой вряд ли потомки смогли бы представить себе этот по-русски красивый, залегший в садах, холмистый город. И те, кто действительно любил его, родное и милое свое место, сожалели об этом.
А город рос стремительно.
Мощные экскаваторы безжалостно уничтожали старину, рыли все новые и новые котлованы, на месте которых в удивительно короткие сроки, ослепляя обилием стекла, возводились многоэтажные, похожие на гигантские короба здания.
Именно в это самое время на каменной ограде городского музея появилось написанное черной и зеленой тушью объявление, извещавшее энских жителей об открытии персональной выставки «старейшего», как было сказано в тексте, художника края Николая Николаевича Валиади.
«Вот уж и старейшего!» – усмехнулся он, прочитав объявление. Ему и смешно и немножко грустно сделалось от такого величания: до сих пор он как-то не думал о старости, о пределе жизни – о смерти. Слово «старейший», хочешь не хочешь, настраивало на печальные размышления.
Однако облачко грусти пролетело и исчезло. Да и в самом деле, о чем было грустить, когда выставка имела успех необычайный. В огромном цикле – в нескольких десятках полотен, в сотнях рисунков, акварелей, в ярких оттисках монотипий (излюбленная техника Валиади) – перед зрителем встала история Энска.
Она начиналась сумрачной, в лилово-серых тонах, картиной с непривычно длинным названием: «Батый сказал, увидев реку: это Юлдуз – звезда!» Тревожное, в рваных тучах небо, яркая полоска ненастной зари; холм, на котором стояли дикие всадники; приземистые, с шевелящимися под ветром гривами кони… волны травяного моря, широко лежащие до горизонта, и яркая, в закатном отблеске, кривая излучина реки… наконец, сам Бату-хан, черноватый воин, поджарый, с жестокими и вместе задумчивыми глазами властелина полумира, – все это было полно такой изобразительной силы, такого вдохновения, что зрители сразу покорно умолкали, переходили на шепот. Рукой волшебника брошенные в эту дремучую старину, они с удивлением узнавали местность – холмы, прибрежные камыши, ту самую, с детства знакомую речку, где еще ребятишками лавливали они вертлявых пескарей… И вдруг – Батый! Страшные, дочерна загорелые дикие воины. Звероватые, скалящие желтые зубы кони. Хвосты бунчуков, развевающиеся на звонком степном ветру…
Это было колдовство.
А сам колдун – огромный, со своей светлой, седоватой уже бородой, с горящими, словно угольки, глубоко запавшими синими глазами, с могучими жилистыми ручищами, в старенькой, потертой вельветовой куртке, в никогда, вероятно, не утюженных, широченных штанах, – сам колдун застенчиво прятался за холщовыми стендами, раскланивался со знакомыми и незнакомыми, смущенно улыбался… И уводил людей дальше – к новым картинам, к новому колдовству.
И вот перед зрителями – на крутых, зеленых, с глинистыми обвалами буграх – строился деревянный город. Ясное небо сияло, белизна мужицких рубах была ослепительна. Желтая, розовая щепа устилала притоптанную траву. А по все той же реке с татарским названием Юлдуз (звезда) плыли плоты, разгружали бревна, волоком волокли на городские стены неподъемные, многопудовые лесины под вековечное, богатырское «Э-эй, взяли! Еще раз, взяли!»
И снова – та же излучина реки, серый, ветреный день… Белые барашки на черных волнах… И лебединые груди кораблей… Под ветром хлопающие паруса… И красное сукно помоста, на котором, зажав в крепких прокуренных зубах коротенькую глиняную трубочку, стоит нескладный голенастый чумазый матерщинник – русский, в замаранном смолой немецком платье, царь…
И степь – без конца, без начала, знойная степь с одиноким камнем-идолом, с гуртом разномастных быков, с черным облаком пыли над дорогой… И светловолосый всадник, гуртовщик-певец, великий певец русской земли…
И сотни ребристых телег, сотни мужиков в рваных пропотевших рубахах, гатящих через лог столбовую дорогу – от сверкающего золотыми маковками церквей города туда, к югу, к теплым краям, на Кавказ, дорогу, по которой позже проедут и Пушкин, и Грибоедов, и Лермонтов, и Белинский…
И злое пламя пожара над барской усадьбой.
И расправа: стреляющие в народ солдаты, ярко-рыжий дубленый полушубок неподвижно лежащего на снегу человека…
Выставка была открыта целое лето, ее переглядел весь город. Однажды сереньким осенним днем Валиади привез туда жену. Он осторожно катил по залам музея большое плетеное кресло-коляску, в котором полулежала крошечная седая женщина. В ее худой, высохшей маленькой ручке, как в птичьей лапке, поблескивал золотом старинный лорнет. Близоруко щурясь, онa то и дело подносила его к глазам; весело улыбаясь, что-то ласковое шептала Валиади. И он, своими громадными ручищами заботливо поправляя на ее ногах клетчатый плед, говорил сиплым, глуховатым баском:
– Ох, Лизушка, не кончать ли прогулку? Очень уж близко к сердцу все принимаешь…
А ровно через год, в такой же короткий сентябрьский день, город был охвачен пожаром. Черные космы дыма висели в неподвижном воздухе. И, хрустя пыльными сапогами по битому стеклу, в заросшие садами переулки Энска входили, пьяные от безнаказанного разбоя, чужеземные солдаты.
Глава четвертая
О том, что сюда придут немцы, что древняя русская земля окажется полем боя, никто, конечно, в городе и мысли не допускал.
Правда, с первых же дней войны все в Энске было поставлено на военную ногу: затемнение, ночные дежурства на улицах, отряды ПВО, учебные воздушные тревоги. В короткий срок все научились ходить и даже работать в противогазах, тушить условные зажигательные бомбы. На перекрестках улиц вытянулись красные стрелы, указывающие путь в ближайшее бомбоубежище.
Но как-то очень уж неожиданно пронеслись над городом первые немецкие самолеты и завыли не учебные, а настоящие сирены. В сводках Совинформбюро появилось новое – энское – направление. А в дальних тупиках железнодорожной станции день и ночь составлялись эшелоны и шла погрузка всяческого домашнего скарба: началась эвакуация города.
Все эти горестные и страшные события совпали у Валиади с его личным несчастьем: тяжело заболела жена. С нею и прежде случались приступы того недуга, каким она мучилась всю жизнь, но на этот раз было особенно тяжело: сильный жар одолевал бедную Лизавету Максимовну и изматывал настолько, что, когда спадала температура и наступала короткая передышка, она не в силах была говорить и, едва опомнившись, снова впадала в забытье.
У Валиади голова кругом шла. Он понимал, что надо уезжать из города, к которому рвутся фашисты, уезжать немедленно. События могли развернуться с невероятной стремительностью, но приходилось ждать, когда Лизушке хоть немножко полегчает, хоть в себя-то она придет… И так шло время, а болезни и конца не виделось.
Однажды под вечер к Валиади заехал предгорисполкома Приходько. Они сидели за столом, накрытым грубой холщовой скатертью. В синем кувшине пламенели огромные оранжевые листья клена. Бессвязно бормоча что-то, за стеной тихонько стонала Лизавета Максимовна.
– Николай Николаич, – очень как-то серьезно и дружески сказал Приходько, – вам, милый человек, уезжать надо…
– Неужели все кончено? – спросил Валиади.
– Ничего не кончено! – рассердился Приходько. – Начинается только… Но город, вероятно, сдадим… вот какая штука.
Валиади задумался.
– Итак? – поглядел из-под очков Приходько.
– Да, конечно, – вздохнул Валиади, – не оставаться же с немцами. Но когда, скажите, надо собираться?
– Чем скорее, тем лучше. Хоть завтра.
– Это невозможно, – Валиади нахмурился. – Очень уж плоха… Слышите?
Приходько прислушался, покачал головой.
– Вас будет сопровождать врач.
– Боюсь, не вынесет. Хотя бы на недельку отсрочить… Ведь еще не поздно будет?
Приходько развел руками.
– Будем надеяться, – сказал он. – Но готовиться надо ко всему. Ежечасно, – добавил, помолчав.
И, пообщав заглянуть на днях, уехал.
На другой день Валиади, как всегда, проснулся очень рано. Еще только разгорался восток, еще и птицы за окном молчали. У Лизаветы Максимовны к утру спал жар, она спала. Тихонько, стараясь не потревожить ее сон, по деревянной, скрипучей лестнице Валиади поднялся в мастерскую.
Это был просторный мезонин с дощатыми некрашеными стенами, со скошенным потолком и громадным окном. Десятки картин, этюдов, набросков, папки с рисунками, несколько древних – черных, со страшными в золотых венцах ликами – икон; лошадиный череп на шесте, рогожные половики, – все громоздилось в кажущемся беспорядке; именно в кажущемся, потому что для самого художника это был отличный порядок, наилучшее размещение вещей, наилучшее, правда, для него только, но ведь он-то и был здесь хозяин. Над дверью висел довольно большой, похоже – поддужный, колокольчик, от которого тянулся длинный алый шнур – вниз, к кровати больной жены.
Валиади распахнул створку окна. Свежий ветерок потянул со двора холодным ровным вздохом. Из-за крыши соседнего дома сверкнул яркий, с золотым ободком круг красноватого солнца. Густая, тронутая осенней рыжинкой листва старой березы вмиг оказалась продырявленной ослепительными кружочками света. И сразу дерево ожило, встрепенулось, сразу в нем заворочались, засвистели, защелкали проснувшиеся птицы, и от поднятой ими возни вдруг стало шумно, весело и даже как будто еще светлее.
Очень стара была береза. Может быть, раза в три старше самого Валиади. Когда, двадцать пять лет тому назад, он поселился в этом доме, береза была такой же, как и сейчас.
– Здравствуй, старуха! – сказал Валиади.
Береза зашумела.
Удивительно тихо было в городе. Только далекий паровозный свисток, пронзительный и тревожный, гвоздем царапал по этой остекленевшей тишине. И, словно осерчав на ясное утро, на затишье, старательно и вместе с тем жалобно завыла сирена. Начинался очередной налет.
– Да-а, – вспомнив слова Приходько, пробормотал Валиади, – надо, надо готовиться… ничего не поделаешь.
И он начал осторожно снимать с подрамника своего «Батыя».
Глава пятая
Сперва Валиади хотел закопать картины в корнях березы, да спохватился: рыть-то ведь придется глубоко, не миновать дереву беды! С подрубленными корневыми остростками засохнет старуха.
Тогда он облюбовал дровяной сарай.
Все утро неутомимо работал лопатой. Земля была неудобная, с битыми кирпичами, с обломками старого ржавого железа. Лопата то и дело натыкалась на разный хлам.
Наконец яма была готова. Валиади принялся упаковывать картины. Скатанные трубкой, зашитые в просмоленный брезент, холсты сделались похожими на круглые черные бревна. Затем он смастерил ящик и, бережно уложив в него черные кругляши, стал заколачивать крышку. «Как гроб…» Валиади поморщился: экое глупое сравнение! Но когда первые комья земли гулко застучали по дощатой крышке, оно, назойливое, снова напросилось.
Притоптав землю, Валиади запер сарай, поднялся в мастерскую и присел у открытого окна. Было уже поздно, ночь темная наступила, хоть глаз коли. В черных тучах низкого неба, то скрещиваясь шпагами, то сваливаясь к горизонту, дрожали два тонких прожекторных луча. В воздухе стоял горьковатый, смешанный с дымом пожаров запах увядающих листьев и цветов табака. Из-за деревянного забора слышалось глухое астматическое покашливанье соседа – старика Дрознесса: ему было душно в доме, он до поздней осени ночевал в саду.
Валиади глядел в черноту осенней ночи, думал.
Итак?
Итак, что же будет дальше? Лизе станет лучше, и тогда… Но станет ли – вот вопрос. Сегодня, копая яму, упаковывая картины, он то и дело заглядывал к ней, и все было то же: короткая утренняя передышка сменилась снова жестоким жаром.
Так есть ли смысл ждать улучшения? Разумно ли откладывать отъезд? Что толку в Лизином выздоровлении, если город к тому времени будет сдан, если они окажутся в неволе? А ведь спокойно-то рассудить – не все ли равно, лежать Лизе дома или в вагоне? Ну, разумеется, там и духота, и тряска, и сквозняки – все это очень плохо, но… рабство-то ведь еще хуже! Конечно, немцы, возможно, и не причинят ему зла: как-никак, он художник, кюнстлер, так сказать… «Экой дурень! – тут же обругал себя Валиади. – Ведь придумал же: кюнстлер! Никакой ты, брат, не кюнстлер, ты – русский художник, и этого забывать не следует ни при каких, пусть даже самых тяжелых, обстоятельствах!»
Итак?
– Решено! – сказал Валиади. – Завтра же иду к Приходько. Нечего, брат, раздумывать, ехать, да и все тут!







