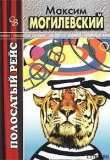Текст книги "Без срока давности"
Автор книги: Владимир Бобренев
Жанры:
Исторические детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
С этими словами комендант широко распахнул массивную дубовую дверь. Из бани вывалилось огромное облако молочного пара, донеслась негромкая музыка. Могилевский нерешительно перешагнул вслед за Блохиным порог и очутился в выстланном коврами, теплом предбаннике. Его взору открылся резной стол из мореного дуба без скатерти, который был завален самой разнообразной снедью. Приборы на четверых человек, свежие огурчики, посыпанная зеленым лучком селедка залом, маринованные грибки, копчености и дымящаяся, рассыпчатая картошка. В центре красовались две запотевшие бутылки водки. На расположившемся на тумбочке патефоне крутилась грампластинка и хрипловатый голос Утесова напевал танго «В парке „Чаир“ распускаются розы…». Комната была наполнена приятным ароматом хвои, свежеиспеченного ржаного хлеба и разнотравья.
– Ну а теперь сюрприз! Приступаем ко второму, самому приятному отделению нашего вечера. Красавицы! А ну-ка на выход! – громко скомандовал Блохин и захлопал в ладоши.
Из соседнего помещения выпорхнули две розовотелые девицы. Обе широко улыбались гостям. Кроме легких цветочных фартучков, завязанных на спине бантиком из тонкой тесемки, на них ничего не было. Мордашки у каждой были округлые, напомаженные, упитанные, бедра широкие. Они деловито стали помогать мужчинам снимать шапки, тяжелые шинели, сапоги, гимнастерки.
– Не беспокойтесь, я сам, – запротестовал было смутившийся Могилевский, когда с него стали стягивать кальсоны, но его оборвал решительный голос коменданта:
– Пускай, пускай раздевают, Григорий. Они это дело любят, а заодно и пощупают, что у тебя в штанах пряталось! – Блохин громко расхохотался. – А вдруг он у тебя большенький да едрененький! Сейчас наши красавицы разделают нас с тобой по высшему классу: веничком похлещут, массаж сделают, сладостью одарят. Все как было при «батьке»! Забудешь и про жену, и про работу. Ну-ка, бабенки, скидавай свои фартуки! Мигом! И все шагом марш в парную, а потом за стол, – зычно крикнул он.
Еще через минуту Григорий Моисеевич действительно позабыл обо всем на свете, погрузившись в вакханалию празднества. Так в эту ночь новоиспеченный начальник спецлаборатории НКВД принял в подмосковном пансионате Кучине «боевое крещение».
Глава 7
Домой Могилевский заявился лишь в воскресенье под вечер. И сразу же его чистенький быт – домотканые половики, пузатый комод, старый, скрипучий шкаф для одежды, да и сама жена Вероника в застиранном халате – показался ему жалким, убогим. Хотя раньше ему нравилось сидеть вечерами дома, слушать, как жена напевает сыну колыбельную, укладывая его спать. Григорий Моисеевич сидел за письменным столом, читая какую-нибудь специальную книгу и делая выписки, или же набрасывал план очередной главы диссертации. А тут точно его отравили. Все немило до тошноты: и заискивающая улыбка Вероники, и ее кислые щи из квашеной капусты, и однообразное тиканье ходиков. Всего несколько часов назад его тискали, мучили ядреные девки, выказывая такие чудеса по части греховных утех, что у Могилевского глаза на лоб лезли, он даже представить себе такого не мог. Всего несколько часов назад они ели молочного поросенка с-гречневой кашей и хреном, а перед этим катались в санях на тройке по лесной зимней дороге. Девицы хохотали, визжали от восторга. Весело хохотал и Могилевский, чувствуя себя молодым и свободным, как ветер.
Два дня пронеслись как минута. И после такого праздника – опять в свою хоть и двухкомнатную, но мрачную, с тусклой желтой лампочкой квартиру, в которой давящая, как в склепе, тишина да равномерное тиканье ходиков.
– Устал? – участливо спросила жена.
– Устал, – ответил Григорий Моисеевич и рано лег спать, надеясь, что во сне снова увидит и тройку, и снег, летящий из-под полозьев, и жаркое дыханье молодух, заставивших Могилевского сбросить с себя дет пятнадцать и ощутить сладкий вкус простой телесной жизни. А все это открылось ему, когда он вошел в новую и страшную, даже на слух, организацию – НКВД.
На следующий день начальник лаборатории с рвением приступил к организации нового дела. Какие-то заготовки, выписки из книг и лекций по токсикологии, периодической печати, собственные наблюдения, наметки планов у него уже имелись. Теперь, получив официальное задание, можно было разворачиваться по-настоящему. Он снова проанализировал собранные раньше сведения об известных способах применения отравляющих веществ. Правда, на сей раз дело предстояло иметь с другими препаратами, но прежние наработки на первых порах еще могли пригодиться. Вместе с Хиловым он тщательно осмотрел наличную аптеку, хранилище ядохимикатов и отравляющих веществ.
Держал свое слово и комендант НКВД Блохин. Он выделил помещения для проведения экспериментов. Теперь лаборатория располагала своим «испытательным полигоном» в Варсонофьевском Переулке, рядом с Лубянкой. Вход в новые комнаты был со двора. По соседству находился подвал, в котором приводили в исполнение расстрельные приговоры. Толстые кирпичные стены, сводчатые потолки, тяжелые, обитые железом двери поглощали звуки выстрелов. Рассказывают, что когда-то давно все это здание являлось пыточным домом тайной полиции. Сюда привозили самых опасных преступников на истязания. Страшные крючья от цепей знаменитой дыбы так с прошлых веков и остались торчать посреди потолка.
Стены лаборатории, камер и кабинетов побелили известью. Двери камер уже имели специальные окошки, именуемые всеми заключенными «собачниками», предназначавшиеся для наблюдения за арестантами, передачи им пищи, общения с ними из коридора. Внутри под самым потолком повесили дополнительные электрические лампочки, дабы помещение камеры было ярко освещено и хорошо просматривалось. В каждой из камер привинтили к каменному полу массивные двухъярусные нары. Поставили водопроводные краны, железные раковины, унитазы. Окон в камерах не было. Проветривались они массивным железным вентилятором, укрепленным глубоко внутри небольшого отверстия на пятиметровой высоте противоположной от нар стены. Добраться до него было невозможно, даже если встать на спину человека. Словом, здесь все было оборудовано по самым настоящим тюремным правилам.
Рядом располагалась сама лаборатория. На дверях кабинетов повесили таблички с надписями «Начальник медицинской части», «Главный врач», «Аптека», «Ординаторская», «Врачи-специалисты». Всем сотрудникам предписывалось находиться на службе только в белых халатах. Теперь, зайдя в это заведение, любой несведущий человек мог принять ее за самое обыкновенное медицинское учреждение, скромную тюремную лечебницу. Легенда начала материализоваться.
Принципиально поменялся и статус лаборатории. Штатная категория начальника поднялась до звания полковника медицинской службы. Соответственно установили и более высокие, чем прежде, специальные звания и для остальных сотрудников. На входе выставили вооруженную охрану, всем выдали специальные пропуска. Такими мерами рассчитывали укрепить дисциплину среди персонала спецлаборатории и полностью засекретить характер ее деятельности. Отныне за порогом заведения запрещались любые разговоры обо всем, что происходило в стенах лаборатории. Никому, кроме начальника, не разрешалось вести аналитические дневники о характере исследований и их результатах, раскрывать специфику действий испытываемых токсических препаратов, выносить какие бы то ни было служебные бумаги с описанием опытов. Даже самые пустячные черновики сдавались на спецхранение.
Всякие контакты с заключенными категорически запрещались. Нельзя интересоваться их фамилиями, прошлой профессией, родом занятий до осуждения, спрашивать о местах прошлого места жительства, адресах проживания родственников. Разговоры с «контингентом» не должны выходить за пределы выяснения самочувствия, настроения, состояния здоровья, наличия жалоб на недуги. Все это официально фиксировали в разработанных документах, которые утвердил своей подписью первый заместитель наркома.
Для объявления вводившихся новшеств Могилевский собрал всех сотрудников утром на служебное совещание. Зачитал подписанные и утвержденные бумаги.
– Все предельно ясно: мы должны молчать, – резюмировал за всех Наумов. – Наверняка это связано с предстоящими грандиозными переменами, в которые на прошлой неделе нас посвятил новый начальник.
– Теперь наша лаборатория будет служить для приговоренных к расстрелу людей последней остановкой на пути перелета души из тюремной камеры в райский мир, – мрачно добавил Муромцев. – Могу ли я надеяться, что буду иметь возможность по-прежнему заниматься биологическими исследованиями, или в них уже отпала необходимость?
– Прежняя работа вовсе не свертывается. Она лишь дополняется новыми возможностями. – Могилевского начинали злить эти недвусмысленные издевки.
– И как же теперь мы будем именовать наших подопытных, если неизвестны их имена и фамилии? Присваивать им номера или давать псевдонимы? – не унимался Наумов.
– Действительно, товарищ Могилевский, как? – неожиданно подал голос дотошный Хилов.
– Это несущественно. Будем отражать в документах лишь характеристики примененного токсина, условия применения и результаты действия.
– Мне кажется, это ненормально. Должны же мы, хотя бы между собой, установить какую-то условную терминологию. Нечто вроде тюремного жаргона, – не унимался Человек в фартуке. – Давайте именовать наш живой материал «птичками».
– А что, – подхватил начальник лаборатории, – хотя бы и птичками. Перелетные – из одного мира в другой. В этом действительно есть свой смысл. А главное – соответствует существу нашего дела.
Примечательная деталь. В те же самые годы за несколько тысяч километров от Москвы, где-то в окрестностях захваченного японской армией маньчжурского города Харбина оккупанты создали специальный исследовательский центр «Хогоин-31». Там тоже разворачивалась работа по проведению биологических и медицинских экспериментов на людях. «Материалом» служили пленные китайцы, корейцы и даже советские люди, оказавшиеся в руках японцев на оккупированной, территории. На них испытывалось действие болезнетворных микробов, бактерий, отравляющих веществ, воздействие газов, высоких и низких температур, низкого и высокого давления. Все эксперименты, как правило, заканчивались смертью «пациентов». Во всяком случае, из лагеря пленники живыми уже не выходили. Так вот, и там сотрудники «Хогоина» своих подопытных людей не называли по именам и фамилиям, а окрестили «бревнами». Сходство психологических установок у отравителей разных стран поразительное. Они межнациональны. «Птички», «бревна», вообще «человеческий материал».
До прихода Могилевского в лабораторию в НКВД уже проводились различные научные и исследовательские изыскания в области токсикологии по разработке новых препаратов. Но теперь они были свернуты, и перед сотрудниками была поставлена одна практическая задача – искать новые быстродействующие токсины, способные умерщвлять людей и по возможности не открывать для патологоанатомов ясной клинической картины при вскрытии.
Кое-кому из ученых, давно работавших в лаборатории, это не понравилось, но Могилевский властной рукой эти роптания заглушил, и всем ничего не оставалось, как продолжать исследования теперь уже по новой программе и делать вид, что ничего особенного не произошло. Перестал бросать свои язвительные реплики даже Муромцев, когда Могилевский сообщил сотрудникам, что Сутоцкого арестовали на следующий же день после того, как Григорий Моисеевич изгнал его из лаборатории. То есть в ту самую субботу, когда начальник лаборатории веселился в компании с комендантом НКВД и похотливыми девицами. Сутоцкого обвинили по 58-й статье «за контрреволюционную деятельность и выступления против Советской власти». Всем сразу стало ясно, что в живых его теперь не оставят.
– Я даже попросил, чтобы нам его отдали. Вроде обещали. Так что, возможно, мы его скоро снова увидим, – усмехнулся Григорий Моисеевич и добавил: – Например, в качестве перелетной «птички».
Но на его шутку никто не отреагировал. Даже Хилов сидел с мрачным лицом.
Естественно, что после такого объявления из лаборатории никто по собственной воле не уходил. Режим работы оставался прежним, не было даже введено запрета на употребление спиртного. Работа ведь стала считаться вроде бы вредной, с постоянным напряжением психики, что требовало снятия стресса. Могилевский лишь предупредил, чтобы делалось это не так открыто, как раньше. То есть расслабляться спиртным позволялось, но при этом следовало соблюдать меру и не попадаться на глаза вышестоящему начальству. А оно в Варсонофьевский переулок предпочитало не заглядывать.
Согласно своеобразной калькуляции, каждому сотруднику, участвующему в экспериментах с испытаниями ядов на заключенных, теперь полагались ежедневно сто граммов водки. Практически эта норма почти всегда с лихвой перекрывалась за счет выделявшегося на «специальные нужды» чистейшего медицинского спирта-ректификата. Он предназначался для обработки приборов, посуды, дезинфекции рук, однако по назначению его почти никогда никто не использовал. В основном употребляли внутрь, как и в прежние времена, а с перенесением экспериментов с животных на людей к огненному зелью вскоре пристрастились даже самые стойкие трезвенники.
Накануне «открытия» нового дела Хилов с Могилевским долго колдовали в аптеке над токсичным веществом для первого опыта. Решили начать с проверки отравления при смешивании обычного цианистого калия со спиртом.
В кабинете сидели Могилевский, Блохин, судебно-медицинский эксперт Семеновский, сотрудники лаборатории Наумов, Филимонов-младший и еще несколько человек. Все до единого были в белых халатах. Даже комендант НКВД по такому случаю накинул поверх военной формы чистый белый халат. Только ассистент Ефим Хилов появился в своем неизменном клеенчатом фартуке, правда, халат под фартуком у него все же имелся. Все чинно расселись в «ординаторской» на двух больших кожаных диванах. Один неугомонный Человек в фартуке продолжал суетиться и деловито сновал по кабинету. Ему досталась, пожалуй, самая значительная роль в предстоящем действе, и он этим очень был горд. Хилов вытащил из кармана фартука бинт, растянул его поперек дверного проема и начал укреплять кнопками.
– А это зачем? – вопросительно прогудел Блохин.
– Ленточка, – пояснил ассистент. – Для открытия мероприятия. Организовано все как положено в таких торжественных случаях. И даже ленточка протянута. Разве что духового оркестра не будет.
– Действительно, жаль, что туш некому исполнить, – угрюмо заметил Наумов. – Может, сам споешь?
– Да и с ленточкой у тебя, Хилов, получился перебор, – снова отозвался Блохин. – Выкинь ты ее. А то на богохульство смахивает. Мужика на тот свет, можно сказать, к Богу отправляем, а ты про какое-то торжество…
– Если старшие товарищи против, уберем, – послушно согласился Хилов. Он скомкал бинт, но полоску из середины все же вырезал и опустил в карман фартука, а остальное выбросил в урну. – Вот и все. Можно начинать, – с чувством исполненного долга объявил ассистент.
– Ну-ну, – пробурчал комендант.
– Ой, извините, – спохватившись, подала вдруг голос лаборантка Кирильцева. – Я женщина слабая и не могу смотреть, как людей убивают. Еще чего доброго, ночью приснится, – нервно щебетала Анюта.
Она взглянула в висевшее на стене большое зеркало, поправила свои бесцветные кудряшки и мелкими шажками торопливо засеменила из «ординаторской».
– Да уж осталась бы, – крикнул ей вслед Блохин. – Все равно привыкать придется…
– Нет уж. Обойдетесь без меня.
В коридоре она едва не столкнулась с доставленным для «церемонии» заключенным.
– Здравствуйте, – с растерянностью в голосе, испуганно произнесла лаборантка, заботливо уступая ему дорогу. – Вас здесь ждут.
И действительно, первого пациента почти все ожидали с нескрываемым нетерпением. Каждый вкладывал в это свой смысл.
Тот появился в сопровождении двух конвоиров. Когда перед ним распахнули дверь, заключенный, отвыкший в тюремной камере от нормального дневного света, в растерянности остановился на пороге под взглядом целой группы людей в белоснежных халатах и закрыл рукой глаза. Но к нему тут же подскочил Хилов с идиотской злорадной улыбкой:
– Поздравляем! Вы первый пациент нашего нового медицинского учреждения.
С этими словами ассистент дернул ничего не соображающего арестанта за одежду, затянул его в кабинет и поставил в центре лицом к начальнику лаборатории и другим членам комиссии. Они чинно сидели за широким квадратным столом, покрытым зеленым сукном, неподвижно уставившись на пришельца, словно на редкостный музейный экспонат. У некоторых во взгляде улавливался откровенный страх перед тем, что должно было произойти через несколько минут на их глазах. Но находившийся в полном неведении «пациент», вряд ли это заметил.
– Заключенный Потапов, – наконец нарушил неожиданно воцарившуюся тишину «предмет исследования». – Осужден три дня назад трибуналом Московского военного округа по статье пятьдесят восемь – семь Уголовного кодекса за особо опасное государственное преступление – подрыв промышленности в контрреволюционных целях – к высшей мере наказания, расстрелу.
Присутствовавших повергло в некоторое замешательство нарушение только что оглашенной инструкции: человек назвал себя, сказал, когда, кем и за что осужден. Снова повисла пауза.
Перед «докторами» стоял остриженный наголо, худой, измученный молодой мужчина, с ввалившимися, небритыми щеками, бледным лицом, в грязной арестантской робе. В глазах страх, полная покорность. Они искали сочувствия и помощи у сидевших перед ним за длинным столом людей в белых халатах.
– Итак, надеюсь, вам понятно, что вы самый первый пациент только что открытого в НКВД специального лечебного учреждения для заключенных, – высокопарно обратился к Потапову Григорий Моисеевич, уже полностью овладевший собой. – Я руководитель лаборатории, то есть этого специального медицинского учреждения.
– Простите меня, никак не могу взять в толк, что все это значит и почему меня сюда привели. Я приговорен к расстрелу, и, как мне объявили, приговор подлежит немедленному исполнению…
– Об этом теперь не думайте. Расстреливать вас не будут. Проходите лучше сюда, присаживайтесь вот здесь.
Поднявшись со стула, начальник лаборатории артистичным жестом показал на кушетку, стоявшую в углу у стены. Заключенный смущенно топтался на месте, не решаясь сесть на белоснежную простыню.
– Садитесь, – повторил Могилевский и в следующую секунду почувствовал в теле сильнейший озноб и, словно на морозе, стал потирать свои вдруг похолодевшие руки.
Еще раньше, зная, что предстоят опыты над заключенными, он представлял себе эту процедуру обыкновенно и буднично. Придет зэк, выпьет свои сто граммов водки с ядом, его отправят своим ходом в камеру, где он через несколько минут тихо испустит дух. Эксперт Семеновский констатирует смерть, заберет труп для исследования на предмет обнаружения признаков отравления.
Но то ли оттого, что Хилов начал это балаганное действо с разрезания бинта, то ли оттого, что в выбранном жалком, перепуганном пациенте не чувствовался никакой подрывник советской промышленности, Могилевский ощутил вдруг странную робость и страх в душе. «Уж лучше бы доставили для первого опыта убийцу-рецидивиста или какую-нибудь другую отвратительную личность», – подумалось ему.
Григорий Моисеевич с трудом сдерживал охватившую его дрожь: одно дело травить подопытных мышей и кроликов и совершенно иное – отправить своими руками в могилу вот этого, стоящего напротив беззащитного и явно непохожего на врага человека, с надеждой взирающего на собравшихся вокруг него докторов в белых халатах. Да, конечно, он сам сказал, что признан преступником, приговорен к расстрелу, а значит, виновный…
Начальник лаборатории пытался взять себя в руки, отогнать как можно быстрее эти так некстати возникшие мысли. Что ни говори, а Могилевскому никогда прежде не доводилось встречаться вот так близко с обреченным на мучительную казнь человеком. На смерть, которую он примет через несколько минут из его собственных рук, из рук врача, давшего когда-то клятву не вредить здоровью людей, а лечить их, облегчать страдания. Все это как-то сразу навалилось на Григория Моисеевича, и он явно занервничал. Ему в какую-то секунду даже захотелось броситься вон из этой комнаты, сбежать, уклониться от участия в предстоящей страшной процедуре. Только сейчас Могилевский осознал, почему даже Блохин пускает слезу, рассказывая о последних минутах жизни смертников.
Заключенный осторожно присел на самый край кушетки, смиренно сложив руки на коленях и опустив голову. Сегодня рано утром в его камеру вошли тюремные охранники, приказали троим осужденным к расстрелу выходить с вещами. В их числе был и он, Потапов. Все трое знали, что означает это приглашение. Они попрощались с несколькими оставшимися сокамерниками, обнялись. Но в коридоре Потапова задержали, отделили от остальных, посадили в машину и доставили сюда. Он абсолютно ничего не понимал.
– Для чего меня привезли к вам? – вопросительно поднял он голову на Могилевского, соображая, что тот здесь самый главный руководитель.
– Не волнуйтесь, – обрадовавшись спасительному вопросу, вернувшему логический ход мыслей, ответил Григорий Моисеевич. – Все будет в полном порядке. Мы проводим небольшой психологический эксперимент. Исследуем реакцию подавленного горем организма человека на стрессовые ситуации. В вашем случае – переход от депрессии к, скажем так, надежде. Иначе говоря, способен ли синдром оптимизма влиять на физическое и психическое состояние человека.
– Оптимизма, – удивленно и одновременно недоверчиво переспросил Потапов.
– Да-да. Оптимизма от известия, что вас не будут расстреливать.
В этот момент Григорий Моисеевич перевел взгляд на Блохина и, поймав его спокойный, будничный взгляд, тотчас полностью овладел собой. Почин непременно должен пройти спокойно, деловито, без истерик и мук. Работать с первым «пациентом» надо так, чтобы тот так ничего и не понял, не заподозрил. Ну а комендант и начальник отдела Филимонов после этого эксперимента должны убедиться, что новый начальник лаборатории волевой человек и умеет в любой обстановке владеть собой, претворять в жизнь поставленную товарищем наркомом задачу. Да и подчиненные поймут, кто есть кто.
Снова возникла непродолжительная пауза. Вслед за ней Могилевский решительно встал и твердой походкой подошел к своей жертве:
– Итак, товарищ Потапов, скажите, как вы себя чувствуете после того, как я вам объявил хорошую новость.
– Пока еще плохо. Голова кружится. Разве может иначе чувствовать себя человек перед близкой смертью? Скажите, товарищ доктор, только честно: меня все-таки расстреляют?
– Успокойтесь, говорю же, вас расстреливать никто не будет, – заверил арестанта Могилевский. – Если направили сюда, значит, принято решение применить к вам другую меру воздействия. Расстрел отменили, понимаете?
– Спасибо, доктор! – задрожав всем телом, просиял наконец Потапов. – Большое вам спасибо! Вы даже не представляете, как меня обрадовали. Будто снова родился на свет. Я и сам знал, что в конце концов со мной разберутся правильно и поймут, что не виноват! Я знал и до последней минуты надеялся. Знал! – Потапов обратился к сидящим за столом людям: – Я ведь писал, объяснял. Выходит, товарищ Сталин прочитал мои объяснения и все понял. Теперь, если даже сошлют в лагеря на десять лет без права переписки, я все выдержу, всем докажу, что по-прежнему могу приносить пользу своей великой Родине. Понимаете, это великое счастье! Я благодарен вам всем, товарищи врачи!
Потапов хотел было подняться и продолжать речь, чтобы до конца выговориться, но Могилевский удержал его на кушетке.
– Я все выдержу, лишь бы жить. Я простой инженер с текстильной фабрики, внес двадцать пять рационализаторских предложений. Ну какой из меня вредитель? Разве я похож на врага народа?
Потапов счастливо улыбался окружавшим его незнакомым людям. Он был совершенно потрясён, ошалело вращал головой и глядел по сторонам широко раскрытыми глазами, из которых покатились слезы радости. Заключенный размазывал их по лицу грязными кулаками, одновременно и веря и не веря объявленной неожиданной перемене в его судьбе. Переход от синдрома депрессии к надежде происходил на глазах «исследователей». Все пошло по заранее разработанному сценарию. Развеселившийся бедняга даже не заметил, как Могилевский подал знак Хилову, чтобы тот начинал подготовку к следующему этапу эксперимента.
Ассистент достал из стеклянного шкафа пустой стакан, нераспечатанную бутылку с водочной этикеткой, поставил на стол. Весело улыбнулся, подыгрывая «пациенту», и сказал:
– Это для усиления оптимизма. Такое событие происходит единственный раз в жизни, и его нельзя не отметить.
Запечатанная на заводской манер бутылка нужна была, по замыслу организаторов эксперимента, для большей достоверности. А так все, кроме одного Потапова, знали, что в водку подмешан цианистый калий – один из сильнейших нервно-паралитических ядов мгновенного действия. Разведенная в бутылке доза, по согласованному с начальством плану ассистента, почти вдвое превышала смертельную. Хилов поставил перед Потаповым стакан, щедро наполнил его почти до краев.
– Минуточку, – остановил он руку заключенного, послушно потянувшегося к стопке. – Вот, и закусишь сразу, – ухмыльнулся ассистент. Он положил на хлеб маленький ломтик колбасы.
– Даже не знаю, что сказать, – не переставал удивляться основной виновник происходящего. – Вообще-то я водку почти не пью…
– Сегодня разрешено. Да и другого ничего нет, – снова вступил в свою роль Могилевский, обращаясь к заключенному. – Будьте настоящим мужчиной. А что, – Могилевский весело повернулся к присмиревшим свидетелям разыгрываемого действа, – давайте-ка, товарищи, составим компанию нашему первому пациенту. Разделим его радость. Что ни говори, а ведь мы не погрешили душой, объявив человеку, что спасли его от расстрела!
Вслед за этим на столе появилась вторая нераспечатанная бутылка водки, а к ней все те же стограммовые граненые стаканчики, тарелки с оранжевыми мандаринами и колбасой. Блохин с подозрением глядел на новую бутылку: от отравленной она ничем не отличалась. Начальник лаборатории самолично разлил содержимое по стопкам.
– Эх, была не была, – махнул рукой арестант и, взяв в руки стакан, медленно, чтобы не расплескать, понес его в лицу.
– За пациента номер один! – не оставляя ни секунды Потапову на колебания, громко воскликнул начальник лаборатории, обращаясь к присутствующим. Он поднял свой стакан, подавая пример остальным членам комиссии. Те одобрительно закивали, некоторые даже последовали его примеру и взяли свои стопки в руки, но пить пока не решались, смотрели на Могилевского.
– Давай, давай, парень. Смелее и с Богом, – поторапливал Потапова ассистент.
– Поверьте, я не вредитель, не враг…
– Да мы уже про тебя все Знаем. Понимаешь, все! – теряя терпение, заверил зэка Хилов.
Сотрудники лаборатории и гости заулыбались, подбадривая первенца. Могилевский понимал, что именно сейчас все ждут его решительности, взмахнул стопкой, первым ее опрокинул, после чего, уже не боясь, остальные тоже дружно выпили, потянулись за закуской. Напряженность сразу спала. Кто-то ободрал мандарин и положил его перед заключенным, на которого снова обратились все взоры. Но тот все еще не верил в чудо. В его глазах светились одновременно и неподдельная радость избавления от страшного слова «расстрел», и неверие в происходящее. Потапов восторженно смотрел на своих избавителей и каждого готов был обнять и расцеловать.
– Ну в чем дело? Решайтесь же! – Могилевский по-дружески похлопал заключенного по плечу. – Как видите, мы уже управились. Давайте смелее. Все ждут только вас…
– Я сейчас. Просто никогда раньше сразу так много водки не пил. Все больше приходилось вино… Боюсь, что после тюремной пайки быстро опьянею…
– Не бойтесь. Вас сразу же отведут в палату, и там вы отдохнете. Будете лежать сколько угодно. Вволю отоспитесь. Самое страшное для вас уже позади, – напутствовал Потапова Могилевский.
– Да-да, конечно…
Потапов глубоко вздохнул, как это бывает перед решительным – броском, поднялся с кушетки и вытянулся во весь рост по стойке «смирно». Затем поднес стакан к губам и неровными глотками выпил его содержимое до дна. Выдохнул, морщась всем лицом, вытер рукавом расплывшийся в широкой улыбке рот. Водка отдавала приятным привкусом миндаля, ядрышками от абрикосовых косточек. Стоявший за спиной «пациента» Могилевский поднял вверх руку, чтобы все видели находившийся при нем секундомер, и демонстративно нажал на кнопку.
В следующее мгновение комната в глазах арестанта вдруг перекосилась, а затем стремительно закружилась вокруг стола вместе с уставившимися на него людьми в белых халатах.
– Говорил, что опьянею с непривычки… – прохрипел он, уже не понимая, что с ним происходит. Живот пронзила резкая, невыносимая боль. Он попытался издать крик о помощи, но из перекошенного рта вырвался только сдавленный выдох. Ноги подогнулись, стали ватными. Потапов неловко повалился на пол, ударившись затылком об угол кушетки, и затих. Смерть наступила почти мгновенно. Первый эксперимент завершился.
Несколько секунд все ошеломленно молчали, глядя на неподвижно лежавшего на полу человека, широко раскинувшего руки и ноги.
– Ну слабак, – почесав живот, разочарованно произнес Хилов. – Я-то думал, что он хоть немного еще побудет в сознании, поговорил бы с ним немного перед смертью…
– Вот и все. Рубикон перейден. Обряд жертвоприношения свершился, – как-то отрешенно выдавил из себя Муромцев. Ни на кого не глядя, он молча пошел из комнаты.
– Отмаялся, грешный, – констатировал Филимонов-младший. – А все-таки это лучше, чем расстрел.
– Хилов, – почти шепотом обратился Могилевский к ассистенту, будто боялся, что Потапов сейчас встанет. – Позови санитаров. Пускай унесут тело.
Григорий Моисеевич хоть И пытался бодриться, но все же испытывал естественный для обычного человека трепет перед таинством смерти. Тем более к которой оказался непосредственно причастен. Со временем у него это пройдет, но первого смертника – Потапова, которого он отравил, Могилевский запомнил на всю жизнь. Что-то было в этом инженере-текстильщике трепетное, дребезжащее. Он так страстно цеплялся за жизнь и всему по-глупому верил, наивно считая, что кто-то там, далеко наверху, все же разобрался в его деле, докопался до истины и признал его невиновность. Эта детская вера была в его больших, светившихся искренней радостью глазах, в худой, нескладной фигуре с длинными руками.