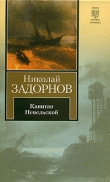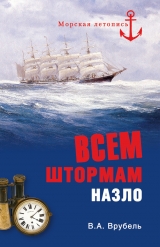
Текст книги "Всем штормам назло"
Автор книги: Владимир Врубель
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
На утлой туземной лодке Орлов обследовал берега от залива Счастья до устья Амура и в самой реке. Сделал промеры в Амуре и в канале, соединяющем его с Охотским морем, произвёл опись, выбрал пригодные для основания поселений места. Везде он налаживал контакты с местными жителями.
21 июля Орлов вернулся в залив Счастья, где дождался Невельского, который прибыл туда на транспорте «Байкал» 17 июня 1850 года. Орлов сумел в ужасающих условиях подготовить карту лимана Амура, по которой можно было плавать по Северному фарватеру в Охотское море. Невельской получил бесценный материал для реализации своих планов. В тот момент он испытывал к нему глубокую благодарность. В письме к Корсакову Геннадий Иванович совершенно искренно писал тогда: «Орлов неоценимый человек, прошу, умоляю Николая Николаевича дать ему пенсион, правда, десяти пенсионов стоит. По его милости гиляки так к нам ласковы и просят защиты». К сожалению, потом Невельской изменил своё отношение. Слишком много знал Дмитрий Иванович того, что лучше бы ему не знать.
В столичных правительственных кругах доклад Невельского встретили с недоверием и довольно холодно. Правительство, да и сам Николай I не горели желанием расширять на востоке империю. Чего-чего, а земель в России хватало, дай бог освоить, что имели. Кроме головной боли, эти приобретения ничего не давали. Понадобились энергия Муравьёва и его убедительные доводы о необходимости Амура для России и выгодах, которые это приобретение несёт. Снабжение Камчатки и колоний было крайне затруднённым. Средств на отправку судов из Кронштадта хватало лишь на редкие рейсы на другой конец света. А на лошадях, оленях и собачьих упряжках много не привезёшь. Например, корабельные канаты приходилось рубить на куски, чтобы доставить их по суше. Посмотришь на карту – вроде единая территория, а фактически Камчатка была как заморская колония. Впрочем, и в наше время её жители называют остальную территорию страны «материком».
Доводы Муравьёва возымели действие. Согласились на то, чтобы под видом торговли Российско-американской компании с гиляками основать на побережье Охотского моря, но ни в коем случае не на Амуре, зимовье секретной Амурской экспедиции. Начальником её назначили Невельского, повысив в звании до капитана 2‑го, а затем, в соответствии с правилами прохождения службы на Камчатке, и 1‑го ранга.
Экспедиция должна была скрытно проводить обследование и опись территорий, прилегающих к реке. При этом всё так засекретили, что запутали руководителей Российско-американской компании на местах, искренно считавших Амурскую экспедицию подразделением компании.
Орлова назначили в подчинение к Невельскому, не предупредив об этом его непосредственных начальников в Российско-американской компании, в результате чего неоднократно возникали недоразумения, из-за которых Невельской выходил из себя.
Штурман доложил Невельскому о проделанной работе и высказал мнение, что зимовье лучше бы заложить в другом месте, где рядом и река, и хорошее береговое сообщение с заливом Счастья. Закладывать зимовье на продуваемой всеми ветрами косе, где шум волн заглушал голоса, не говоря уже об отсутствии питьевой воды и прочих прелестях, было по меньшей мере неразумно. Но переубеждать Геннадия Ивановича было пустое занятие.
Приказы не обсуждаются, и Орлов приступил к строительству зимовья, названного Петровским, а Невельской с двумя гиляками, добрыми друзьями Орлова, убыл на судне в Аян. Гилякам предстояло сыграть роль представителей народа, заветная мечта которого – платить подати русскому царю.
Прибывших «уполномоченных» в Аяне обласкали. Завойко и преосвященный Иннокентий показали им церковную службу, одарили подарками. Невельскому весь этот спектакль нужен был для того, чтобы не только он сообщил Муравьёву о «желании» гиляков войти в состав Российской империи, но имелись бы и свидетели в виде представителей церкви и местных властей.
Всё шло замечательно, по задуманному плану. Невельской решил объявить устье Амура русским владением. Не по своему желанию, а, так сказать, по просьбе местных трудящихся.
На бриге «Охотск» он вернулся с ошеломлёнными неожиданно свалившимся на них счастьем гиляками в Петровское. Там взял на борт ничего не подозревавшего Орлова, с тем чтобы штурман показал ему путь к месту на берегу Амура, где можно организовать поселение.
Хотя ранее Невельской бодро докладывал Муравьёву, что линейные корабли могут входить в Амур, на маленьком бриге делать это он не рискнул. Оставив судно стоять на якорях у входа в северный канал, Невельской и Орлов на двух вельботах прошли до указанного Орловым места на мысе Куегда. Теперь Орлов Невельскому был больше не нужен. Он отправил его обратно на судно. Командиру брига капитан 1‑го ранга дал приказание доставить в Петровское жену Орлова с грудным ребёнком. Тот не видел супругу больше года и только по письмам и рассказам знал, что у него родилась дочь. Экипажу брига Невельской велел остаться на зимовку в заливе Счастья «для подкрепления нашего поселения и фактического влияния нашего в этой стране». Помимо олицетворения морской мощи державы морякам предстояло принять активное участие в возведении построек.
Сам же Невельской на вельботе с вооружёнными матросами, прихватив с собой даже фальконет (небольшое чугунное орудие), с двумя местными проводниками, с которыми договорился Орлов, прошёл выше по Амуру, чтобы лично убедиться, что поблизости нет китайцев.
Китайцев не было.
И тогда рядовой флотский офицер, Геннадий Иванович Невельской, принял самостоятельное решение на уровне императора, Госсовета, правительства и ещё бог знает каких высших органов государственной власти России. В решительности ему было не отказать.
Он вернулся назад к мысу, водрузил на тут же вырубленном шесте российский флаг, и объявил ошалело взиравшим на это действо гилякам, появившимся из ближайшей деревушки поглазеть на незнакомцев, что объявляет всё вокруг российской территорией. В заключение краткой речи, из которой они ничего не поняли, он приказал матросам дать залп из ружей, впечатливший гиляков до такой степени, что они в ужасе разбежались. Свежеиспечённый оплот государства на востоке он назвал Николаевским постом.
Оставив несколько матросов из числа гребцов стеречь новое приобретение Российской империи, правда, не сказав, где им спать и чем питаться, как всегда, и не без оснований, надеясь, что российский человек найдёт выход из любого положения, Невельской убыл в залив Счастья. Орлову он приказал принять командование над обоими постами, Петровским и Николаевским, бдительно следя, чтобы ни одно иностранное судно не вошло в Амур. Если же такое случится, то немедленно сообщить капитану, что всё вокруг принадлежит России. Попутно Орлову надлежало организовать строительство жилья и хозяйственных построек в обоих постах, наладить питание людей, организовать торговлю с гиляками. Словом, забот Дмитрию Ивановичу хватало, особенно если учесть, что нужно было побеспокоиться и о жене и грудном ребёнке. Дав все эти ценные указания, Невельской отправился в Иркутск, и затем в столицу, а Орлов приступил к выполнению многочисленных поручений.
Стиль работы Невельского резко отличался от того, какой был у Завойко. Завойко никогда не отдавал приказаний, не убедившись, что подчинённый может их выполнить, и, кроме того, был всегда внимателен к быту, условиям жизни людей, от него зависящих. К сожалению, Геннадий Иванович столь похвальными качествами не обладал.
Не следовало оставлять «Охотск» на зимовку в заливе Счастья. Предупреждали его Орлов и командир брига, что это опасно. Не зря Завойко требовал вернуть транспорт в Петропавловск. Внезапная буря с сильным ледоходом по заливу выбросила «Охотск» на берег так далеко, что там он навсегда и остался. На счету было каждое транспортное средство. Потеря «Охотска» нанесла удар по снабжению восточного побережья.
Невельской появился в заливе Счастья через год. Его ждали там три дома, выстроенные по чертежам и под руководством Орлова, и бренные останки «Охотска» на берегу. Позже по чертежам Дмитрия Ивановича, которому пришлось выступать и архитектором, и строителем, построили три флигеля, казарму, часовню, баню, ледник. В своих записках, перечисляя постройки, как собственные достижения, Геннадий Иванович не поленился сообщить даже о «скотном дворе» для единственной коровы, принадлежавшей ему самому.
Прибытие начальника Амурской экспедиции сопровождалось трагическими событиями. Экипаж барка «Шелихов», перевозивший личный состав и семьи участников экспедиции, в том числе и Невельского с женой, а также запасы продовольствия, наскочил на камень и моментально стал тонуть. Благодаря реакции командира, направившего судно на мель, удалось спасти людей и, позднее, часть груза. Транспорт «Байкал», сопровождавший «Шелихов», сам сел на мель в критический момент и оказать помощь тонущему судну не мог. Спасение прибыло от Орлова с берега. Из Петровского прислали две лодки, на которых перевезли людей. Сам барк спасти не удалось. Это был второй удар по снабжению восточного побережья и Камчатки. Невельские поселились в домике, где провела зиму семья Орлова. В письмах жена Невельского отозвалась о Харитинии Михайловне, что «хотя она и не светская дама, но превосходная личность, очень услужливая и очень добрая». Совместная жизнь в этой коммунальной квартире с крошечными детьми и удобствами на улице продолжалась, пока для начальника экспедиции не построили свой дом. Российским людям не требуется объяснять, что такое жизнь в крошечном домике двух семей с грудными детьми.
Лейтенант Бошняк, один из наиболее выдающихся деятелей Амурской экспедиции, написал о жене штурмана: «Как первой женщине, поселившейся на Амуре, госпоже Орловой принадлежит также честь подвига, украшающего немногих женщин. С переселением на Амур из Якутска положение её изменилось, сравнительно, в несколько раз худшую долю, и конечно имена госпожи Невельской и госпожи Орловой, по всей справедливости, должны занять место в истории Амурской экспедиции».
Можно и должно восхищаться мужеством жён офицеров, служивших в Амурской экспедиции. Но если Завойко, прибыв на Камчатку в качестве губернатора, первым делом занялся вопросами жилья, временно разместив матросские семьи по всем чиновничьим домам, в том числе и у себя в губернаторском доме, то участь семей матросов и казаков, служивших под начальством Невельского, трудно даже вообразить. Тридцать четыре мужчины, холостых и женатых, одиннадцать женщин и девять детей поселили в сарае, площадью около ста квадратных метров. Пол из накатника, одна дверь, ни сеней, ни коридорчика, ни отхожих мест. Обогревали помещение две печки, сложенные по образцу голландских, но без дверец и вьюшек. Они нещадно дымили. На этих же двух печках готовили обед и ужин. Как вспоминал один из участников Амурской экспедиции: «…Когда ни зайдёшь зимою в казарму, в особенности вечером, в ней стоял туман такой густой, что не совсем хорошо было видно. Сырость была так велика, что накатник на полу и стены были сырые. Рамы совсем обледенелые, издающие из себя пар. Если к этому прибавить вонь от нерпичьего жира, который у всех горел вместо свечей, то можете себе представить, каково приходилось этим несчастным людям больше половины суровой зимы при этой обстановке и при недостатке в продовольствии…»
Впрочем, семейная жизнь у Дмитрия Ивановича Орлова с прибытием Невельского практически закончилась. Вместо того чтобы заняться созданием более или менее терпимых условий для жизни людей, Невельской своих подчинённых постоянно направлял в командировки по осмотру новых земель. Делалось это без должной подготовки, «с самыми скудными средствами», по признанию самого Невельского. Расчёт строился исключительно на бессмертные «авось, небось, да как-нибудь».
В лютые морозы уходили офицеры в неведомые края, имея лишь компас, нарты, сухари, чай, нательный крест и «ободрение» от Невельского, что если есть сухарь и кружка воды, то работать можно. Сразу вспоминается пафосное «Надо!» из не столь далёких времен. В этом отношении советская власть ничего нового не открыла, у строителя узкоколейки Павла Корчагина было немало предшественников.
Завойко так с людьми не поступал: был требователен, особенно к офицерам, но в то же время заботлив и внимателен.
Невельской на вопрос вновь прибывшего на службу в экспедицию офицера, где же ему ночевать, широким жестом указал под ближайшую ёлку и занялся другими делами. При таком отношении даже к офицерам что уж говорить о нижних чинах. К счастью, рядом оказался Орлов, который устроил на ночлег растерянного мичмана.
Возможно, у Геннадия Ивановича чёрствость и жестокость были наследственными, передались от мамы. Её ведь дважды судили за издевательства над крепостными, которых она доводила до самоубийства. Вполне логично, что позже он резко выступал против отмены крепостного права и осуждал реформу 1861 года.
Каждая командировка офицеров и нижних чинов была подвигом, каждая была сопряжена с риском для жизни, не говоря уже о подорванном здоровье. Они возвращались до предела измотанные, больные, с ранами на ногах. В пути счастьем было купить или выменять на свои вещи какую-нибудь еду у аборигенов, которые зимой сами жили впроголодь. Приходилось питаться порой и юколой, которой кормили собак, и полусгнившим тюленьим мясом.
Совершенно справедливо название посмертных записок адмирала Невельского начинается со слов: «Подвиги русских морских офицеров…», но кому нужны были эти подвиги? Кстати, по названию можно подумать, что нижних чинов там вообще не было.
Когда сравниваешь подготовку экспедиций Завойко и Муравьёва с подготовкой экспедиций Невельского, то видно бездумное, безжалостное отношение к людям во имя высокой, в его понимании, идеи: поскорее захватить землю, вроде бы ничейную, пока это не успели сделать другие.
Подвигами на Руси не раз заменяли обычную работу. И сейчас, и двести лет назад, большинство подвигов, как правило, совершалось и совершается для исправления чьего-то безрассудства, из карьеристских побуждений, желания угодить начальству или преступной халатности. Причём совершают подвиги совсем иные люди, не те, кто создаёт драматические ситуации. Последние чаще всего прикрывают свою безответственность, или просто подлость, шелухой патриотической демагогии. Особенно часто приходилось наблюдать это на военной службе. Нет нужды приводить примеры – каждый, к сожалению, знает их великое множество.
Осенью Геннадий Иванович отправил Орлова вместе с мичманом Николаем Матвеевичем Чихачёвым на шестивесельной шлюпке вверх по реке Амгуни. Командировка длилась два с лишним месяца. Офицеры вернулись с обстоятельными сведениями, положившими начало дальнейшим исследованиям края. Через месяц, с началом холодов и снегопада, Орлов получил задание от Невельского отыскать пограничные столбы, которые видел Миддендорф, и выяснить, наблюдают ли за ними маньчжуры. Дмитрий Иванович нанял двух гиляков проводниками, и на нартах они тронулись в путь. Вернулся он со своими спутниками под Новый год.
Ночевали два месяца в снегу, иногда при 25 градусах мороза. Каждая ночёвка была пыткой. Если везло, то находили ночлег у жителей какой-нибудь деревушки. Непривычному человеку ночевать в юрте было нелегко. Нарты втаскивали внутрь, чтобы спасти продовольствие от голодных собак. Зловоние в помещении от гнилой рыбы, варева для собак, запаха никогда не мытых человеческих тел, физиологических отправлений производило на новичков ошеломляющее впечатление. К этому следует добавить дым от очага и трубок хозяев, которых не курили только грудные младенцы. Завершало всё это великолепие несметное число насекомых и множество крыс, которые, судя по всему, не очень беспокоили хозяев. Аборигены, пораженные знаниями Орлова многих местных языков и наречий, принимали его без страха и откровенно отвечали на вопросы.
Пока опасения по поводу китайцев не подтверждались. Всего в ту поездку Дмитрий Иванович проехал свыше 200 вёрст. Большую часть пустынного дикого пути они с проводниками прошли на лыжах, по колено в рыхлом снегу, прокладывая путь собачьей упряжке. Вернулся Орлов 23 декабря, а уже 10 января 1852 года он опять попрощался с женой и детьми, чтобы следовать в ещё более трудную командировку. Задор и нетерпение подстёгивали Невельского, хотелось многого и сразу.
В самые сильные морозы отправился Орлов на собаках в Тугурский край, к верховьям рек Уди и Амгуни, где на картах обозначалась граница с Китаем. Ходили слухи, что там обосновались беглые русские каторжники с Нерчинских заводов. Невельской поручил Дмитрию Ивановичу проверить, так ли это.
Орлов сам отыскал себе попутчика, тунгуса, знавшего язык нейдальцев, обитавших по берегам Буреи, и они отправились в неведомые земли. Тридцать девять дней на собаках, оленях и пешком. Двести пятьдесят вёрст в мороз, по горам, заваленным снегом лесам, сквозь метели и вьюги.
Дмитрий Иванович составил карту пути, определил широту и долготу всех встреченных селений. Но это было так, безделица, по сравнению с совершённым им открытием.
Не фантастические глубины, обнаруженные Невельским в устье Амура, где и поныне не могут решить проблему улучшения условий судоходства, решили судьбу Приамурья и Приморья, а направление пограничного Хинганского хребта между южными истоками реки Уды.
Орлов привёз сведения, что Хинганский хребет, принятый по Нерчинскому трактату 1669 года за границу между Россией и Китаем, направляется от верховьев реки Уды не к северо-востоку, а к юго-западу. Он убедился в том, что ни в Тугурском, ни в Удском краях, ни вдоль южного склона Хинганского хребта нет и никогда не было пограничных столбов и знаков, которые неведомо как узрел Миддендорф. Посланец Академии наук увидел лишь сложенные местными жителями кучи камней, которыми те обозначали стойбища и удобные перевалы, а фантазия дорисовала пограничные столбы и китайцев-пограничников. Если бы учёный муж удосужился поговорить с кем-нибудь из обитателей тех мест, то ему всё бы доступно пояснили.
Работу штурмана Орлова подтвердил и дополнил лейтенант Николай Константинович Бошняк. Трудами двух самоотверженных офицеров было доказано, что согласно точному смыслу первого пункта Нерчинского трактата весь нижний Амурский и Уссурийский бассейны до моря принадлежат России, а не Китаю. Это открытие полностью меняло ситуацию на Дальнем Востоке. Получив информацию о результатах исследований Орлова и Бошняка, русское правительство изменило свою дальневосточную политику.
Три морских офицера – Невельской, Орлов, Бошняк – и генерал Муравьёв совершили переворот в истории Российского государства на востоке.
Но вернёмся к будням наших героев. Амурская экспедиция жила впроголодь всю зиму с 1851 на 1852 год. На год каждой семье досталось по 6 фунтов чая, 10 фунтов сахара и 20 фунтов муки (1 фунт = 409,5 г). Большая часть продовольствия погибла на «Шелихове». Можно, конечно, сказать, что за всё отвечает капитан, но старшим на борту был Невельской, он вмешивался в управление судном. Завойко имел основания обвинять начальника Амурской экспедиции в том, что тот погубил два транспорта, а это не могло не сказаться на снабжении людей. Особенно тяжело приходилось рядовым матросам, казакам и их семьям. Следует ли удивляться появлению цинги, которая быстро распространилась среди обитателей Петровского поста? Болезнь унесла жизни и взрослых, и детей.
С наступлением весны Невельской поручил Орлову заведовать и нижними чинами, и всем казённым имуществом экспедиции. За короткое тёплое время построили очень много, даже примитивный кирпичный заводик. Помимо этого, Орлов по приказанию Невельского отправился в августе на маленьком четырёхвесельном ялике исследовать фарватеры лимана. Погода была отвратительная: хлестал дождь, сильный ветер поднял волнение. В мелководном лимане волны швыряли ялик так, что с большим трудом удавалось удержать его от переворота. Ни о каких измерениях глубин не могло быть и речи в таких условиях. С большим трудом Орлову и матросам удалось догрести до берега. Назад по Амуру было не вернуться. Тогда он прошёл в залив Де-Кастри, перетащил с матросами ялик через перешеек у мыса Сущёва и по речушке и озёрам вышел на Амур, по которому возвратился в Петровское.
В ночь с 15 на 16 июля 1852 года пять матросов сбежали на вельботе из Мариинского поста. Малопонятно, на что они рассчитывали, видимо, просто уже не могли терпеть каждодневную каторгу. Невельской организовал преследование. Однако дезертиров не обнаружили. Они сгинули без следа. Не нашёлся даже вельбот. А может быть, преследователи и не очень старались: матросы захватили с собой оружие, ничего хорошего их не ждало, поэтому терять им было нечего.
Все заботы, касающиеся снабжения экспедиции, Невельской свёл к написанию многочисленных рапортов и отношений.
Вместо налаживания деловых дружеских отношений с начальником Аянского порта и фактории Александром Филипповичем Кашеваровым он слал ему предписания, требуя снабдить экспедицию всем необходимым. Тот объяснял, что не может выходить за пределы норм, разрешённых ему правлением. Потеря упомянутых выше судов – удар по компании, он сам не получил из-за этого всего необходимого. И тем не менее Кашеваров из собственных скудных средств кое-что послал Невельскому, на свой страх и риск. Зная, что Орлов и Березин – сотрудники Российско-американской компании, он направлял им рекомендации и указания. Невельской, не считая нужным входить в объяснения с Кашеваровым о том, что они теперь находятся в его подчинении, запретил Орлову и Березину не только выполнять указания начальника фактории, но даже отвечать на его письма. Возникла никому не нужная конфликтная ситуация.
Нарушая субординацию, Невельской слал письма с требованиями поставок продовольствия и вещей первой необходимости в главное правление компании в Петербурге, написанные в таком тоне, будто там сидели его подчинённые. Генерал-губернатор Восточной Сибири был вынужден поставить капитана 1‑го ранга на место, сделав ему письменное внушение: «…должен заметить Вашему Высокоблагородию, что выражения и самый смысл этих бумаг выходит из границ приличия и, по моему мнению, содержание оных, кроме вреда для общего дела, ничего принести не может».
Завойко, находившийся не в лучшем положении, организовал на Камчатке заготовку продуктов на зиму и, в первую очередь, противоцинготных средств. Ничего этого не сделал Невельской, ожидая помощи из центра.
Вторую зиму в Петровском перенесли ещё тяжелее, чем первую. Она вновь унесла жизни взрослых и детей. Пережили трагедию и Невельские. У Екатерины Ивановны пропало молоко, и грудной ребёнок умер от голода на глазах у бессильных что-либо сделать родителей.
Как бы тяжело ни приходилось мужчинам, женщины страдали больше.
Когда положение стало совсем отчаянным, Невельской приказал Орлову попытаться купить продовольствие у гиляков. Только Дмитрию Ивановичу была под силу такая задача: его местные жители принимали как своего. С кем-нибудь другим они не стали бы даже разговаривать. Избытков продуктов у гиляков не было, но частью они смогли поделиться, однако и это немногое очень помогло.
Орлов убеждал Невельского не навязывать насильно гилякам чужих обычаев, не мешать их торговле с маньчжурами. Местное население по распоряжению начальника экспедиции активно крестили, привлекая выдачей новых рубашек и мелких подарков. Два человека постоянно стремились наладить дружеские отношения с местным населением – Дмитрий Иванович и жена Невельского, Екатерина Ивановна. Пытались они оказывать влияние в этом отношении и на Геннадия Ивановича, и на остальных членов экспедиции. Получалось не всегда.
У Невельского были свои методы. Получив сведения от трёх добровольных информаторов из числа местных о том, что в селении Войд ходят слухи о приходе летом маньчжур, которые перережут всех русских, он послал вооружённых казаков и матросов в селение привезти всех тамошних гиляков в Петровское. Потом туда же согнали жителей других трёх поселений. На их глазах распространителей слухов выпороли, а затем в течение трёх суток заставили таскать брёвна. Умиляет вывод, который сделал из этого случая один биограф, прославлявший Невельского: «Эта мера так хорошо подействовала на туземцев, что между ними и русскими не возбуждалось уже более недружелюбных отношений».
В Петербурге, после изучения сведений, отправленных Невельским о результатах пограничных экспедиций Орлова и Бошняка, правительство сосредоточило внимание на Сахалине, имевшем теперь стратегическое значение для будущих планов империи. С работами на материке можно было подождать, учитывая нехватку людей и средств. Невельской получил приказание Муравьёва направить десант на Сахалин и попытаться его занять. Действовать предполагалось решительно и быстро, чтобы опередить занятие острова европейскими державами и американцами, которые, возможно, об этом даже и не помышляли. Китайцев на острове не было, а японцы не представляли серьёзной угрозы.
Выполняя поручение генерал-губернатора, Невельской стал готовить десант. Для проведения разведки в августе 1853 года он сам направился к западному берегу острова на транспорте «Байкал». Орлова и пять казаков из якутов 13 августа высадили на западном побережье Сахалина.
Орлов двинулся на юг в поисках подходящего места и, как ему было предписано, около 50 градусов северной широты 30 августа основал русский военный пост, назвав его Ильинским. Пост, конечно, громко сказано, но так, по крайней мере, он значился во всех официальных бумагах. После чего, оставив трёх казаков нести службу, заключавшуюся в основном в добыче пропитания и устройстве защиты от дождя, направился с двумя другими пешком вдоль берега острова. Невельской приказал ему искать удобную бухту. В пути Дмитрий Иванович производил съёмку берега, делал промер озёр и проток, определял широту, вёл заметки, записывая собранные у местных жителей сведения, имевшие большое практическое значение для последующих действий русских моряков на Сахалине. Ему предстояло пройти восточный берег острова до мыса Крильона. Туда в половине сентября должно было прийти судно, подав условный сигнал – девять выстрелов. Если судно не появится, то ему следовало перейти к заливу Анива.
Путешествие было опасным и тяжёлым. Нередко приходилось ночевать голодными под открытым небом. Только до поры до времени крепкое здоровье позволяло Орлову справляться с такими нагрузками. Ему, самому старшему по возрасту в Амурской экспедиции, приходилось делать работу молодых мичманов и лейтенантов. Невельской с этим обстоятельством нисколько не считался, как и с тем, что в отличие от молодых офицеров у Орлова была семья, маленькие дети.
Судно Российско-американской компании «Николай» с Невельским и вновь назначенным для службы в Амурской экспедиции майором Николаем Вильгельмовичем Буссе пришло к мысу Крильона не 15‑го, а 18 сентября. Дали условные девять выстрелов, но ответа не получили.
Тогда Невельской приказал перейти в залив Анива и высадить там десант. Русские высадились близ селения, в котором находились айны и японцы. По словам некоторых историков, айны и японцы пытались отпугнуть русских, освещая в ночное время макеты батарей, но документами это не подтверждается.
Невельской писал, что десант высаживали утром, под прикрытием судовых орудий, на вооружённых гребных судах. Никакого сопротивления русские не встретили. Сбежавшимся айнам и японцам Невельской через переводчика объявил, что пришёл, «чтобы их защищать от насилий команд иностранных судов и что поэтому вовсе не желает делать им что-либо дурное; если же они не разойдутся, тогда им будет худо». Неясно, что больше подействовало: радость от появления неожиданных защитников или обещание, что им мало не покажется, если не разойдутся, – но «айны вместо ответа начали кланяться и махать ивовыми палочками, концы которых были расщеплены в виде метёлок, что вообще у местных жителей означало дружелюбие и гостеприимство».
На берег с транспорта доставили пушки, построили вооружённых матросов и провели церемонию подъёма русского флага, к которому приставили часового. Айны молча наблюдали за всеми действиями пришельцев, размышляя, как всё это отзовётся на их жизни. Отозвалось очень быстро. Размышления длились недолго. Вскоре они уже таскали на своих спинах мешки с продуктами и разное имущество, которого набралось свыше 4000 пудов. Любопытных философов быстро приставили к делу.
Весь день прошёл в трудах, а на следующее утро выяснилось, что японцы из селения исчезли. Невельской приказал привести айнского старосту. Но напрасно капитан 1‑го ранга нещадно тряс, схватив за бороду, перепуганного айна, требуя немедленно догнать и вернуть японцев. Старик, когда Невельской отпустил наконец его бороду, с трудом объяснил, что японцев уже не догнать: возможно, они ушли на лодках в море. Махнув рукой на удравших японцев и на потерявшего от страха всякий рассудок старосту, Невельской приказал готовить «Николай» к выходу в море. Командовать новым постом, получившим название Муравьёвский, он оставил майора Буссе.
Особенного беспокойства об Орлове Геннадий Иванович не выразил. Начальник Амурской экспедиции предоставил Буссе право оставить офицера у себя в посту либо отправить его сопровождать первую зимнюю почту в Петровское. Видимо, сведения, которые должен был сообщить Орлов, его не сильно волновали. Совершенно непонятно, для чего тогда он послал в столь рискованную командировку самого опытного из своих сотрудников? И уж меньше всего его трогало, что штурман год не увидит свою семью.
Дмитрий Иванович Орлов пришёл, перебравшись через горы, в Муравьёвский пост лишь 2 октября. Он задержался, потому что вернулся за оставленными им в Ильинском посту казаками, не без оснований полагая, что если не возьмет их оттуда с собой, то они так и останутся брошенными зимой на произвол судьбы.
Буссе был рад увидеть казаков, поскольку сам отбирал этих людей в Якутске. Но делить кров с совершенно незнакомым ему человеком майору, по-видимому, не хотелось. К тому же у него неважно складывались отношения с другим моряком, находившимся в его подчинении, Николаем Васильевичем Рудановским. Он решил, что усиливать «морскую» оппозицию нет смысла.
Так или иначе, Буссе предпочёл не задерживать у себя Орлова. В тот день транспорт «Иртыш», пережидавший штормовую погоду в бухте Анива, уходил по распоряжению Невельского на зимовку в Императорскую гавань. Он успел довольно далеко отойти от берега, когда Буссе приказал вернуть «Иртыш». На судне услышали сигнал – три выстрела из пушки – и к вечеру вошли в бухту.