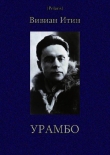Текст книги "Каан-Кэрэдэ
Избранные произведения. Т. III"
Автор книги: Вивиан Итин
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
V. Рули
Будут годы, близка их крылатая поступь, когда мы будем жить в Крыму и работать в Норильских горах; но все еще страшит людей неосязаемая бездна и, как своих освободителей, встречают они завоевателей небес. Эрмий Бронев снизился на омском аэродроме при кострах. Аэродром был пуст. Только сотни две зевак выкрикивали в сумраке «ура!».
– Я надул их, – сказал Андрей Бронев, кивая в сторону криков. – Торжественную встречу назначили утром. К чертям! А то набанкетишься так, что не встанешь. Банкеты у нас, главным образом, чтобы самим выпить и закусить… Ну, мы успеем напиться в Демске.
– Значит, летишь с нами?
– Да, все устроил!
В гостинице немцы занялись мытьем, вернулись в халатах, разошлись по своим комнатам; но добрые намерения Андрея Бронева погибли. Появились члены правления Окравиахима, затем – окрошка и другие жидкости. Нестягин, почуяв новых поклонников, заговорил об электро-авиамоторах, питающихся энергией от сверхмощных станций мира путем радиопередачи. Сверкающая оболочка его глаз излучала огонь водки и мысли.
– Это будет свобода. Наконец-то – свобода!
– А я вижу это так, – сказал человек с черной бородой. – Громадные воздушные корабли: Мистер Нобель, Лига Наций, Лос-Анжелос[3]3
«Ангел мира» – название одного из последних «цеппелинов», переданных Германией Соединенным Штатам в счет уплаты военных долгов.
[Закрыть] и другие, столь же миролюбивые, остановятся над нашими городами и будут сбрасывать бомбы, начиненные «росой смерти» или какой-нибудь еще более поэтической смесью «арсинов», «винилов», «хлоридов»…
– Это действительно гораздо ближе, – сказал Эрмий. – Простите, вы химик?
Все улыбались и розовели…
– Я завокроно.
– Вы не русский?
– Почему?
– Так, показалось, такая фамилия…
– Моя фамилия Павлов, – сказал завокроно.
– А!
Разговор зареял над страной случайностей.
– Храбрее всего глупость, – сказал Андрей Бронев. – Раз, на фоккере, я попал в туман. Я бился два часа, бензин был на исходе. Пробовал подниматься: нет конца-краю «молоку», точно зима! Спускался: под самым носом выпрыгивают деревья. А пассажиры, какие-то нэпачи, выпивают, дуются в железку. Наконец, увидел облачную воронку, приткнулся на лужок. Вышел – весь мокрый. Рассказываю одному молодчику: так и так. «Разве», говорит, «а мы думали, так и надо».
– Удивительные бывают случаи, – сказал Эрмий. – Однажды я вижу моего товарища на красавце «Фербуа», здорово мотнуло перед самым спуском. Мы подходим спокойно, аппарат совершенно цел. Смотрим, а летчик мертв. Шейный позвонок… В таких случаях надо держать голову твердо.
– Да! Ты мне напомнил, – соскочил Андрей. – Это, кажется, при тебе было. Показывает нам маэстро Верховский разные штуки на своей этажерке. Потом – бац! От аэроплана осталась вот такая куча. Я бегу, фуражку снял, упокой, думаю, Господи! Вдруг, куча зашевелилась, вылезает маэстро – целехонек. Встал, руки в карманы… – Бронев показал, как это он сделал. – «Тьфу», говорит, «ну и говно машина»!
– Все мы когда-нибудь свернем себе шею, – улыбнулся Нестягин. – Смотришь, прекрасный летчик, а все-таки разобьется…
Комната была в табачном дыму, мысли легкие, как вино, отплясывали на краю смерти и смеха. Непостижимо появились две блондинки с черными бровями и алыми губами. Женщины подливали вина, говорили: «Вы герои».
– Все зависит от системы аэроплана, – сказал Эрмий.
– Когда я на «Варнемюндэ», мне смешно думать, что может быть несчастье! На земле в тысячу раз опаснее. Мы, с гораздо большим правом, можем переделать известную морскую песенку на воздушный лад. Внизу, того и гляди, тебя переедет автомобиль или упадет на голову кирпич… А у нас – простор, широта, покой!
– Ваши машины слишком хороши, слишком! – брякнул кулаком Андрей. – Честное слово: так облететь кругом света – проще нашей карусели. Здесь, по крайней мере, есть риск!
– Я и не хвастаюсь! – засмеялся Эрмий.
– А к чему это ведет! Через несколько лет мы превратимся в каких-то вагоновожатых! На нас наденут шинели с красными кантами и медными пуговицами. Торгаши, дипломаты, всякая международная сволочь, будут садиться в наши машины, не подавая руки… Крути, Гаврила!
– Одному я уже дал в морду, – сказал Нестягин. – Помните, Андрей Платонович, в Туркестане? Я всегда открываю дверку, чтобы пассажиры ее не разбили. И вот один тип сунул мне, не знаю, сколько… Я дал ему в морду!
– Ну, – сказал Эрмий, – тогда мы можем несколько переменить профессию! Я надеюсь, мне еще придется управлять, вместо международного лимузина, межпланетной ракетой… Ты знаешь, что проекты Годдарда и Оберта близки к осуществлению?
– Риск! Риск! Риск! – повторял Андрей, пьянея.
Эрмий пил меньше, но в голове его летели и плыли вихри водки; он продолжал спор и гладил чулок женщины.
– Риск хорош, когда все взвешено! Когда же люди гибнут от шалой своей глупости, мне их не жаль. Раз, в Фоджиа, делаем мы фигурки, по очереди, подходит один итальянец, говорит: «Ну, теперь я покажу вам, чего вы еще не видали». Я говорю: «Пожалуйста!». Он поднялся метров на 50 и перевернул аппарат вверх колесами. Черт его знает, с ума что ли сошел?.. Ну, потом долго искали: где голова, где нога.
– Где голова, где нога, хи-хи-хи-хи! – заливались блондинки.
Комната покачивалась. Андрей Бронев поднял голову. Коммунисты ушли, Нестягин протискивался в дверь. Одна женщина наклонилась рядом, другая жалась к Эрмию, пела:
– Жажду я поле-та,
Дайте мне пило-та.
Бронев качнулся, толкнул дверь в смежную комнату. Из двери высунулась заспанная медвежья морда. Женщины завизжали, выскочили в коридор. Бронев опустил крючок.
– Я сыт, а ты, как хочешь…
– Спать, – зевнул Эрмий.
– Миша, Миша, Мишенька… Р-р-р-р!.. Вот твой новый хозяин. В Москве тебе пересадка, заграничный паспорт. У хозяина маленькая девочка, будешь с ней играть…
Братья разделись, погладили мускулы. Кружились и звенели двухсотсильные моторы. Эрмий развернул немецкую карту Азии, но, вместо запада, сполз к югу.
– Как это все близко! Дневной перелет и вот «Peshawar». Ост-Индия, куда тысячелетия люди ищут путей.
– Мы первые перелетели Гинду-Куш, – сказал Андрей. – Иностранцы негодяи, они крадут наши успехи. Я видел в Париже монумент в честь братьев Райт и тридцати пионеров авиации. Там нет ни одного русского имени. «Мертвая петля» приписывается Пегу, хотя Пегу сам публично признал первенство за Нестеровым и, вообще, это бесспорно…
– Гималаи, Гималаи…
Эрмий достал из бумажника фотографию, вырезанную из журнала, и квадратик любопытного документа. На афганском и индусском наречиях было написано:
Обращение к населению от английского правительства.
«Если воздушный корабль залетит за афганскую границу и господин, находящийся в нем, упадет, то человек, который его найдет, должен быстро написать письмо начальнику одной из пограничных частей о том, что найден офицер воздушного корабля. И за это извещение он получит большую награду».
Подпись была по-английски: I. Maffey.
– Такую копию каждый летчик в этих местах носил зашитой в одежду. Когда я жил там, афганцы исправно охотились за «рупиями». Они сбивали аэроплан, а потом являлись за наградой.
– Брось, брось, брось, Ермошка, свою заграничную службу! Один черт…
Эрмий выключил ток.
– Тебе вставать на рассвете. Поговорим в Москве. Спать! – Но, лежа в кроватях, они еще бормотали, засыпая, о многих вещах.
Низкая оранжевая луна висела в окне, как шаманский бубен над костром. Заидэ держала руку. Готические отвесы сланцев были темны. Все это было сегодня, но океан земли отделял его и виденья становились дымом, облаками, экстазом. Впереди, в другом измерении, он видел девушку в легком шелке, с большой жемчужиной на груди и себя – не себя, смешного офицерика в мундире, влюбленного страшной любовью и голос, надменный, как татарский кнут: «Вы забываетесь, господин поручик». Он испытывал какую-то острую благодарность этому огненному кнуту. В огне и боях он начал летать, заглушая сердце сердцем мотора, потому что жизнь в воздухе, в боях, исчислялась месяцами. Но жизнь победила, он был жив. И еще была революция, революция была против шелка и жемчуга, против шелковых отворотов фрака и жемчужных запонок Виктора Аристарховича Подбельского, предводителя дворянства и князя, ее мужа. Князь был расстрелян в Сибири, а Вероника, он знал, вернулась – кто она? Красные волны крови бились в его висках. Теперь Вероника давно была ему безразлична, но раз выпал случай, он решил встретиться с ней… Да, только взглянуть в ее глаза прямо и увидеть, что она – что она.
Сны его были спутаны и огромны.
– Европа! – крикнул борт-механик так же, как в море кричат: «Земля!».
Моторы ревели свои победные арии. Небо звенело, как синий колокол. В громе и гуле упрощенные такты знакомых напевов… Но какая мощь! Этот огромный рев можно было осязать, как воздух.
Эрмий отстегнул одеяло, положил номер «Вестника Воздушного Флота». В зеркальных окнах Варнемюндэ был Урал. Эрмий сменил борт-механика, державшего рули: по правилам перелета, выработанным в Берлине, авиатор должен был управлять аэропланом, когда внизу были опасные места. Левберг крикнул. Морщинки в углах его глазниц залучились улыбкой: версты на две ниже плыл крошка юнкерс. – «Андрей, догнали!» – закричал Эрмий. Ах, как хорошо жить! Он толкнул ручной рычаг и через минуту «Варнемюндэ» обогнал «Исследователя», как миноносец баркас. Воздушные капитаны неистово отмахали приветствия. К стеклу пассажирской кабины с любопытством прижался пятачок медвежонка. Эрмий выключил центральный мотор, стараясь не терять комариной точки юнкерса. Внизу плыли зеленые возделанные холмы, светлые реки, густые лиственные леса: дуб – липа – клен… «Европа!».
Воздух стал более влажным, легким и теплым… Может быть оттого, что внизу были неузнаваемо знакомые, по далеким – как детство – зовам, места. В садах и холмах, в зеленых, синих и серебряных тюбетейках минаретов и колоколен, разжеванный на куски жирными губами оврагов, причалил Демск. Эрмий, как школьник, вписал его в торжествующий круг полета, поджидая брата… Вот эта горка на берегу реки, на берегу тишины, разбульканной речкой «Сутолкой», – там, в теплые европейские ночи, в саду цветущей вишни, он… или – нет, разумеется не он – как смешно было думать, что это он, который теперь видит людей такими маленькими! – один знакомый мальчик, его тезка, шептал свои признания кареокой и пышнокосой девушке. Белый круг аэродрома приплюснулся на плоскогорье, за несколько верст от города, у тихих берез старого кладбища, где – давно-давно – были похоронены казачий полковник Платон Иванович Бронев – с единственной своей супругой (мама милая, милая!) – и маленькая неведомая сестренка, Люба. Кругосветный путь был закончен. Впереди, после Урала, оставался перелет над населенной равниной, такой легкий, что о нем не стоило и думать.
Эрмий снижался. Аэродром был в красных знаменах, в растянутых трапециях толп. Казалось, тысячи сандвичей пришли возвестить о невиданном гала-представленьи, полном прекрасных и смелых движений знаменитых акробатов, наездников и борцов, или, может быть, о диких схватках башкирского Сабан-Туя. Толпы, в атавистической своей тоске, ждали героев и зрелищ. Взмахи знамен и дым сигнальных костров сказали пилоту о силе и направлении ветра. Пилот снизился парашютирующим спуском, аэроплан остановился плавно и быстро, пилоту казалось, что его поддерживает нечто, летящее в нем самом, в высь. Он оглянулся. Юнкерс торопливо пыхтел на краю неба. Его нечеловеческий шум еще сдерживал рамки зеленого поля. К Варнемюндэ подбежали Шрэк и Фукуда. Оба они были в новеньких европейских костюмах, в крахмальном белье. Шрэк был красен от солнца.
– Такой азиатской встречи не было и в Азии, – сказал он. – Ну, спасибо, вы скоро обернулись.
Он честно отказывался от почестей до прилета Варнемюндэ. Герр Фукуда готовился к банкету. Поблескивая очками и золотым зубом, японец выспрашивал и долго повторял, заучивая:
– Да здравствуэт совиэцкая Россия!.. Это, ведь, Россия, герр Бронев?
Андрей подрулил к Варнемюндэ, выключил мотор. В тишину рванулся рев толпы, знамена окружили авиаторов, – лес. Кричал речь башкир. Кричали люди. Татарин с аксаковской бородой, в глубоких калошах, в жилетке поверх желтой косоворотки, в бархатной тюбетейке, наставил в Эрмия палец-коротыгу, затянул, как «апельсин-лимон»:
– Эта наша города апицер-малайка! Малайка-летайка!
Малайку-летайку подняли и понесли. За ним поплыли:
Шрэк, Андрей, Левберг, Фукуда, борт-механики. Нестягин заперся в кабину Юнкерса. Медведя вели за веревку настоящие малайки.
– Мне кажется, это не совсем еще Европа, – сказал Шрэк, покачиваясь на сильных и потных плечах.
– Сюды! Сюды! – кричал авиахимик.
С помощью милиции и комсомольцев летчиков отвоевали, отвезли в гостиницу «Башреспублика», караулили, пока они переодевались, чтобы доставить на торжественный банкет.
В СССР, окончив будничные свои дела, люди занимаются мировыми и принципиальными вопросами. Поэтому считалось, что банкет в честь иностранцев должен иметь, так сказать, дипломатическое значение. Столы были накрыты в партере Гостеатра, откуда предварительно вынесли на улицу десять рядов кресел. На балкон и в ложи выдавались специальные билеты, чтобы народ мог посмотреть на пир и послушать знаменитых местных ораторов. Речи говорились о международном положении и о пользе сближения Германии с СССР. Из кушаний и вин также преобладали основательные: пельмени, пироги, рыковка, настоянная на апельсиновых корках, плававших тут же, в графинах. Шрэк сказал, что хотя он не компетентен в вопросе о правительствах, он хотел бы, чтобы они, по крайней мере, не мешали заниматься культурной работой. Эти слова были признаны за гвоздь банкета и переданы по телеграфу в центр. В тот же день три почтенных джентльмена без всякого банкета подписали в Лондоне протокол, предусматривающий разрешение Германии на постройку ста эскадрилий истребителей и бомбовозов, в случае совместного выступления держав против большевиков.
– Да здравствуэт совиэцкая Россия! – сказал герр Фукуда.
– Банзай! – крикнули присутствующие коммунисты.
Все выпили.
После речей на сцене появились певцы, танцовщицы, музыканты. Скрипач венской оперы, окопавшийся после плена в особнячке с фруктовым садом и дебелой женой, заиграл знаменитую серенаду, до того одинаковую на всем земном эллипсоиде, что Эрмий стал испытывать муть и пошел к выходу.
– Ты куда? – остановил Андрей.
– Надо же мне зайти к Заозерским.
– Ну, расскажешь, расскажешь. Только смотри, вечером обязательно возвращайся, милый! Устроим тарарам.
Андрей колотил в спину Шрэка, втолковывая, что выпивка с начальством слишком чинная, что они обязаны с честью закончить вечер в «Башреспублике», спрыснуть их авиационную дружбу. Шрэк показывал печатные правила, качал головой.
– Брось! – возмущался Бронев. – Вы уже установили рекорд. Теперь вам переплюнуть осталось до Берлина: какие здесь правила?!
– Dura lex, sed lex![4]4
Старинное латинское изречение: «Суров закон, но он – закон» (Прим. изд.).
[Закрыть] – вздохнул немец.
– А по-русски так: «Дурацкий закон нарушить не грех»! – перевел Бронев.
Старый двухэтажный особняк Заозерских наискосок от Успенья. Здесь тишина девяти десятых человечества. Вечер. От этой тишины человеку тошно, пальцы нехорошо сжимаются – чтобы вырвать с корнем – и ловят пустоту. У Эрмия были крепко сжаты скулы; но на знакомом крыльце, вместо медной плиты – «Петр Петрович Заозерский» – вывеска – «Контора Госпароходства» и – ниже – татарские крючки. Эрмий заглянул во двор. Вместо травяной тишины, там стояли большие поленицы голубых веялок. В самом центре, в Ноевом ковчеге корыта (на Арарате двух табуреток), молодая татарка стирала белье.
– Вы не знаете, куда переехали господа Заозерские? – неизбежно сказал Эрмий.
Женщина выпрямилась, прислонив руку выше кисти ко лбу, чтобы пот не капал в глаза, смотрела, щурясь.
– Ух, ты бульна фасон кабалер!
И снова принялась за стирку.
Эрмию стало весело, он повторил. Татарка оскалила черные крашеные зубы.
– Гаспада сапсэм вышли. Абтраган гаспада!.. А стара барыня тута… – Она показала на флигелек-баню, у края двора.
Эрмий подошел к баньке, постучал.
– Кто там, экскурсия? – закашлял предбанок.
– Здравствуйте, Софья Александровна! – сказал Эрмий.
Старуха открыла. Эрмий смотрел, выжидая. Помещица стала совсем седой, сухопарой. Платье и обувь ее были стары и очень тщательно зачинены, опрятны.
– Чем я обязана? – спросила она громко: голос ее приказывал всю жизнь.
– Вы меня не узнаете?
Старуха вгляделась.
– Эричка! – улыбнулась она. – Слыхала, слыхала! Так, значит, не врут?.. Ну, проходи, милый. Посмотри, как нас Бог наказал.
Банька была неоштукатурена. На бревенчатых стенах – занавесочки, картинки, фотографии. По бортам комнаты плыли деревянный стол и деревянная кровать с белком подушек. Прямо, у стены, как Баба-Яга, присело пианино. За нотами, на старинном дубовом стуле, согнулась девонька-комочек, тихоня.
– Ступай, Веринька, на сегодня будет, – сказала старуха.
Веринька сползла, перекрестилась на угол в иконах, растаяла.
– Забыли товарищи, не отобрали, – пояснила Софья Александровна, вздохнув на золотую жуть. – А Петра Петровича убили, вы знаете? Взяли заложником, когда наши подходили к городу, посадили в баржу. Оттуда никто ведь не вернулся.
Рассказывала она беззлобно, строго. Быть мученицей господней, за грехи мирские, разве не почетнее богатства? Но Эрмий не видел сердца старой гордости, дивился. Он чиркнул спичку, закурить. Под столом кукарекнул горластый петух.
– Вот, так и живу, ни с кого не прошу, – говорила, прямясь на мореном дубе, старуха. – Ученицы у меня, курочки… Да мне много ли надо? По гостям я не хожу, хотя осталось еще несколько достойных фамилий. Некоторые, из татар в особенности, даже хорошо живут. Все-таки есть своя заручка. Только ведь, раз пойдешь – начинаются угощения; а я отплатить тем же не могу. Вот и сижу.
Эрмий расширил грудь. Пауза.
– А Вероника Петровна с вами живет?
Старуха закивала.
– Знаю, мой милый, знаю! Нет, Никочка нанимает вдовью комнату… Ох, трудно ей, милый, трудно! Нам-то старикам все равно, последнее испытание…. Пробовала Никочка на сцене играть, в клубе этом. Но, ведь сам знаешь, нынешних-то. Сижу раз я за кулисами, смотрю на нее. Играет Никочка, хоть уж не как настоящая актриса, но видно старается, старается. Кончился акт. Наскакивает режиссер, что ли, кричит… – Софья Александровна понизила голос, чтобы смягчить ругань: – «Сволочь, прошла через стену!». А какие там стены, занавески одни!.. Ну, тут я подошла и прямо так ему и сказала: «Хоть и ваша власть, а хамская!».
Красная жизнь гордости снова плеснулась за трупом щек.
– А теперь… – прошептал Эрмий.
– Теперь Никочка пианисткой служит. В ресторане «НЭП». Ну, ничего, живет. Вот только, как узнала про тебя, пришла ко мне пьяненькая, Бог ей судья, и стучала кулаком по моему адресу…
На крыльце затопали шажки – зазвенькали бубенчики – ребят.
– Вот теперь наверное экскурсия! – поднялась Софья Александровна.
– Какая экскурсия?
Эрмий не мог сдвинуться.
– А это, Эричка, учительница тут одна. Потешная! Все водит ребят смотреть, как живет бывшая буржуйка… Пусть смотрят, пусть!..
Она впустила в комнату молоденькую девушку, стриженую, белобрысенькую, курнофеечку. Девица кричала малышам, чтобы не лезли, становились в очередь. Они протискивались, наполняли комнату, как банки с цветами.
– Вот, детки, – сказала хозяйка, – если бы вы пришли в гости в старое время, я бы подарила вам шоколадных конфект.
– Софья Александровна! – сказала курнофеечка строго; – не забывайте, что дети у вас с воспитательной целью.
– Ну, молчу, молчу!
Эрмий встал.
– Завтра мне лететь, – сказал он. – Я хотел бы взглянуть на Веронику Петровну… Где этот ресторан, «НЭП»?
– Повидайся, повидайся! – закивала Софья Александровна. – Утешь доченьку. Это тут недалеко, на Воздвиженской, номер 16.
– На Октябрьской, – поправила девица.
– Ну, как по-вашему, там…
– И не ресторан, а пивная.
Эрмий поцеловал руку Софьи Александровны, бормоча: «Не буду вам мешать»… и еще что-то. Ему было почти жутко. Старуха обрадовалась, поцеловала в лоб.
– Вот, дети! – воскликнула она. – Это авиатор! Тот, который прилетел к нам на большой птице! Вот видите, какие люди бывают у буржуек!..
– Софья Александровна, – опять прикрикнула девица, – вы обещали!..
Эрмий захлопнул за собой дверь. Были сумерки. В небе, нестерпимым зовом, плыла вечерняя Венера. Он шел по знакомым плитам так же, как летел через Великий Океан. Кругом было такое же неясное, нераспознаваемое вещество, как эта улица. Он видел звезды и слушал рев моторов. И еще была память: кипарисы – факелы мрака, пальмы – «фейверк вееров», – цветы величиной с голову женщины и, от огромной звезды, в море – светлая тропа, точно это не звезда, а маяк. Мир! Мир! Мир!..
– Ты за нее не заступайся! За такую шваль не заступайся! Я ей в морду дам и все!
Эрмий остановился. Булькал рояль, светили фонари: «НЭП». Он вошел. Таперша жарила «Пупсика». Люди советских пивных, одинаковые везде, смотрели на Эрмия. И, в первый раз в жизни, ему стало неловко, что на нем хороший костюм.
– Вам какого: пильзенского или мартовского?
Голос был знакомый, как плевок.
– Литр! – сказал Эрмий.
Рядом сидел извозчик, башкир. Эрмий, как в детстве (этот город – детство), спросил:
– Извозчик, ты билибеевский?
– Моя? Моя – Билибей…
Эрмий пил залпом и смотрел на тапершу. Подкрашеная полная женщина. – Так это и есть это! – Ему хотелось уйти. Мир вокруг был иррационален, он не мог войти в координаты его точного мозга-победителя; но ему было жаль сделанных усилий. Им опять овладело странное ощущение экзотики… Ах, качнуть так немного, развеять и чем это не кабачок в Коломбо? Вспомнил, как любил он в детстве «Музу Дальних Странствий». Теперь красавица была его, по праву, он вернулся и видит: вот она, страна тысячи и одной ночи, здесь! – Впрочем, разве «Билибей» это не – «Билли-Бэй», и разве «Башкирия» не звучит также, как «Мадагаскар»? Мир! Мир! Мир!..
Таперша отпупсикалась. Эрмий почувствовал все свое тело, сильное, чистое. Теперь она его видит. Смотрит, разумеется, так: «Хорошо одетый молодой человек»… Полная рука шмыгнула в сумочку, достала зеркальце – взбить свои коки-завитоки. Эрмий проглотил остатки пива: надо кончать! Он встал и пошел прямо к ней, через проволочные заграждения взглядов. Она стала краснеть и бледнеть, суетиться и вдруг закричала, точно бросилась вниз: «Эря!». Он отступил на полшага, подумав, что она может броситься ему на шею, протянул – далеко вперед – руку и, улыбнувшись, как японец, вежливо сказал: «Здравствуйте!».
– Я сейчас, – метнулась она. – Выйдем поговорить. Не здесь же!
Она, как на сцене, прошла сквозь кумачовую стену, вернулась в шляпе, с зонтиком. За ней вышел татарин, поглядеть на малайку-летайку. Авиатор галантно пропустил тапершу вперед, чтобы она не уцепилась за руку. Тогда, от одного из столиков, взвился черненький юноша:
– Вероника Петровна, а как же вы-с?.. мы-с?..
– Тосик! – взвизгнула она и вышла.
Эрмий пошел рядом. В его сознании легко, голубой птицей, реял хмель.
– Завтра я буду в Берлине, – сказал Эрмий. – Ну, рассказывайте…
Она заплакала. Он не ждал, что это будет так скоро. Он приласкал ее и она прислонила голову к его плечу. От нее воняло пудрой. Авиатор отвернулся. Недалеко, в кино, пыхтел дизель, веял бодрый запах мазута.
– Успокойтесь же! – сказал он. – Пойдемте! Пойдемте к вам.
– Ох, нет, – сказала она, вытираясь. – Ко мне неудобно.
– Пойдемте, тогда, побудем у меня в номере.
– Я не знаю, Эричка, как…
Он повел ее. Гостиница была недалеко. Они шли «под-ручку», и говорили о том, о чем не думали. Вдруг, когда они подходили к крыльцу, из окошка верхнего этажа метнулась большая сигнальная ракета, ослепив улицу. Эрмий вспомнил, что брат устраивает «тарарам» и остановился.
Из его окна на целый квартал летел грохот, гармошка, гик. Милиционер сорвался с поста, прошел, подпрыгивая, мимо.
– Ох, нет, милиция… Эричка, я не могу…
Он протянул руку.
– Да, наши ребята разгулялись.
– Неужели мы так и расстанемся! – сказала страстно. И сердце его ударило громче. Он молчал. – Вы хоть бы меня на аэроплане покатали! – нашлась она. – Все-таки память будет… – Искра разрядилась. Он видел, что ей нужен не полет, а больше всего – чтобы рассказывать, как она летала; но ему стало жаль ее.
– Хорошо, – сказал он, – я возьму вас в пробный полет. Только надо прийти очень рано утром.
– Вот, прелесть! прелесть! Какой ты милый! – опять заиграла она: – Я приду к вам пораньше и мы поедем с тобой в автомобиле.
Эрмий поцеловал руку, чтобы скорее проститься. Она ушла, оглянувшись, повеяв кистью. Он стоял несколько минут один, в тени. В его сознаньи осталась пустота. Мир стал холодным – схема. Ромбы. – Кубы. – Одиночество. – Лед. Эрмий вздрогнул, вынул блокнот, толкнул дверь. В желтом свете – конторочка телефона, швейцар в косоворотке, с желтым лицом. – «Вы пойдете на телеграф. Сдачи не надо». – Написал:
Улала до востребования Зое Старожиловой
Милая как хорошо если бы вы были здесь
Канкэрэдэ.
– О-ткрой-те, чер-ти-и!!!
Он провалился, вместе с дверью, в облака, в дымную синь, в пламя красных рож.
– А-а-а! – заорал Андрей. – А я чуть тебя не огрел. – Он покачал кулаком. – Думал опять милиция. Видел ракету? Это мы тебя вызывали!.. Ну-ка, налить ему. Пей!
– Давай!
Эрмий опрокинул в рот стакан водки. Лед мира загорелся.
– Р-р-р-р!
– Гер-р Фукуда! видели! Что значит русский!
– Очень трудно! – сказал repp Фукуда.
– Ну, как твоя возлюбленная?!.. – рыгнул Андрей.
– Моя возлюбленная… Кабтраган.
– Abgetragt? – буркнул Шрэк.
– Вот именно… Налей!
– Так.
Левберг напился просто и колоссально, спал в углу. Андрей и Шрэк объяснялись в любви.
– На войне был?
– На восточном фронте.
– Ну, давай, выпьем на брудершафт. Я, может быть, тебя из пулемета поливал.
Они поцеловались, уколов друг друга усами.
– Русская свинья!
– Немецкая колбаса!
Нестягин не говорил по-немецки. Он держал неизменно улыбавшегося японца и, по сродству – если не душ, то очков, совершенно одинаковой формы и оправы – учил его мелодекламации собственного изобретения: он называл, по очереди, правительства всех стран и прибавлял традиционную ругань. Политика было единственной областью, где он признавал национальный способ выражения своих мыслей. Японец тщательно повторял; но когда очередь дошла до микадо, он потребовал, чтобы ему объяснили, в чем дело.
– Наш микадо бедный: он получает всего полмиллиона иен и занимается благотворительностью.
– Скажите ему: ерунда, – шепнул Эрмий.
– Ерунда! – сказал Нестягин.
Японец покраснел, как учительница, исчез.
– Где же механики и герр Грубе? – закричал Эрмий, увидев, что комната пустеет; но Шрэк сжал его колено, трезвея.
– Механикам надо утром быть у машин. А Грубе… – Шрэк докончил жестом.
Из самой сизой тучи, с полу, взвыла «тальянка». Голос, пьяный, как дым, зачастил:
«Балалайка-балалайка,
Балалайка-стуколка!
Мой миленочек малайка,
А я ево куколка!»
Эрмий нагнулся. У мраморного умывальника лежал парень в солдатской гимнастерке, мокрый и белый.
– Где вы достали такого?
– В Доме Крестьянина, – сказал Андрей. – Надо же показать иностранцам русское искусство!.. Постой. – Он зажал парню нос, влил водки. – Хвастался, черт: перепью, дескать, летчиков. Лежи!
Дверь отворилась.
– Вон!!!
Молодой человек в милицейской форме вежливо поклонился:
– Позвольте представиться.
Андрей вгляделся.
– А! Ну вот, теперь достаточное количество ромбов. Садитесь, садитесь…
– Начальник милиции, Дроздов.
– Выпейте, товарищ Начмилдрозд! Вот этого!
Начмилдрозд выпил.
– Нельзя ли, граждане, как-нибудь потише?
– Я прилетел и отдыхаю! – качнулся Андрей.
– Собственно говоря, я ничего не имею, – сказал, виновато, Начмилдрозд, – но… пассажир сюда один приехал… – Голос у начмиля отсырел. – Следователь ЦКК! Понимаете?
– Слышь, Ермошка, кака!
– Прямо, потом направо, – открыл тот невидящие глаза.
Андрей загрохотал.
– Начмилдрозд ты или баба? Раз у нас баб нет, значит остается шуметь! Имею я право в своем номере…
Начмилдрозд быстро потер лоб: – Эврика! Вернейший способ избавиться от гнева Змея Горыныча и, в придачу, провести ночь с такими знаменитыми людьми: – Есть девочки! – сказал Начмилдрозд и потом долго ручался за их качество и безопасность.
– Идем! – встал, примериваясь к бурной погоде, Андрей. – Кто еще?
– Я летел через Сибирь… какая пустота!.. нет, надо вырывать пограничные столбы, – бредил Шрэк и шел.
Эрмий отмахнулся, он едва стоял; Андрей грохнул насчет того, что завтра он будет с жинкой, подхватил, сунул ему гармошку:
– Жарь, Ермошка, на гармошке!
Ермошка жарил.
– А ты?
– Что-вы-что-вы-что-вы! – ответил Нестягин и, как щит, взвалил Левберга.
Андрей неприлично ткнул его, пропел из «Сказок Гофмана»:
– «Вся суть в механике»!
И вот, заведенные, с грохотом и громом они разом вывалились, поплыли. Следователь, Змей Горыныч, маленький, больной, шагал по коридору, не мог ни спать, ни работать. Увидев своих врагов, хотел высказать им коллекцию горьких истин, но вдруг вспомнил: гром битв, ночевки в канавах траншей, колыбельные песни пуль. Революция… Авиация – тоже революция. Он махнул рукой.
Японец смотрел на шествие, приоткрыв дверь своей комнаты. Японец был в розовом кимоно, в желтых соломенных туфлях. В левой руке он держал алфавит картоночек, заменявших ему блокнот, правой манил Эрмия.
– Герр Бронев, что это такое го-ро-шо?.. Горничная никак не могла мне объяснить и все смеялись, вот так…
– Хорошо?
– Хорошо.
– Ну, вот, когда она вас поцелует, это – горошо!
Японец качнулся и вынул из-под кровати посуду самого определенного назначения.
– Горошо?
Они стояли друг против друга: японец – маленький, улыбчивый, в кимоно, в туфельках, совсем – сказка, и – пилот, в ловком полуспортивном костюме, со значками призов и побед, всклокоченный, прекрасный, словно Фузи-Яма, извергающийся хохотом.
– Ерунда! Вот это, Фукуда сан, сущая е-рун-да! – ляпнул он по-русски и пошел в муть, в качку, в облака.
Руки его, выправляя крен, двигались, как эйлероны.
– Р-р-р-р… ну и болтовня! – правил Эрмий. – 45 градусов. Ах, как хорошо! Делать кругом, что хочешь! Жить! – Он раздевался, бросая на пол одежду. Вспомнил, что едва прикрыл дверь и провалился в неощутимые простыни. – Заидэ, Зоя, жизнь! Я прилечу к тебе через океан. Через волны и волны!
Японец записывал автоматическим пером свои дневные впечатления. По договору с «Асахи», он должен был получить за свои очерки особый гонорар. Он писал о том, что обед в России (эти изумительные «щи»!) стоит вдвое дешевле, чем в Японии и, следовательно, будет весьма патриотично, если русские жиры поплывут навстречу японским шелкам и японской дешевке. Ибо тогда те, кто любят носить русские рубахи и приветствовать друг друга бурлящим и жарким словом «товарищ», станут гораздо спокойнее. Он писал также о том, какие эти русские – чудаки: они живут, например, теснее японцев, а для маленьких птиц строят специальные домики, которые называются «скворешницы»…