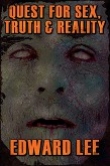Текст книги "Порнография"
Автор книги: Витольд Гомбрович
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
Как жаба, застывший. Я не мог понять, что его так заело. Гордость? Ревность? Обида? Или ему просто было не по себе, и он не знал, как к ней подступиться, – а мне хотелось крикнуть ему, чтобы он хотя бы обнял ее, руку бы на нее положил, от этого могло зависеть спасение! Последняя спасительная соломинка! Его рука обрела бы на ней мужественность, тут бы и я подмазался со своими руками, и как-нибудь пошло-поехало! Насилие – насилие в этой гостиной! Но ничего нет. Время идет. Он не шевелится. Это было как самоубийство – фиаско – фиаско – фиаско, – девушка встала, ушла… а за нею и я.
* * *
Подали ужин, во время которого мы вели в присутствии пани Марии банальные разговоры! После ужина я не знал, чем заняться, казалось бы, в часы, предшествующие убийству, должно быть много работы, однако никто из нас ничего не делал, все разбрелись… возможно, потому, что действие, которое должно было разыграться, имело потаенный, даже непотребный смысл. Фридерик? Где Фридерик? Он тоже куда-то исчез, и это исчезновение вдруг меня ослепило, будто мне завязали глаза, я не знал, что к чему, и должен был его отыскать, сейчас же, немедленно, – и начал поиски. Я вышел во двор. Собирался дождь. Горячая сырость в воздухе, нависшие тучи ощущались в беззвездном небе, иногда поднимался ветер и кружил по саду, потом затихал. Я шел по саду почти ощупью, лишь угадывая дорожки, со смелостью, которая необходима, когда идешь вслепую, но каждый раз знакомый силуэт дерева или форма куста указывали, что все в порядке и я нахожусь там, где и предполагал находиться. Однако я обнаружил, что совсем не подготовлен к такому постоянству сада, оно, скорее, удивляет меня… меня бы меньше удивило, если бы сад в потемках вывернулся наизнанку. Эта мысль всколыхнула меня, как лодку в открытом море, и я понял, что уже потерял из виду берег. Фридерика не было. Я забрел до самых островов, и странствия лишали меня рассудка, каждое выплывающее передо мной дерево, каждый куст были обрушивающейся на меня фантасмагорией – ибо хотя они и были, какими были, но могли быть другими. Фридерик? Фридерик? Мне отчаянно не хватало его. Без него все казалось неопределенным. Куда он скрылся? Что делает? Я возвращался в дом, чтобы его там поискать, и вдруг натолкнулся на него в кустах перед кухней. Он по-хулигански свистнул мне. Кажется, он был не очень доволен моим приходом и даже несколько сконфужен.
– Что вы здесь делаете? – спросил я.
– Голову ломаю.
– Над чем.
– Над этим.
Он указал на окно чулана и одновременно показал мне что-то на ладони. Ключ от этого чулана.
– Теперь уже можно говорить, – сказал он свободно и громко. – Письма излишни. Уже она, ну, вы понимаете, эта… ну… Природа… не сыграет с нами шутки, потому что дело слишком далеко зашло, ситуация уже определилась… Нечего с ней цацкаться!… – Он говорил как-то странно. От него исходило нечто особенное. Целомудрие? Праведность? Чистота? И он, очевидно, перестал опасаться – вот сломал веточку, бросил ее на землю – раньше он три раза подумал бы: бросать или не бросать… – Я взял с собой этот ключ, – добавил он, – чтобы подтолкнуть себя к какому-то решению. Относительно этого… Скужака.
– И как? Вы решили?
– Конечно.
– Можно узнать?
– Пока что… нельзя. Вы все узнаете в свое время. Или нет. Я расскажу вам. Вот, пожалуйста!
Он вытянул вторую руку – с ножом – большим кухонным ножом.
– А это что еще? – спросил я, неприятно пораженный. Внезапно я впервые со всей очевидностью понял, что имею дело с безумцем.
– Ничего лучшего я не смог скомбинировать, – признался он, как бы оправдываясь. – Но и этого достаточно. Ибо если там молодой убьет старшего, то и здесь старший убьет молодого, – вы улавливаете? Это образует целое. Это их объединит, всех троих. Нож. Я уже давно знал, что их объединяет именно нож и кровь. Разумеется, это необходимо сделать одновременно, – добавил он. – В тот момент, когда Кароль всадит свой нож в Семиана, я всажу свой в Юзю-у-у-у-у-у!
Вот так идея! Безумный! Больной – сумасшедший – как же он его зарежет?! Однако где-то там, на другом уровне, это безумие было чем-то совершенно естественным и даже само собой разумеющимся, это было реально, это бы их сплотило, «соединило в целое»… Чем более кровав и страшен был бред, тем сильнее он их объединял… и, будто этого было мало, его мысль, больная, отдающая психлечебницей, дегенеративная и дикая, мерзкая мысль интеллектуала, вдруг ударила, как цветущий куст, ошеломляющим ароматом, да, это была захватывающая мысль! И она меня захватила! Откуда-то с другой, с «их» стороны. Эта кровавая консолидация убивающей юности и это объединение ножом (двух юношей с девушкой). Собственно, не имело никакого значения, какая жестокость свершится над ними – или ими, – любая жестокость, как острая приправа, лишь усиливала свойственное им обаяние!
* * *
Невидимый сад ожил и опутал своими чарами – несмотря на сырость, темень и этого чудовищного безумца, – я глубоко вдохнул в себя его свежесть и сразу окунулся в чудесную, горьковатую, душераздирающе пленительную стихию. Опять все, все, все стало молодым и сладострастным, даже мы! Но… нет, нет, я не мог на это пойти! Это переходит все границы. Это недопустимо – невозможно – зарезать парня в чулане – нет, нет и нет…
Он засмеялся:
– Не волнуйтесь! Я хотел только проверить, не сомневаетесь ли вы в моем рассудке. Что вы! Куда там! Это так… мечты… от злости, что я ничего не могу придумать с этим Скужаком. Идиотизм, и все!
Идиотизм. Действительно. Когда он сам это признал, идиотизм выплыл передо мной, как на блюде, и мне стало неприятно, что я дал себя провести. Мы вернулись домой.
12
Мне уже мало что осталось рассказать. Собственно, дальше уже все пошло хорошо, лучше и лучше, вплоть до самого финала, который… ну, превзошел наши ожидания. И было легко… мне даже смеяться хотелось, что такая гнетущая проблема разрешается с такой окрыляющей легкостью.
Моя роль снова заключалась в том, чтобы караулить комнату Семиана. Я лег на кровать, навзничь, подложив руки под голову, и прислушался – мы вступили в ночь, и, казалось, дом заснул. Я ждал скрипа ступеней под ногами парочки убийц, хотя было еще слишком рано, оставалось пятнадцать минут. Тишина. Во дворе караулил Иппа, Фридерик внизу, у входа. Наконец, ровно полпервого, ступени где-то внизу скрипнули под их ногами, наверняка босыми. Босыми? Голыми? Или в носках?
Незабываемые мгновения! Снова раздался тихий скрип ступеней. Почему они так крались – естественней было бы, если бы она открыто взбежала по лестнице, таиться должен только он – но ничего странного, что и им передалась атмосфера заговора… и нервы у них должны быть, что ни говори, напряжены. Я почти видел, как они переступают со ступеньки на ступеньку, пробуя ногами лестницу, чтобы было поменьше скрипа: она впереди, он за ней. Грустно мне стало. Разве то, что они так вместе, вдвоем крались, не было лишь дрянным суррогатом того, другого, стократ более желанного, когда он бы крался, а она была бы целью его крадущихся шагов?… Но все же их цель в эту минуту – не столько Семиан, сколько его убийство – была не менее плотской, греховной и обжигающе чувственной, и они подкрадывались с не меньшим волнением… Ах! Еще раз скрипнуло! Молодость приближалась. Это было невыразимое блаженство, потому что под их ногами страшный замысел преображался в обворожительную игру, это было похоже на дуновение свежего ветерка… только… была ли эта крадущаяся юность действительно чистой, свежей, простой и естественной, была ли невинной? Нет. Она была «для старших» – если эти двое и впутались в авантюру, то только для нас, услужливо, чтобы нам понравиться, чтобы с нами пофлиртовать… и моя зрелость «для» юности должна была встретиться на теле Семиана с их юностью «для» зрелости – вот, пожалуйста, такое rendez-vous!
Но в этом-то и состояло счастье – и гордость – какая гордость! – и что-то еще большее, действующее, как спирт, – что они с нами в сговоре, что они по нашему наущению и чтобы услужить нам так рисковали – и так крались! – пошли на такое преступление! Это божественно! Это невероятно! В этом таилось самое потрясающее чудо из всех чудес света! И я, лежа на кровати, просто обезумел от мысли, что мы с Фридериком послужили источником вдохновения для этих ног – ах, снова скрипнуло, теперь уже значительно ближе, и затихло, наступила тишина, а я подумал, что, может быть, они не выдержали, кто знает, может быть, так, вместе подкрадываясь, они впали в искушение, отклонились от цели, обратились друг к другу и теперь, забывшись в объятии, открывали друг другу свои запретные тела! Во тьме. На лестнице. Тяжело дыша. Так могло быть. Неужели… неужели?… Но нет, новый скрип развеял надежды, ничего не изменилось, они все так же идут по лестнице – и тогда стало ясно, что надежда моя совершенно, ну совершенно беспочвенна, это вообще не входит в расчет, отбрасывается их стилем. Слишком молоды. Слишком молоды для этого! И должны прийти к Семиану и убить. Но тогда (на лестнице снова затихло) я задумался, а хватит ли у них решимости, может быть, она уже схватила его за руку и тянет вниз, может быть, им представилась вся безмерная тяжесть предстоящего, давящий груз этого «убить». Что, если они поняли и ужаснулись? Нет! Никогда! Это тоже исключено. И по тем же причинам. Их эта пропасть притягивала потому, что они могли ее перепрыгнуть, – их легкость стремилась к самым кровавым историям потому, что они обратили это во что-то другое, – и их участие в преступлении означало, по сути, его уничтожение, совершая преступление, они его отрицали.
Скрип. Их восхитительная преступность, этот легко крадущийся грех (юношеско-девичий)… и я почти видел их ноги, примирившиеся втайне, их полуоткрытые губы, слышал сдерживаемое дыхание. Я подумал о Фридерике, который те же звуки ловил внизу, в прихожей, где был его пост, подумал о Вацлаве, представил их вместе с Ипполитом, с пани Марией, с Семианом, который, наверное, как и я, лежал на кровати, – и вдохнул аромат девичьего преступления, юношеского греха… Тук, тук, тук.
Тук, тук, тук!
Это она постучала в дверь Семиана.
Здесь, собственно, и кончается мой рассказ. Финал был слишком… складным и слишком… ошеломляющим, слишком… легким и гладким, чтобы я мог рассказать о нем достаточно правдоподобно. Ограничусь изложением фактов.
Я услышал ее голос: «Это я». Ключ повернулся в замке двери Семиана, дверь приоткрылась – удар и падение тела, которое, видно, рухнуло на пол. Мне показалось, что парень для верности еще дважды пустил в ход нож. Я выскочил в коридор. Кароль уже зажег фонарь. Семиан лежал на полу, когда мы его повернули, увидели кровь.
– В порядке, – сказал Кароль.
Но это лицо, странно повязанное платком, будто болели зубы… это был не Семиан… и только через несколько секунд мы поняли: Вацлав!
Вацлав вместо Семиана, на полу, мертвый. Но Семиан тоже был мертв – только на кровати – лежал на кровати с раной от ножа в боку, уткнувшись носом в подушку.
Мы зажгли свет. Я приглядывался ко всему этому, охваченный какими-то странными сомнениями. Это… это не представлялось реальным на все сто процентов. Слишком складно – слишком легко! Не знаю, достаточно ли ясно я выражаюсь, я хочу сказать, что в действительности это не могло быть так, потому что какая-то подозрительная стройность прослеживалась в этом решении… как в сказке, как в сказке… Наверное, вот как это случилось: Вацлав сразу после ужина пробрался к Семиану через дверь, соединяющую их комнаты. Убил его. Без осложнений. Потом дождался прихода Гени с Каролем и открыл им дверь. Все сделал, чтобы они его убили. Без осложнений. Для верности погасил свет и повязал лицо платком – чтобы его в первую минуту не узнали.
Ужас моего раздвоения: ведь грубая трагичность этих трупов, их кровавая правда была слишком тяжелым плодом для столь тонкого деревца! Эти два застывших трупа – эти двое убийц! Будто смертельно серьезная идея оказалась пробитой насквозь легкомыслием…
Мы вышли из комнаты в коридор. Они посматривали друг на друга. Ничего не говорили.
Мы услышали, что кто-то бежит по лестнице. Фридерик. Увидев Вацлава, он остановился. Махнул нам рукой – непонятно, что это должно было означать. Вытащил из кармана нож, подержал его мгновение в воздухе и бросил на пол… Нож был в крови.
– Юзек, – сказал он. – Юзек. И его сюда.
Он был невинным! Был невинным! Невинная наивность исходила от него! Я посмотрел на нашу парочку. Они улыбались. Как обычно улыбается молодежь, попав в щекотливую ситуацию. И на мгновение они и мы, в нашей катастрофе, посмотрели друг другу в глаза.