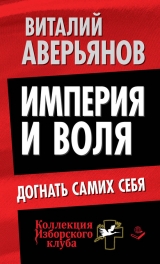
Текст книги "Империя и воля. Догнать самих себя"
Автор книги: Виталий Аверьянов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Что касается отмены опричнины в 1572 году, А. И. Фурсов достаточно аргументировано опровергает этот миф. Правда в том, что тогда был отменен термин «опричнина», но не сама его функция в государстве. То, что наследовало опричнине, отныне называлось «двором» (был избран более традиционный и менее пугающий термин). Главное – не было никакого разочарования в опричнине. Задачи, перед ней поставленные, она в основном решила.
То, что царь не разочаровался в ней, на мой взгляд, подтверждается в его завещании, черновик которого был составлен, по всей вероятности, в 1572 году и никак не раньше. В нем Иоанн написал: «А что есми учинил опришнину, и то на воле детей моих, Ивана и Федора, как им прибыльнее, и чинят, а образец им учинил готов»[64]64
Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей. – М.-Л., 1950. С. 444.
[Закрыть]. Иными словами, опричнина передается детям как наследство и завет царя, более того, как готовый образец.
Первоначально опричнина была использована государем как инструмент перехватывания реального суверенитета (в этом состоял главный политический аспект опричнины). Суверенитет был перехвачен чрезвычайно эффективно и в чрезвычайно короткие сроки. То, что в истории занимает обычно столетия, было проделано за несколько месяцев. То было виртуозное политическое решение, инновация, которая привела к возникновению своеобразного русского типа власти – самодержавия.
«Социальное происхождение самодержавия, – отмечает Д. Н. Альшиц, – неразрывно связано с опричниной. А происхождение, как известно, можно отрицать, но нельзя «отменить»»[65]65
Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России: Государство Ивана Грозного» – Л., 1988. С. 242.
[Закрыть]. Огромное значение царского ордена, с точки зрения Альшица, показал Собор 1561 года, в ходе которого опричнина выполняла роль эффективной диктатуры по отношению к другим институтам.
В опричнине, на мой взгляд, было осуществлено выращивание имперского позвоночника России. Это было достигнуто путем перепахивания элиты, лишения ее родовой силы, связи с землей, феодальными кланами, путем разрушения малых местных пирамид-землячеств и построения вместо них большой и всевластной опричной иерархии, «особой царской территории» (территории как в географическом, так и в символическом смыслах) – превращение государства в по сути национальное и христианско-имперское. Тех, кто представлял интересы частей и готов был идти за них до конца, Иоанн за время своего царствования «перековал» в служителей национально-имперского единства. Кого-то он перековал силой убеждения, кого-то через страх и насилия. Кого-то, кто по тем или иным причинам не мог быть перекован, он просто уничтожил. И хотя полностью изменить элиту он был не в силах, но импульс, преданный им русской аристократии, вектор, который он задал, оказался стратегически победоносным.
Это была виртуозная политика – и в результате ее Россия получила шедевр самодержавия, систему более сложную и совершенную, более устойчивую чем европейские абсолютные монархии и восточные деспотии. Сила и устойчивость самодержавия объясняются, в частности, тем, что через его эмбрион-опричнину произошло теоретическое «уравнивание всех пред лицом государя» (С. Ф. Платонов). Более того, в опричнине сложилась прямая «сферы связи с царем» для тех, кто прошел тщательный государев отбор (или «перебор людишек»).
Опричнина – это правда России XVI века. Дух опричнины правдив и сейчас, отвечает и сегодняшним задачам жизни. Опричнину нельзя законсервировать, увековечить, так же как нельзя приложить ко всем ситуациям и эпохам диктатуру, или чрезвычайный режим. Каждое время и эпоха требует своего инструментария. Если при Иоанне Грозном опричнина означала созидание империи, то завтра она будет знаменовать ее восстановление.
Империя и воля[66]66
Доклад-презентация в Институте динамического консерватизма. В виде статьи этот текст впервые опубликован в журнале «Москва» (2012, № 1. – С. 180–193). В 2013 году статья была отмечена премией «Русский позитив» в номинации «Публицистика».
[Закрыть]
Цель этого доклада не академическая, а скорее полемическая. С академической точки зрения было бы довольно трудно в рамках круглого стола анализировать такие понятия как «нация» и «империя», поскольку один лишь вопрос об определении каждого из этих понятий по своему масштабу потянет на солидную диссертацию. Фактически, мы сегодня не имеем консенсуса по данному вопросу и в научной, и в публицистической среде.
Два национализмаВозьмем понятие «нации» и примыкающее к нему понятие «национализм». Слова очень многозначные. Одна из модных сейчас трактовок нации – воображаемое сообщество, «неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное» (Бенедикт Андерсон). Нация трактуется при этом как «новый способ связать воедино братство, власть и время», изобретенный в XVIII в. и с тех пор находящийся в процессе модульного перенесения и адаптации, приспосабливающийся к разным эпохам, политическим режимам, экономикам и социальным структурам. В итоге эта «воображаемая общность» проникла во все мыслимые современные общества.
При этом важно отметить, что воображаемое не означает его иллюзорности. Мы часто воображаем и то, что есть в действительности, или то, что может произойти реально. Собственно, Бенедикт Андерсон именно этот смысл и вкладывал в данное словосочетание. Для него существенно было подчеркнуть момент создания нации на основе индивидуальных сознаний участников данного сообщества, будущих членов будущей нации. Гораздо более радикальная трактовка встречается у другого известного исследователя Эрнеста Геллнера, который утверждает, что нации Нового времени создаются как будто из ничего, конструируются из некоего пассивного субстрата волей политического субъекта: «Национализм не есть пробуждение наций к самосознанию: он изобретает нации там, где их не существует». «Руританцы раньше думали и выражали свои чувства на языке семьи и деревни, самое большее на языке долины и, возможно, иногда на языке религии. Но теперь, втянутые в тигель индустриального развития, они не имели больше ни долины, ни деревни, а порой и семьи». И если у Геллнера в роли творящего нацию субъекта представлены журналисты или учителя, то нужно заметить, что, хотя это было очень важное звено в формировании наций, однако звено не ключевое. Основным агентом и субъектом формирования наций Модерна был, конечно, крупный капитал. Почему многие напрямую связывают нацию с индустриальным периодом развития.
Здесь возникает вопрос, а что, без капитала нация не может возникнуть? Может быть, тогда и для наших современных националистов это ключевой вопрос? И если это так, то как у нас обстоят дела с национал-капиталистами? Где те капиталисты, которые поддержат создание национального государства в России? И если таковых не обнаруживается, не получается ли, что осуществить запуск national state у нас могут лишь иностранные субъекты? Вопросы непростые и довольно-таки неудобные. Но в практической политике на них приходится отвечать.
Но я бы хотел сказать, что этот вопрос может решаться иначе. Потому что существует и другая традиция понимания нации, не связывающая ее зарождение с Модерном. И уже в XIX веке у нас были такие выдающиеся и самобытные теоретики как Николай Григорьевич Дебольский, построивший развернутую концепцию «национальности», «национального начала». И в его трактовке как раз получается, что народ изначально нагружен очень серьезными и культурными, и государственными, и религиозными связями, системными связями. Без них он неполноценен, ущербен и по существу народом назван быть не может. «Историческое достоинство племени, – писал Дебольский, – состоит в его силе для борьбы за свой духовный тип». «Для всякого народа величайшее и важнейшее целое есть он сам». При этом идея народности еще нигде не достигла даже приблизительно полного осуществления.
У Дебольского есть очень интересная мысль, которую воспроизводят сегодня и на Западе, и у нас. Это мысль о том, что с либеральной точки зрения, будущее народа строится по неким предвзятым, отвлеченным правилам, а, с точки зрения начала национальности, это будущее должно быть укоренено в прошлом, в самом ходе предыдущего развития. Что такое это предвзятое, отвлеченное правило, если посмотреть на него конкретно? Предвзятое, отвлеченное правило – это внешний образец. «Национальное государство», в первую очередь, это конечно, английский образец. Сегодня уже говорилось о британских политических образцах. Однако, Англия дала образец не только империи, но и предложила самую влиятельную и самую воспроизводимую в Новое время модель для националистов. Здесь Дебольский подчеркивает, что если мы хотим стандартизировать себя по лекалам англичан или других стран, которые создали национальные государства, то фактически мы встаем на путь именно либерального национализма. И эту точку зрения косвенно подтверждают сегодня очень многие исследователи. Вот несколько примеров.
Немецкий исследователь Кон делит национализм на два типа: западный и восточный. Причем, в восточный тип у него попадают и немцы, и Восточная Европа, и русские. А Бирнбаум то же самое называет другими словами: государственный и культурный типы национализма. Отмечают, что западный, или государственный, национализм тесно связан с либеральной идеей, он либерален по своему происхождению. И здесь, помимо Дебольского, вспоминается его современник Константин Николаевич Леонтьев, который указал на то, что западный либеральный национализм фактически способствует денационализации в глубинном, коренном смысле слова. Это парадокс национализма космополитического, национализма, который, по мысли Леонтьева, через государственные институты губит культурный и бытовой национализм. То есть ведет к лишению народа его сущности, его специфичности.
Итак, мы имеем дело с двумя национализмами. С одной стороны, либеральным, создающим те самые national state, «нации», из которых, как из кирпичиков, складываются и старые международные европейские союзы, и Лига наций, и затем ООН, и нынешнее «международное сообщество», которое обеспечивает согласованную расправу сильных держав над «тиранами» и теми, кто не вписывается в передовые стандарты демократии, политкорректности и глобализации.
Но кроме него существует древний «национализм», который в разных народах именовался по-разному, на языках этих народов. Это понимание «нации» можно трактовать как приверженность «алтарям и нивам» родины, «ларам и пенатам» своего города и своего царства, связан с такими идеалами и ценностями как Отечество, Семья, Земля (Русская земля, о которой читаем еще в «Слове о полку Игореве»). Он крепко связан с народными представлениями о вере предков, о церкви как «народе Божием» (не родоплеменной общине, а именно народе, предстоящем в храме перед лицом Божества). В этом смысле я абсолютно согласен с теми, кто говорит о складывании русского государства-нации задолго до появления новых «наций» буржуазной эпохи. Представляется точной мысль А. Н. Савельева, что основы современной русской нации проявились уже на Куликовом поле.
В чем корень различия двух национализмов? Первый порожден капитализмом, второй является наследником вечной традиции патриотизма. Первый есть реакция на антинациональную власть мировых сетей, попытка к ней приспособиться. Второй существовал всегда и поэтому есть надежда, что он переживет капитализм и саму глобализацию. Понятно, что «восточный» национализм не противоречит имперской идее, но органично с ней стыкуется. Такой национализм, если бы он развился до международного уровня, дал бы совсем иные плоды, чем «либеральный национализм» англосаксов. Приведу еще одну цитату из Дебольского на сей счет, которая отражает русский дух – как дух русских «колонизаторов» Сибири, так и дух русских путешественников, дух Миклухо-Маклая: «Туземцев Океании то истребляли выставленною отравою, как крыс или мышей, то устанавливали для них демократически-конституционные государства… Не гораздо ли рациональнее и нравственнее относиться к каждому человеческому типу сообразно его особенностям и, признавая его право на самосохранение, предоставлять ему возможность достигать этого самосохранения доступными для него путями? Именно к этой цели и направляется международная нравственность, основанная на начале народности. (…) Чем менее высший тип вмешивается в жизнь низшего, тем лучше».
Что касается Британской империи, она явилась своего рода инициатором либерального национализма и в Европе, и в Азии. Известный английский деятель лорд Маколей, который был одним из руководителей колониальной Индии, создал программу взращивания индийцев-космополитов. Он говорил: «Нам нужно создать особый класс людей – индийцев по крови и цвету, но англичан по вкусу, мнению, морали и интеллекту. (…) Ни один индиец, получив английское образование, не остается всей душой привязан к своей религии… Мое твердое убеждение состоит в том, что если последовать нашим планам образования, то уже через тридцать лет в респектабельных классах Бенгалии не останется ни одного идолопоклонника».
И вот спустя 100 лет несколько генераций этих «по цвету индийцев, а по духу англичан» проводят мощную кампанию по национально-освободительной борьбе индийской нации (известно, что в до-колониальной Индии представления о едином народе не существовало, это был конгломерат весьма разнообразных племен и языков, лишь частично объединявшихся в имперском проекте Великих Моголов). Фактически можно сказать, что через формирование местной элиты-медиатора, сословия двуязычных космополитов, была создана среда, в которой созревал эмбрион будущего либерального национализма XX века, конструирующего новые «нации» в освобождающихся от колониализма странах. Это не значит, что Маколей был недальновиден и не учитывал всех последствий культивирования элиты-медиатора. Напротив: даже уходя из своих колоний, Британия оставляла в них такие элиты, которые самой своей внутренней конституцией гарантировали, что эти народы и государства уже не вернутся к своим сакральным и политическим традициям, а будут впредь развиваться в русле цивилизации-лидера. Здесь достаточно явственно видна духовная связь и внутреннее родство либерализма и космополитизма.
Формат national state активно использовался и сейчас продолжает использоваться как едва ли не единственный образец и цель всех революций в странах периферии, как стандарт их эмансипации от любых видов старых элит. Это формат, предлагаемый для контрэлит, которые очень часто приручены или даже заранее выпестованы Западом. Это тот же маколеевский принцип – но реализованный уже не в колониях, а в зарубежных государствах. Контрэлита-медиатор в данном случае выступает как революционный передовой класс, призванный внушить массам идею о преодолении собственной «отсталости» и устранении традиционной несправедливости. Уже упоминавшийся Бенедикт Андерсон чувствует некоторую двойственность, когда говорит о такой стандартизации – в первом издании своей книги о воображаемых сообществах он оговаривается, что «в политике «строительства нации», проводимой новыми государствами, очень часто можно увидеть как подлинный, массовый националистический энтузиазм, так и систематичное, даже по-макиавеллиански циничное впрыскивание националистической идеологии через средства массовой информации, систему образования, административные предписания и т. д.» В следующих изданиях он отказывается от этой мысли, предлагая другое объяснение, а именно: естественности и спонтанности того единообразия, с которым колониальные общества переходят в пост-колониальный порядок. Андерсон предлагает для этого эффекта копирования форматов одних обществ другими метафору «пиратства» и шутит по этому поводу, что «революция» и «национализм» суть изобретения, на которые невозможно заполучить патент. Однако с еще большим успехом феномен трансфера революций и national state можно объяснить вовсе не «пиратством», а тем, что эти транслируемые образцы действуют как вирусы в межцивилизационном пространстве. «Заразительность» этих вирусов может быть истолкована как в медицинском, так и в зоопсихологическом смысле (рефлекс подражания, мимикрии, стадного поведения и т. п.). Именно таким образом – как цепные реакции подражательных рефлексов – могут быть объяснены «парады» суверенитетов, бархатных революций и «просыпающихся» национализмов. Подражание же обеспечивают как раз западнические элиты и прослойки в странах периферии.
Другой пример, который бросает свет на природу распространения «национального государства» на месте разрушаемых империй – это мысли Вальтера Шелленберга, которые он озвучивал для своих коллег по управлению имперской безопасности по поводу того, как необходимо организовать российское социальное пространство после покорения Советского Союза: «Едва ли двухсотмиллионный народ можно удерживать в подчинении с помощью иностранной полиции… В конце концов, это, вероятнее всего, подтолкнет их к какому-нибудь империалистическому панславянскому движению. Я думаю, нам следует создать несколько автономных образований и поощрять их национальных лидеров. Тогда мы сможем сыграть на их взаимной вражде. Подумайте хотя бы об украинцах, грузинах, белорусах, людях типа Мельника и Бандеры…» Цитата красноречива. План Шелленберга не был тогда реализован, как вы понимаете. Он реализуется сейчас.
Злободневные события в арабских странах последних месяцев, текущие события в Ливии отражают дальнейшую стандартизацию незападного мира. Их нельзя интерпретировать иначе, чем процесс «приведения в соответствие» по зловещим рецептам, прописанным мировым хирургом. И дело здесь не столько даже в нефти, сколько в готовности либо неготовности конкретных режимов быть лояльным глобальному проекту, этой вездесущей «империи добра».
Империя и цивилизацияЯ думаю, что корень противопоставления национального государства и империи лежит в том, что имперская государственность, какой бы она ни была (а они чрезвычайно разнообразны), в принципе, несовместима с глобализацией. Имперская государственность сама представляет собой частную глобализацию на своем пространстве. Поэтому имперские проекты не могут не противоречить той глобализации, которая является по отношению к ним внешней. Я думаю, что существует связь существует между империями и принципами протекционизма, ведь в экономической политике империи, как правило, эти принципы реализуются. А национальное государство вполне может позволить себе вступать в так называемый «свободный», открытый рынок.
Определить империю, так же как и нацию, чрезвычайно трудно. Практически сегодня в науке мы слышим уже такие определения империи, что они полностью размывают суть разговора. Перечислим лишь несколько исторически сменявших друг друга вариантов интерпретации этого понятия. Древнее латинское представление об империуме как просто «власти» расширяется под влиянием греческого представления об ойкумене, которое греки подарили римлянам. Отсюда классическое представление об империи как о политической вселенной, особом мире. Есть представление об империи как о гражданской религии, которое тоже восходит к античности. Есть взгляд Монтескье на империю, как явление азиатское, деспотию восточного типа, и это несмотря на то, что сам он был современником Священной Римской империи германской нации (существовавшей на тот момент уже 7 веков). Есть взгляд на правильную империю, как колониальную державу.
Империя может трактоваться как политический псевдоним самостоятельной цивилизации. Таким образом, отрицание «имперскости» либо со стороны либералов («все империи разрушаются»), либо со стороны так называемых националистов («хотим жить в нормальном национальном государстве») суть не что иное как западническая интеллигентская идиосинкразия по отношению к Русской цивилизации. А аргументы здесь – дело вторичное.
Ну и наконец, пункт, который мне представляется очень интересным. Империя может трактоваться как политический псевдоним самостоятельной цивилизации. Или быть неким уточняющим указанием на политический аспект самостоятельной цивилизации. Иногда уместно говорить об империи как политическом лице цивилизации в стадии ее полноценного раскрытия (порою на ранних стадиях имперская идея может проявляться неотчетливо, а на поздних стадиях – затухать).
Самые свежие трактовки империи исходят из того, что попытки уловить ее сущность через какие-то отдельные черты (сакральная вертикаль, особый тип элиты, специфическая структура центра и периферии и проч.) неэффективны. Новые определения империи призывают к простоте. Так, например, Доминик Ливен считает, что нужен расширительный подход, только он способен объяснить, что реально происходит. Согласно его определению – империя есть государство, управляющее многими народами и землями – получается, что на сегодняшний день империями являются Китай, Индия, Индонезия, ну и, конечно, США. (У самих американцев, несмотря на обычную для них неприязнь к империи, встречаются и другие оценки, например, мнение А. Гамильтона, портрет которого печатался на десятидолларовой купюре, что Соединенные Штаты являются «империей, во многих отношениях самой интересной в мире».)
Весьма любопытную трактовку предложили Хардт и Негри в своей нашумевшей книге-бестселлере, в которой речь идет не о тех империях, которые были, а о той империи, которая грядет. У них получается, что сама транснациональная система, сама глобализация представляет собой итог развития всех империй. Эта мысль очень интересная, мне казалось, что наши националисты должны были бы как-то отреагировать на эту книгу, достаточно глубокую, во всяком случае, не пустую. «Наиболее важный сдвиг, – пишут авторы «Империи», – происходит в самом человечестве, ибо с окончанием современности также наступает конец надежде обнаружить то, что могло бы определять личность как таковую. (…) Здесь и возникает вновь идея Империи, не как территории, не как образования, существующего в ясно очерченных, определенных масштабах времени и места, где есть народ и его история, а скорее как ткани онтологического измерения человека, которое тяготеет к тому, чтобы стать универсальным».
Эта сетевая, нетократическая империя порождена тем, что, на мой взгляд, глобализация, упершись в пределы географии, перенаправлена вглубь и начинает перестраивать саму сущность человека, поскольку в физическом пространстве и в истории обществ и экономик у нее остается слишком мало пищи. Главным полем битвы становится теперь духовная культура и те границы (национальные, религиозные, языковые), которые сохранялись до сих пор как структура различия между традициями, многообразия образцов слова, поступка и даже бездействия и молчания. Глобализация подступилась к той внутренней свободе, которая всегда оставалась интимной и потому неприступной для коллективных «левиафанов» стороной человеческого бытия, той свободе, что расцветала благодаря деспотии и вопреки эмансипации.
То, что западная империя переходит в такую форму, превращается в сеть, превращается в некое распределенное, дифференцированное сообщество, которое внедряется повсюду и везде репродуцирует обслуживающую ее интересы элиту, тех самых «бенгальцев», которых Маколей в свое время культивировал в Индии, – по-моему, это факт.
И если я оговорился, что считаю правильным понимать империю как переименование цивилизации, необходимо добавить, что здесь, по-моему, есть ответ на очень многие вопросы. В том числе и на вопрос: а почему они такие разнообразные? Ведь в истории нет ни одной империи, во всем похожей на другие. И сколько бы ни говорили об образцовости, никаких образцов для империй в действительности тоже нет. Британская империя вовсе не образец. И есть Римская империя, которая во многом объясняет, почему Россия не такая, как колониальные державы Запада.
Здесь заложена еще одна хитрость. Цивилизация, так же как и нация, двойственное понятие, и так складывалось уже с самого начала XIX века. Двойственность в трактовке цивилизации – тема известная, но я бы хотел обратить внимание на то, что сама игра понятий чрезвычайно показательна. В смешении цивилизации как особого культурного мира, «культурно-исторического типа» в терминах Данилевского, «суперсистемы» в терминах Питирима Сорокина, и с другой стороны цивилизации в ее технологически-организационном понимании (начиная от Кондорсе, Бокля и заканчивая современными поборниками «глобальной цивилизации») таится целый клубок подмен.
В основе этой двойственности лежит полисемия между цивилизациями как особыми культурными мирами и абстрактной (объективисткой) цивилизованностью, уровнем цивилизации[67]67
Иными словами, цивилизация интерпретируется как некоторый уровень продвинутости по пути преимущественно технологического и организационно-технического оснащения, критерием степени развития при этом выступают принципы конкуренции
[Закрыть]. Два этих значения понятия «цивилизация» несводимы друг к другу. Эта полисемия, на мой взгляд, является если не всегда обманом, то почти всегда самообманом. Выход из этой двусмысленности не так уж сложен, он состоит в том, чтобы отдельно употреблять понятия «цивилизация» и «цивилизованность», потому что русский язык, богатый наш язык, в отличие от многих других языков, такую возможность дает. Для космополитической прослойки, этой «нации поверх наций», между двумя понятиями цивилизации разница несущественна. Но для всех остальных людей и сообществ, пока они не переварены мировой сетью, пока их не сожрали и не отправили в клоаку пост-истории, разница эта очень и очень существенна.
Если речь вести о цивилизованности, то мы имеем один дискурс империи, если речь вести о цивилизации, то это совсем другой дискурс. Во второй половине XX века первому дискурсу соответствует «мировая цивилизация» С. Хантингона, которая у него сочетается с тезисом о неизбежном столкновении различных цивилизаций (вновь игра понятий!), «транснациональная система» У. Мак-Нила, «срединная цивилизация» Д. Уилкинсона (у обоих они вступают во взаимодействие с локальными цивилизациями с тем чтобы постепенно их ассимилировать – опять та же игра!). Второму же дискурсу соответствует, скажем, теория суперэтносов Л. Н. Гумилева или концепция «большой длительности» Ф. Броделя, в которых возрождается собственно «цивилизационный подход» в его классическом понимании. Концепция «империи» Хардта и Негри, кстати говоря, воспроизводит представления Уилкинсона о финале истории локальных цивилизаций через их полную и окончательную интеграцию в глобальной системе, поскольку все они неизбежно «конвергируются» с так называемой срединной или центральной цивилизацией, ядро которой мигрирует (в настоящий момент оно расположено на Западе, но не в географическом смысле, а в смысле происхождения транснациональных сетей). Отсюда становится понятной и подоплека логики «конца истории», когда одна суперсистема должна была поглотить вторую и тем навсегда завершить процесс сосуществования параллельных, суверенных русел развития.
Империи в истории действительно очень друг на друга не похожи, и в то же время между каждой из них есть что-то общее. Если проанализировать эти соответствия, то выяснится, что в Российской империи ничего «странного», противоестественного и не имеющего аналогов не было – вопреки тому, что последнее время пишут идеологи антиимперской национал-демократии. По всем основным своим чертам наша империя на что-то да была похожа. Это труднее сказать о Советском Союзе, потому что Советский Союз в значительной степени был уникальным образованием, экспериментальным, авангардным проектом, и здесь параллели находить гораздо труднее.
Рассмотрим кратко основные претензии, которые предъявляются к Российской империи. Говорят в этой связи о крепостничестве, хотя известно, что крепостничество было отменено и в Германии практически в то же время, что и у нас. Приводят сильный и справедливый аргумент о нещадной сверхэксплуатации русских. Действительно, подати в отношении русских в XIX веке были в 2–3 раза выше, чем в отношении большинства нерусских подданных. Но и здесь мы видим явный аналог в Османской империи с ее сверхэкспуатацией анатолийских крестьян. В ментальном плане в Порте это проявлялось даже острее, поскольку само понятие «турок» в устах высших сословий было синонимом понятия «мужик», «деревенщина». Такого нельзя сказать о понятии «русский» в Российской империи.
Русские несли не просто большую часть тягот, а фактически определяли своей жертвенностью успех империи. Приведу статистический пример. Новейший анализ воинской повинности, показывает, что в самом конце XIX века из призванных в российскую армию 90 % были русскими (включая малороссов и белорусов), и точно такая же цифра высвечивается в 40-е годы, во время Великой Отечественной войны. Хотя эти цифры могут показаться неприятными для многих этнических меньшинств и представителей неславянских республик бывшего СССР, но факт этот нельзя замалчивать. Иными словами, в великих войнах нашего прошлого воевали русские, побеждали русские, и если терпели поражение, то тоже русские. Кстати говоря, я считаю, что значение этих испытаний, которые выпали на долю наших предков, неотразимый аргумент в пользу того, что русские имеют право на Россию. Но о том, как может быть оформлено это право, поговорим чуть позже.
Массированное включение в элиту инородцев, как вы понимаете, типично для многих империй, в том числе и Римской империи (в поздний период там это распространилось в гораздо больших масштабах, чем в любой период нашей истории). Создавая слой элиты-медиатора, посредствующего между властью и нерусскими народами, наша империя далеко не всегда шла по пути вассалитета и призыва на службу местных князей, но часто назначала русских наместников либо создавала аппарат «попечителей». И сочетание этих методов позволяло удерживать социокультурное разнообразие огромного пространства в едином формате.
Наделение благами культуры и цивилизации в ущерб и в обход нациобразующего ядра – упрек в адрес нашей империи справедливый, преимущественно когда это касается советского периода. Такая политика может объясняться издержками концепции интернационализма, концепции, которая в сущности своей не может быть признана имперской, а является авангардной, чем-то вроде противоядия, предложенного марксистами симметрично против транснационального космополитизма капиталистического мира. Попытки привязать к себе другие страны и народы через преференции, братскую помощь были вызваны не только широтой и добротой русской натуры, но также и изначально более слабыми конкурентными позициями советского блока по отношению к Западу.
Что касается раскола народа с элитой, живущей зарубежными образцами, это тоже явление довольно распространенное, подавляющему большинству империй свойственное. В той же Римской империи, известной своим патриотизмом и гордостью римским гражданством, тем не менее, греческие влияния на время полностью наводнили культурную жизнь элиты, а затем и простонародья.
Если же говорить о Британской империи, то отсутствие раскола рядового англичанина XIX века со своей элитой было куплено ценой уничтожения в более раннюю эпоху низших слоев несколькими волнами «огораживаний», пауперизации и вынужденного выселения бедноты из Англии. Хаос, создаваемый в империи через подавление низов, сбрасывался на периферию (типично английское решение!). Прежде чем исповедовать националистическую или имперскую англоманию, стоит разобраться, кто был более жесток по отношению к своему народу – английские джентльмены или российские и турецкие крепостники.







