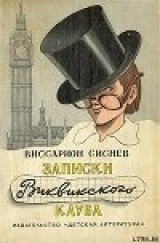
Текст книги "Записки Виквикского клуба (с иллюстрациями)"
Автор книги: Виссарион Сиснев
Жанр:
Детские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
7. СТРАННЫЕ ЛИЧНОСТИ В ГАЙД-ПАРКЕ
Педеля до отъезда в лагерь – она же моя первая неделя на английской территории – прошла как-то суматошно и быстро. Утром мы с Вовкой и другими ребятами либо шли в Холланд-парк, либо с кем-то доезжали до посольства и потом до обеда гоняли в футбол на площадке в Кенсингтонском парке, прилегавшем к посольским домам.
Познакомиться с ребятами-соседями я познакомился, но как к другу я относился только к Вовке Тарасюку. И не потому, что ребята мне не понравились. Ребята как ребята. Дело тут во мне самом. Есть люди, которые считают другом и того, и другого, и третьего. Папа, например, часто повторяет: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Но лично я сто друзей иметь не могу. В Москве у меня был Ленька, а все прочие – так, приятели по школе или по двору. И в Лондоне так же: раз я привязался как к другу к Вовке, так уж с другими у меня могут быть лишь обыкновенные хорошие (или плохие) отношения.
Обычно после обеда мы с мамой совершали очередное автобусное путешествие. Теперь мы знали, куда и каким номером ехать: мама купила подробную карту Лондона с пояснениями и схемой автобусных маршрутов.
Добрались мы как-то до того самого замка Тауэр, куда английские короли заточали опасных и знатных врагов. Сначала-то это была не тюрьма, а королевское жилье. Замок построил для себя предводитель норманнов Вильгельм Завоеватель, прозванный так потому, что он завоевал Англию – девятьсот с лишним лет назад.
Мы погуляли по внутреннему двору Тауэра, осмотрели лобное место, где отрубили голову многим узникам – мужчинам и женщинам, зашли в подвал пыток, а потом спустились в специально построенное под землёй хранилище королевских драгоценностей, запираемое дверями из стали полуметровой толщины. Там находятся, как у нас в Оружейной палате, короны, золотая посуда, усыпанная, как и короны, бриллиантами и изумрудами. Только в Кремле всего больше и экспонаты интереснее. Единственное, что меня по-настоящему заинтересовало, – это высшие английские ордена и одежда, с которой их надо надевать в парадных случаях. Одежда состояла из пышных мантий и коротких штанов с чулками до колен. Некоторые ордена назывались просто смешно: «орден Бани», «орден Подвязки».
Наконец я не выдержал и задал маме вопрос, интересовавший меня с самого начала осмотра: кого и где именно морят в Тауэре холодом и голодом в данный момент? Ведь королевских охранников в красной средневековой форме и с алебардами в руках по-прежнему в замке целый батальон.
Мама осмеяла меня за невежество, сказав, что это-то уж должен знать каждый школьник: Тауэр давным-давно служит просто музеем, а красномундирные гвардейцы, называемые «бифиторами», не столько охраняют, сколько создают «средневековый колорит».
Обошли мы с мамой и знаменитый Гайд-парк. В нём нет никаких аттракционов, в нём просто гуляют или катаются верхом на лошадях – их дают напрокат.
Маме все хотелось отыскать какой-то «уголок ораторов». На карте она нашла «Гайд-парк корнер», то есть именно «уголок», но там никаких ораторов не обнаружилось. Мы опять взялись за карту, и вдруг около нас неизвестно откуда появился заросший седой щетиной неопрятный субъект. Ботинки он почему-то держал под мышкой, завернув их в газету, и вроде бы пританцовывал босыми ступнями на гаревой дорожке. Не то улыбнувшись странным образом, не то просто дёрнув конвульсивно щекой, он обратился к маме:
– По-русски, значит, спикаете?
«Спик» по-английски означает «говорить», но почему этот неприятный старик выразился так странно? И почему он уставился на маму своими белесыми, не совсем нормальными глазами?
А он, не дожидаясь маминого ответа, продолжал визгливо:
– Прибыли, значит, в Британское королевство, а сникаете по-своему, по-советскому? И здесь, значит, православным людям от вас спасения нету?
– Что вам нужно? – громко перебила мама, беря меня за руку.
Прохожие начали замедлять около нас шаг, но противный старикашка ничего не замечал.
– Что мне угодно-с? Что мне угодно, вы интересуетесь? Мне угодно, чтобы вы все сгорели в геенне огненной. Дотла! Жаль, что Гитлер не успел всех вас, проклятых, перевести в своих душегубках!
Он разинул беззубый чёрный рот и не захохотал, а вроде бы закаркал. Я вырвал руку и загородил собой маму: мне показалось, что он сейчас на неё набросится. Тут к нам твёрдым шагом подошёл высокий англичанин и, коснувшись правой рукой шляпы, осведомился у мамы:
– Ю нид хелп, мэдам? (Вам нужна помощь, мадам?)

Старик как-то съёжился, хихикнул, по-военному отдал честь сурово смотревшему на него англичанину и бочком, бочком заковылял от нас, бормоча:
– Ничего, ваше благородие… это ничего… никаких претензий…
Англичанин дождался, пока он не удалился на приличное расстояние, опять дотронулся до шляпы, улыбнулся и пошагал дальше своей дорогой.
– Уф! – облегчённо вздохнула мама. – Вот ведь гнусный старикашка! Небось какой-нибудь бывший полицай фашистский. Если не хуже. Ишь ты: «ваше благородие»!
– Ох, и напугался я! – признался я. – Хорошо, что этот англичанин прогнал его, а то неизвестно, чтобы он сделал. Вдруг у него пистолет в кармане, раз он полицай.
– Уж вдвоём-то мы как-нибудь с этим гнилым грибом справились бы. Неужели нет, Витька, а?
Это она меня хотела задним числом ободрить, я-то видел, что она сама порядочно напугалась.
Эта встреча выбила нас из колеи, и мы сразу же поехали домой. «Уголок ораторов» мы обнаружили в другой раз, когда исследовали улицу Парк-лэйн, ограничивающую Гайд-парк с востока. Шли мы, шли по ней и увидели за оградой Гайд-парка скопление людей, над которыми кто-то возвышался и, размахивая руками, что-то выкрикивал. Поодаль виднелось ещё одно скопление, и ещё, и ещё.
Дело происходило действительно на угловой травянистой площадке Гайд-парка, там, где встречаются Парк-лэйн и Бейзуотер. Ораторствовало человек шесть. Кто стоял на деревянном ящике, кто принёс с собой лестницу-стремянку, кто просто уселся на сук дерева, а кто вещал с земли. Двое были нормальными людьми в нормальной одежде, оба они говорили по-английски с акцентом, оба что-то доказывали, как я уразумел, про Ирландию и при этом сердито показывали друг на друга – они ораторствовали на расстоянии десяти шагов друг от друга. И ещё двое мне запомнились. Один, с длинными нечёсаными волосами и бородой, закатывал глаза, подпрыгивал, крутился на месте и протяжно подвывал. Второй был обнажён до пояса и весь сплошь покрыт синей татуировкой – туловище, руки, шея и даже щеки. Он, наоборот, стоял неподвижно, как изваяние, и бормотал нечто неразборчивое.
– Что-то их маловато, – сказала мама. – Впрочем, сегодня ведь будний день. Настоящее представление тут, говорят, по субботам и воскресеньям. Ну ничего, придём ещё.
Я сказал, что одного раза и то много на этих болтунов.
– Ничего ты не смыслишь, – ответила мама. – Это же столетняя традиция. Тут ведь не только такие татуированные типы паясничают, выступают и серьёзные люди. Сюда, если хочешь знать, постоянно приходили Карл Маркс и Владимир Ильич Ленин, изучали настроение англичан, как по барометру.
– Ну да, поехали бы Карл Маркс и Ленин слушать этих чокнутых!
– Они не приезжали, а жили тут в эмиграции. Маркс в Лондоне и похоронен, на Хайгейтском кладбище. Мы там обязательно побываем.
– И Ленин тоже здесь жил?
– Два года. К сожалению, ни один дом, где они с Надеждой Константиновной снимали жилье, не сохранился. Но всё же эти места не забыты, мы их тоже увидим.
8. «И ВЕДЬ ПРЯМО ПО СОСЕДСТВУ…»
Утром в субботу мама объявила, что мы поедем в гости к папиному другу, тоже работающему в Лондоне.
Папин друг оказался человеком давно мне известным, так же как и его жена. Это были дядя Алёша и тётя Лиза Синельниковы, которые когда-то учились в одном институте с моими родителями и часто в Москве бывали у нас в гостях. Однажды я слышал, как папа назвал дядю Алёшу «фантазёром, которому математические формулы слишком тесны». Не знаю, это ли папа имел в виду, но, скорее всего, это: дядя Алёша бросил энергетический институт и перешёл куда-то ещё, где учили работать в газетах и журналах. Так что в Лондон он приехал не в посольство, а корреспондентом московской газеты.
Я их обоих любил, им нравилось со мной играть и разговаривать. Может быть, потому, что своего ребёнка у них не было. Тётя Лиза как-то сказала моей маме:
«Погляжу я на твоего Витьку, и до того мне завидно становится!..»
Дядя Алёша, поднявшись к нам на четвёртый этаж, как прежде схватил меня на руки и начал тормошить. Он большой, сильный, я согласен с папой: ему тесно не только в математических формулах, – ему везде, в любом помещении тесно.
Дядя Алёша извинился, что не мог нас встретить в аэропорту – уезжал в командировку.
– Далеко? – спросил папа.
– Далеко, брат, в Шотландию.
Сказавши это, дядя Алёша засмеялся и покачал головой.
– Вот ведь как приспосабливаешься к условиям. Уже машинально отвечаю: далеко, в Шотландию. Ведь по российским понятиям это всё равно, что до Ленинграда прокатиться и обратно, а тут это считается серьёзным путешествием. Но всё равно – страшно интересно. При случае поезжайте, очень рекомендую.
В машине, едва мы отъехали, дядя Алёша обратился к нам:
– Держу пари, как выражаются туземцы, что Ноттинг-хилла вы ещё и в глаза не видели.
– А что это такое? – в один голос спросили папа с мамой.
Я помнил, что где-то это название я слышал, но по какому поводу, забыл.
– Так оно всегда, – сказал дядя Алёша, – в Тауэре, на другом конце города, вы уже были. Ноттинг-хилл расположен в одной минуте ходьбы от вас, по ту сторону Бейзуотера, но вы там побывать, естественно, не удосужились. Ладно, начнём вас просвещать по-серьёзному. То есть именно с этого милого райончика.
Через минуту-другую мы попали как будто в другой город какой-то другой страны. Белых лиц почти не попадалось, население состояло из людей с чёрной или очень смуглой кожей. Мужчины были в обыкновенных костюмах, а большинство женщин носили разноцветные балахоны до пят и повязку вроде чалмы на голове. Это я имею в виду чернокожих мужчин и женщин. А настоящие чалмы, белые, зелёные и красные, мы видели на смуглых мужчинах, у которых к тому же обязательно имелись усы и бородка. Женщины, которые были с ними, закутывали себя в длинный кусок ткани, который, как объяснил дядя Алёша, служит платьем для жительниц Индии и Пакистана. В общем, если бы не типично лондонские дома, можно было бы подумать, что мы каким-то манером перенеслись в Индию или Африку.
Но в Индии и Африке, как я понимаю, много всякой растительности, а тут я видел зелень лишь в цветочных горшках на подоконниках, да и то редко. А ведь остальной, «белый» Лондон весь густо озеленён.

Дома хотя и английского типа, но очень отличались от тех, что на Холланд-парке или вообще на любой улице вне Ноттинг-хилла. Облезлые, грязные, часто покосившиеся, со слепыми, чем-то изнутри заколоченными окнами.
– Н-да… – первым прервал молчание папа. – И ведь действительно – прямо по соседству, а?
– Это ещё что, – сказал дядя Алёша – Чтобы как следует прочувствовать, как здесь живут, надо внутри этих хибар побывать. Вы ещё, наверное, не слышали про такой английский термин – «рэчманизм». Появился он как раз здесь, в Ноттинг-хилле, как производное от имени некоего Рэчмана, местного лендлорда, то бишь домовладельца. Означает – сдать одну комнату десяти-двенадцати человекам по цене целой квартиры.
– Это же настоящий грабёж! – возмутилась мама. – Зачем же они соглашаются на такие условия?
– Святая истина, Тонечка, самый неприкрытый грабёж. Но, как видите, тут селятся иммигранты из Вест-Индии, Африки и Пакистана. Некоторые пробрались сюда нелегально. Народ, понятно, голоштанный, рады приткнуться в любой щели рядом со своими. Да их в другом месте скорее всего и не поселят даже при наличии денег. Англичане ужасно обижаются, если их называют расистами, но жить в одном доме с «цветными» они, как правило, не желают. Если, конечно, это не служащие африканского посольства. Я в этих краях, как вы знаете, второй год, но самый высокопоставленный иммигрант, которого я за этот срок встретил, – это клерк-пакистанец в почтовом отделении. А в основном все остаётся так, как когда-то сформулировал Маяковский: белую работу делает белый, чёрную работу делает чёрный.
Помолчав, он продолжал:
– Мне однажды удалось попасть в один такой дом вместе с прочими иностранными журналистами. Ну, я вам доложу, многое видел, но такого… Это особенный случай был, что-то вроде бунта: в том доме потолок обвалился и покалечил женщину-африканку. Остальные жильцы кинулись искать хозяина, похоже, хотели вздёрнуть его на фонаре. Между прочим, в этом районе такие волнения в порядке вещей. Дальше больше, весь Ноттинг-хилл забурлил, полиция прискакала, а где полиция, там и журналисты. Скажу одно: от тамошнего запаха можно было околеть, не дожидаясь обвала потолка. Выяснилось, что канализация в доме года два не работала.
– Погоди, погоди, – вмешался папа, – всё-таки у них тут профсоюзы сильны, как же они допускают такое, да ещё в самом сердце столицы?
– Ха! Ты сначала спроси, многие ли из обитателей Ноттинг-хилла и вообще из иммигрантов состоят в профсоюзах. Это одно. Другое – я уже говорил, что многие из них попали в Англию незаконным путём. Это ведь целый бизнес – ввоз иммигрантов контрабандным образом, причём весьма выгодный бизнес. Это главным образом пакистанцы, которые бегут из родных мест от голодной смерти, а потому готовы жить где угодно, согласны на любые условия, лишь бы их не выдворили обратно. Могут ли они при этом пойти пожаловаться на лендлорда английским властям?.. Ладно, если достаточно налюбовались, покажу вам, как живут настоящие англичане.
– Какие это – настоящие? – спросил папа.
– Настоящие – это значит настоящие. Большинство проживающих в Ноттинг-хилле тоже обладают британским паспортом, но для настоящего англосакса они всё равно остаются «блади форинерс» – «проклятыми иностранцами». Англичане не расисты, но такое милое выраженьице у них бытует. Не у всех, понятно, а у так называемого среднего благонадёжного обывателя.
За разговором мы не заметили, как подъехали к трёхэтажному дому из красного кирпича с узким фасадом в четыре окна и островерхой крышей, покрытой сероватыми плитками. Одним словом, то, что англичане называют «коттедж». Здесь жили дядя Алёша с тётей Лизой. Рядом стоял точно такой же дом, и ещё, и ещё, до конца улицы по обеим сторонам. Отличались они лишь цветом входной двери и оконных рам, формой изгороди палисадника и тем, что внутри палисадника росло. Перед домом дяди Алёши ничего, кроме одного дерева и нескольких кустов, не было, а по соседству росли какие-то деревца, усыпанные лиловыми цветами. Но трава зеленела во всех палисадниках.
Дядя Алёша выразился правильно, обещая нам показать, «как живут настоящие англичане». Хоть я и находился в Лондоне совсем недавно, но уже знал, что так вот они и живут – на улицах с одинаковыми домами. Только в одних районах дома получше, а в других похуже. Трава – там, где она росла, – тоже была вот такая же, одинаково ровно подстриженная, густая, как ковёр, и одинаково зелёная что летом, что зимой.
– Недурно вы устроились, – похвалил папа. – Тишина, как на даче.
– Именно! – с энтузиазмом подхватил дядя Алёша. – Летом по утрам даже соловей в саду поёт. А ведь до центра всего двадцать минут на машине.
– Ну, насчёт соловья это ты уж загнул, – не поверил папа.
– Честное благородное! Так заливается, будто в Курске практиковался. И белки по деревьям прыгают, ёжик иногда забредёт.
– Просто джунгли, – засмеялся папа.
– Не джунгли, а Хэмпстэд. Это один из старых жилых пригородов. То есть когда-то был пригород, а теперь становится фешенебельным районом. Скоро нашему брату здесь жить будет не по карману. В северном Хэмпстэде уже не поселишься, там денежная публика концентрируется, а здесь пока ещё можно. Ну-с, прошу в наш сад.
Мама осталась с тётей Лизой в доме, а мы гуськом прошли по узенькому проходу между боковой стеной дома и забором и попали в садик размером с волейбольную площадку. С трёх сторон за забором виднелись такие же садики.
– В Хэмпстэде, – сказал дядя Алёша, – люди устраивались на жительство истинно по-английски – продуманно, основательно. Тут каждый квартал – это прямоугольник, заполненный внутри зеленью и опоясанный тоже зеленью. Видите – к каждому коттеджу такой же садик примыкает сзади. И понимаешь, что получается? Кварталов таких сотни, вместе составляется немалый зелёный массив. Значит, и воздух приличный, несмотря на все машины.
– А что сие должно означать? – указал папа на кусок садика, отгороженный от остального участка металлической сеткой.
– Сие означает, что моя лендлордша, миссис Мэй, особа весьма предприимчивая, хотя ей, я полагаю, стукнуло лет семьдесят пять. Раньше сад принадлежал всему дому, а она отрезала кусок для нижнего этажа и на этом основании увеличила квартплату так раза в полтора. Я с ней спорил, спорил и бросил.
– Взял бы да переехал куда-нибудь поблизости, ты же вольная птица.
– Поблизости! Поблизости, брат, всё принадлежит той же миссис Мэй. У неё домов двести в этой округе.
– Да ну?
– Факт. И потом, ты что думаешь, другие лендлорды лучше? К ней я уже привык, она крайне колоритная особа, я о ней когда-нибудь напишу. Миллионерша, но скупа до анекдота. Электрические пробки сама чинит, ей-богу. Придёт, снимет норковую шубу и возится. У них с покойным мужем прежде была целая трикотажная фабрика. Они от неё избавились и начали скупать доходные дома. Я её спрашиваю: «Миссис Мэй, почему вы фабрику-то продали?» Она отвечает: «Мистер Синэлникоу (так она меня величает), вы не представляете, сколько хлопот с фабричным производством. Профсоюзы, цеховые старосты, коллективные договора, забастовки, дорожание сырья – с ума можно от всего этого сойти». Понятно? Дома-то – капиталовложение надёжное, бастовать они не будут, а прибыль уже небось на пятую тысячу процентов перевалила.
Следующие часа полтора мы ездили на синем «ровере» по Хэмпстеду и везде видели ряды похожих домов, отороченные травой и кустами. Я наконец спросил о том, о чём все забывал спросить: что это за красные круглые тумбы установлены на углах улиц то тут, то там? Оказалось, что это у англичан такие почтовые ящики в мой рост и весом, наверное, тяжелее дяди Алёши и папы вместе взятых – эти круглые тумбы отливают из чугуна, чтобы их ни вскрыть, ни утащить нельзя было.
Красивых деревьев, сплошь покрытых лиловыми соцветиями, которые я впервые заметил по соседству с домом дяди Алёши, в Хэмпстэде было не сосчитать. И очень много разных оттенков. Кусты росли здесь не как у нас, а непроницаемой зелёной массой; во многих палисадниках их подстригали фигурно – где квадратом, где шаром, а в одном месте я даже видел «крокодила» и «моржа».
Потом дядя Алёша вспомнил, что обед, наверное, уже ждёт нас на столе, и мы поспешили обратно к маме и к тёте Лизе.
– О, ростбиф! – восхитился папа, когда тётя Лиза подала нарезанное тонкими ломтиками розовое мясо. – Насколько я разбираюсь, более английского во всей Англии ничего нет. Так или не так?
– Так и не так, – посмеиваясь, ответил дядя Алёша. – Согласно легенде – так. Ростбиф – тире Англия. Но ведь легенды про англичан, как и про других, создают не столько они сами, сколько туристы. В то время, когда создалась легенда про ростбиф, иностранцы сюда приезжали только весьма состоятельные. Приедут, поселятся в хорошем отеле, спросят блюдо получше, им и притащат ростбиф. Так оно и пошло: «Вы едете в Англию? Тогда очень рекомендую попробовать их ростбиф».
– Алексей, – сказала тётя Лиза, – ты своими байками подрываешь мою поварскую репутацию.
– Это не байки, а факт. Или почти факт. Потому что истинно английское блюдо это не ростбиф, а «бэнгерс», свиные сосиски, которые действительно едят и те, кто побогаче, и те, кто победнее, с самого детства. Когда их жарят, они издают стреляющий звук – бэнг! бэнг! – отсюда и название.
Взрослые проговорили, не выходя из-за стола, часа два. Потом тётя Лиза предложила пойти в кино или куда-нибудь ещё, остальные с радостью согласились и решили «забросить» меня домой. Я нисколько не расстроился, потому что мне с ними стало скучно, а так я мог весь вечер провести с Вовкой.
9. ВЕЛОСИПЕД КЛИФФОРДА ДЭЯ
Как-то утром я спустился вниз и увидел на крыльце незнакомого мальчишку с рыжеватыми вьющимися волосами почти до лопаток. Через плечо у него висела большая парусиновая сумка, набитая газетами. В утреннем воздухе витал запах свежей типографской краски.
– Хелло! – поздоровался незнакомец приветливо и бросил на крыльцо несколько толстых английских газет.
– Хелло! – ответно кивнул я, поняв, что передо мной маленький англичанин и я могу ещё раз попробовать свой английский. – Ты что делаешь – газеты разносишь?
– Да. По субботам и воскресеньям.
– Ты бедный?
– Почему ты так думаешь?
– Раз тебе работать приходится.
– Я собираю деньги на велосипед.
– Разве папа не может тебе купить?
– Может. Но разве не приятнее иметь велосипед, который ты сам себе заработал?
– Наверное… – неуверенно согласился я. – Только все равно у нас газеты взрослые доставляют. Тяжело же.
– Ничего. Когда тяжело, я мамину коляску для покупок беру.
– Значит, родители тебе разрешают?
Он посмотрел непонимающе. Я подумал, что плохо построил английскую фразу, и повторил:
– Значит, родители разрешают тебе так рано по утрам ходить с газетами?
– У нас многие ребята так делают. Некоторые действительно должны помогать родителям, другие, как я, копят на что-нибудь. Мой отец говорит, что это очень полезно для нашего брата, когда мы на собственном опыте узнаем, как даются деньги. А ты здорово говоришь по-английски. Наверное, давно уже здесь? Странно, что я тебя раньше не видел, других-то ребят из вашего дома я знаю в лицо.
Услыхав, что я в Лондоне совсем недавно, а английский язык учил в московской школе, он ещё раз меня похвалил и добавил, что очень хотел бы побывать в Советском Союзе. Отец его тоже хочет, считает, что, пока не увидишь Россию собственными глазами, невозможно получить о ней правильное представление, а без такого представления невозможно правильно судить, что происходит в мире.
– Он кто, твой отец? – спросил я.
– Зубной врач. Но мне кажется, он стал зубным врачом потому, что его отец тоже им был и дедушка тоже. Больше всего его интересует история. У нас весь дом набит книгами по истории.
– Зачем же он стал зубным врачом, раз его на самом деле интересует история?
– Видишь ли, – терпеливо, как маленькому, растолковывал он, – дедушка хорошо зарабатывал, у него было много пациентов, и он передал их потом папе, который тоже теперь хорошо зарабатывает. А история дело ненадёжное, её по наследству не передашь.
– Значит, ты тоже станешь зубным врачом?
– Скорее всего. Папа делает на этом хорошие деньги.
– А ты хочешь?
– Вообще-то я бы, пожалуй, стал капитаном дальнего плавания, но ведь это тоже малонадёжное дело – то ли станешь, то ли нет.
Тут уж я совсем перестал что-либо понимать: папа его хотел стать историком, но стал врачом, он сам хотел бы плавать по морям-океанам, но пойдёт по папиным стопам. Какой смысл «делать хорошие деньги», если всю жизнь занимаешься нелюбимым делом? И каково приходится пациентам таких врачей, которые хотели бы делать что угодно, но не копаться в чужом рту?
Однако, не желая обижать маленького почтальона, я свои мысли оставил при себе и только предложил:
– Хочешь, помогу?

Он удивлённо вздыбил рыжие брови.
– Но тогда мы должны будем поделить деньги. А это невыгодно нам обоим.
– Да нет, я так просто, без денег.
– Спасибо, лучше не нужно. Ладно, мы болтаем, а мне ещё надо видишь сколько разнести, пока люди не проснулись. Между прочим, меня зовут Клифф. Полностью – Клиффорд Дэй.
Я тоже назвал себя.
Одет он был в драные джинсы, кеды и старенькую ковбойку, поверх которой – шерстяная безрукавка. Я даже засомневался: не врёт ли он насчёт того, что его отец врач с хорошим заработком?
Я рассказал родителям про Клиффа Дэя. Они стали спорить, правильно ли, что такой мальчишка, мой ровесник, должен уже зарабатывать деньги. Папа доказывал, что очень правильно: будет знать, что копейка, то есть пенс, даётся нелегко, и не будет думать, что булки с маслом растут на деревьях. Мама же возражала: у каждого ребёнка должно быть нормальное детство, не омрачённое лишними заботами. Они даже слегка поссорились, выясняя, кто из них меня «неправильно ориентирует».
Спор продолжался с участием дяди Глеба и тёти Ани – в машине, по дороге к Гринвичской обсерватории. Дядя Глеб взял сторону папы, а тётя Аня присоединилась к маме.
Нас с Вовкой никто не спрашивал, что мы думаем, а мы считали, что летом-то, в такую вот погоду очень даже неплохо подзаработать на тот же велосипед или, скажем, на духовое ружье. Неясным осталось только одно: если летом разносить газеты, то как же тогда с лагерем, от которого ни Вовке, ни мне отказываться не хотелось.
Тётя Аня предложила заглянуть на стоянку «Кэтти Сарк».
Я спросил, что такое «Кэтти Сарк».
Мне ответил дядя Глеб:
– На таких парусниках, как «Кэтти», английские купцы весь земной шар избороздили. Знаменитый путешественник сэр Чарльз Дрейк, на таком же плавал в дальние страны.
– Раз «сэр» – значит, его король наградил? – спросил я, проверяя то, что смутно помнил по «Принцу и нищему».
– Совершенно верно, это значит, что король сделал его кавалером ордена Британской империи. Собственно, правильнее говорить без фамилии, просто – сэр Чарльз.
– А я был бы сэр Витька?
– А я – сэр Вовка? – поддержал мой друг.
Мы с Вовкой после этого долго смеялись и несколько дней величали друг друга не иначе, как «сэр Витька» и «сэр Вовка».
«Кэтти Сарк» – она стояла на суше, на подпорках, – не такая уж и большая посудина. Я раньше никогда настоящих парусных кораблей не видел, только в кино, и мне они представлялись деревянными громадами величиной с дом на Холланд-парк: ведь у них многоэтажные борта с пушкой в каждом окне. Но то военные корабли, они, наверное, такие и есть, вернее, были, а «Кэтти» – чуть побольше речного трамвайчика. Сделан парусник из дерева коричневатого цвета, которое называется «тик», с начищенными латунными деталями.
Я представил, как этот «трамвайчик» в шторм кидало с волны на волну где-нибудь в океане, и поёжился. Папа как будто угадал мои мысли:
– Ну как, сэр Витька, поплыл бы вокруг света на таком красавце?
Я замялся, а Вовка честно признался:
– Страшновато.
– Да уж, страшновато, – согласился папа. – А ведь каравеллы у Колумба ещё меньше были. Если бы он рассуждал, как мы с вами, Америка так и осталась бы неоткрытой.
– Добро, – сказал дядя Глеб, – вопрос об Америке обсудим позже, а теперь пора дальше. Раз наметили Гринвич, значит, в Гринвич.
Гринвич представлял собой обширный парк на холмах, и на самом высоком из них белело здание с куполообразной крышей – Гринвичская обсерватория.
Мы поднялись на вершину холма к обсерватории и вошли в ворота вслед за другими посетителями. На зелёной лужайке за зданием обсерватории стояла группа туристов и смотрела, как фотографируют какого-то человека в берете с тонкими усиками, который почему-то широко расставил ноги. Зрители смеялись и кричали ему что-то не по-английски.
– Французы, – сказал дядя Глеб.
Солнце выбралось из-за медленно проплывавшего облака, и у ног француза в берете что-то ярко сверкнуло. Приблизившись, я увидел, что он расставил ноги по бокам золотистой металлической полоски на земле. Шириной она была сантиметров десять.
– Вот человек, – торжественно произнёс дядя Глеб, – который одновременно находится и в Западном и в Восточном полушариях. Эта золотая черта и есть нулевой Гринвичский меридиан, вернее частица его.

Я тоже постоял сразу в обоих полушариях, пощупал холодную латунную частицу меридиана и позавидовал тому французу: очень неплохо было бы сфотографироваться, как он, и послать снимки бабушке и Леньке.








