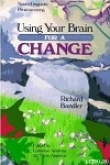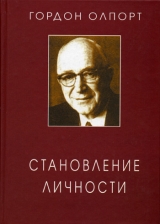
Текст книги "Становление личности. Избранные труды"
Автор книги: Виллард Гордон Олпорт
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Как я говорил, послевоенные годы принесли благотворный поворот в теоретизировании. Например, немногие специалисты по военным неврозам рассуждали в терминах снижения напряжения, они скорее говорили о «твердой эго-структуре» или о «слабой эго-структуре». Гринкер и Шпигель пишут: «С усилением эго терапевт требует от пациента растущей независимости и активности» [181] . После осуществления успешной терапии эти и другие авторы иногда замечают: «Теперь эго приобрело, похоже, полный контроль». В выражениях, подобных этому, – а они встречаются все чаще, – мы вновь сталкиваемся с пост-фрейдовской психологией эго. Конечно, аромат этих теоретических положений изменчив. Иногда они по-прежнему близки концепции эго как рационализатора, всадника и рулевого. Но часто, как в цитированных выше работах, они значительно выходят за эти рамки, подразумевая, что эго в норме не только способно избегать злокачественного вытеснения, хронизации и ригидности, но также представляет собой дифференцированную динамическую силу – сплав здоровых психогенных мотивов, которые можно «принимать за чистую монету».
Нет нужды пугаться концепции «активного эго». Как мне видится, термин эго не отсылает к модели гомункулуса, но лишь является кратким выражением того, что Гольдштейн называет «предпочитаемыми паттернами». Этот термин означает, что здоровые личности в норме обладают различными системами психогенных мотивов. Их число не безгранично; в самом деле, у хорошо интегрированного взрослого их можно пересчитать по пальцам обеих рук, а возможно, – и одной. То, что человек пытается делать настойчиво и постоянно, исходя из своей внутренней природы, часто на удивление хорошо сфокусировано и структурировано. Называть ли эти ведущие мотивы желаниями, интересами, ценностями, чертами или чувствами, – не так уж важно. Важно то, что мотивационная теория, которой будут руководствоваться диагностика, терапия и исследования, должна в полной мере принять эти структуры во внимание.
Воображение в психологии: некоторые необходимые шаги [182]
Некоторые содрогнутся при одной мысли о том, что психология может проявлять больше воображения, чем сейчас. Они скажут: «Посмотрите, что вы, психологи, уже сделали. Вы заморочили нас обучающими машинами, компьютерами и имитирующими устройствами и измерили все наши коэффициенты ( IQ, EQ, AQ и даже PQ – коэффициент личности). Вы подвергли нас воздействию сыворотки правды и детекторов лжи, замучили опросами и опросниками, лабиринтами и другими сумасшедшими изобретениями и, что хуже всего, вы приняли нас за это странное и неуравновешенное венское эдипово семейство. Нам больше не нужно вашего воображения. Что нам нужно, так это стратегия, с помощью которой мы могли бы сопротивляться вашему нахальству. Мы восхищаемся бедным парнем, обратившимся в поисках работы в британскую Интеллидженс Сервис. У него была репутация любителя приложиться к бутылке, поэтому психолога попросили выяснить, в самом ли деле у него есть такое пристрастие. Психолог дал ему тест словесных ассоциаций. “Говорите мне первое, что приходит вам в голову, когда я говорю Хейг [183] !” – “О, – ответил кандидат, – Хейг, вы знаете, знаменитый генерал, первая мировая война, Северная Африка и так далее” – “ Гордон !” – “О да, другой генерал: Китайский Гордон, боксерское восстание” – “ Бут !” – “О да, еще один генерал. На этот раз Армия спасения” – “ Ват 69 !” – “Так… Может быть, телефон папы Римского?”».
Такого типа сопротивление мне тоже симпатично. Но нынешнюю «наглость» психологии лучше лечить, не лишая ее воображения, а прибавляя его.
Переходный период
Сейчас психология напоминает молодого человека, возможно, неловкого и высокомерного, но откровенно цветущего и многообещающего. Состояние это можно лучше понять в контексте интеллектуальной истории нынешнего столетия.
Первые монументальные фигуры в психологии – думаю, что могу назвать Вильгельма Вундта, Уильяма Джеймса, Уильяма Мак-Дугалла и Джона Дьюи – уводят нас от чисто спекулятивной философии к широким эмпирическим взглядам на человеческую природу. Отдавая предпочтение лабораторным или клиническим эмпирическим данным (хотя в их распоряжении было не слишком много таковых), они не хотели утрачивать и свое обзорное видение предмета психологии, а именно, общего устройства человеческой природы.
Однако их бунт против философии зашел не настолько далеко, чтобы доставить удовольствие некоторым энтузиастам, по существу говорившим: «Мы можем дать вам простую формулу человеческой природы». Фрейд, например, предложил удобную концептуальную треногу: ид, эго и суперэго; Уотсон и бихевиористская школа утверждали, что суть всего в реакции на стимулы; был разработан ряд хорошо усваиваемых редукционистских понятий, в том числе бессознательное, обусловливание, подкрепление, иерархия привычек. Редукционизм – это доктрина, утверждающая, что все сложности человеческой природы в принципе могут быть объяснены с помощью одного механизма или их группы, предпочитаемых конкретным теоретиком.
Но Zeitgeist [184] этого столетия завел психологию еще дальше; она попалась в ту же паутину, что и другие науки, включая философию, искусство и литературную критику. Началась эра крайнего позитивистского редукционизма. Все теории стали подозрительны из-за их словесной соблазнительности и слабой эмпирической поддержки. Вундт и Джеймс, Мак-Дугалл и даже Фрейд предлагали, по существу, точку зрения одного человека, личную интерпретацию. Это не наука, – говорили нам их оппоненты, – ибо она базируется на личностных смыслах, а все смыслы субъективны.
Они призывали стать объективными, уйти от интроспекции, сторониться личностных смыслов. Вычистите все лишнее, определите термины операционально. Затем подгоните все данные к математическим или компьютерным моделям, используйте статистику, определите вероятности. Сведите к минимуму промежуточные переменные, а еще лучше, размышляйте в терминах «пустого организма», так, чтобы все измерения и понятия можно было бы публично верифицировать.
Важно подчеркнуть, что тенденция к крайнему позитивизму не ограничивалась психологией. У нее была точная параллель в философии, которая отказывалась от метафизики и теории ценностей в пользу лингвистического анализа и методологии. У нее была параллель в литературном позитивизме, который лишал стихотворение содержания, отделял от личности автора и анализировал его как ряд изолированных слов, причем использовались лишь текстуальные данные. В искусстве реализм и изобразительность, обусловленные значением и традицией, попали в опалу. Модными были абстракции, отражающие только сиюминутные переживания художника.
Все области человеческого творчества по существу говорили: давайте забудем наш традиционный багаж слов, слов, слов… Ничто не заслуживает доверия, если оно несводимо к физическим, измеримым операциям. Ничто не является истинным, если лингвистический анализ не может определить понятие истины. В литературном и художественном творчестве также давайте придерживаться поддающихся определению фрагментов опыта и текстовых данных.
Этот период недавнего прошлого, который мы могли бы назвать «эпохой чистки», отнюдь не завершился. В психологии мы везде замечаем последствия редукционизма. Современное теоретизирование, в противоположность прежнему обзорному теоретизированию, сильно упрощено. Иногда это возвращение к биологизму – тенденция, которую мы встречаем уже у Фрейда; иногда – к физиологизму (как в психологии стимула – реакции); иногда к операционализму, к кибернетическим аналогиям, к компьютерным аналогиям, к математическим формулам, включая конечно факторный анализ и другие формы твердолобого эмпиризма. Продукты такого редукционизма рассматривались, а зачастую и сейчас рассматриваются как последнее слово психологии.
Эта эра, повторяю, еще не закончилась, и мы надеемся, что она не исчезнет полностью, так как ее уроки слишком ценны, чтобы потерять их. Никто, за исключением, быть может, нескольких глубокомысленных философов, не захотел бы вернуться к прежним системам психологической теории, не имевшим никакого или почти никакого эмпирического контроля.
В то же время уже налицо заметная реакция. В течение последних двух десятилетий происходит возрождение понятия « Я ». Обращает на себя внимание экзистенциальное течение, особенно тонко рефлектирующее фрагментацию жизни и распыление ценностей, и в то же время стремящееся с помощью своих понятий «трансцендентность», «включенность» и «стремление к смыслу» противодействовать атомизации мышления и дезинтеграции цели. Можно заметить повышение интереса к целям терапии, а также к целям нации. Видно оживление феноменологии как психологического метода. С этим общим широким движением связан поворот психоанализа к так называемой «эго-психологии». Можно отметить быстрый рост числа новых журналов, посвященных индивидуальной психологии, экзистенциальной психологии, гуманистической психологии. Это направление в современной психологии столь заметно, что получило название «третьей силы».
И вот мы подошли к эре, лежащей впереди. Сможет ли она сохранить главные достижения последних десятилетий и избежать при этом тривиальности взглядов, присущих крайнему редукционизму? Возможно ли вновь достичь уровня общей теории с ее уважением к целостности души человека, не жертвуя выгодами критического метода, так недавно обретенного? Мой ответ – осторожное «да». Чтобы это сделать, прежде всего требуется выделить те черты человеческой природы, что были потеряны из виду в массовом движении редукционистов. Естественно, второе требование – помнить недавно полученные методологические уроки.
Морфогенез и личность
Мы можем проиллюстрировать единство этих двух требований на примере рассмотрения конкретной проблемы из области человеческой личности.
Все знают, что нейропсихическая система каждого человека уникальна. При уникальном наследуемом генотипе и никогда не повторяющихся особенностях окружающей личность среды иначе и быть не может. Каждый знает, что хотя в системе данной личности нет окончательного единства, каждая система, тем не менее, высоко организована и последовательно структурирована. Адекватно ли психологическая наука относилась до сих пор к этой ситуации? Я думаю, нет. Картина, предлагаемая психологией, – это главным образом картина параметров, а не человека.
Хотя легко допускается существование индивидуальных различий (или параметров), личность – это нечто большее, чем пересечение параметров. Другими словами, ваша личность – это не просто совокупность ваших баллов по параметрам достижения, доминирования, интроверсии, интеллекта, невротизма или по факторам А, В и С . В действительности эти общие, или номотетические, измерения, входящие в нынешний «торговый ассортимент» психолога, могут даже не соответствовать вашей личной структуре. Даже если некоторые из них соответствуют (приблизительно), вопрос не в том, ќак ваши баллы по этим переменным отличаются от баллов других людей, а скорее в том, как эти качества влияют друг на друга в вашей собственной функционирующей системе.
Необходимо воображение, чтобы дать нам методы, соответствующие структуре и развитию отдельного человека. Надо пройти длинный путь, прежде чем улучшится наша оценка и понимание индивида, а также предсказание его поведения и контроль за ним. Для меня неприемлемо утверждение, что проблема уникальности лежит вне сферы науки, так как наука, как говорят, имеет дело только с общими знаниями и никогда – с уникальными случаями. Независимо от того, что может быть догмой в естественных науках, я настаиваю, что психологии предначертано заниматься проблемой человеческой личности, и для того, чтобы с этим адекватно справляться, она должна сосредоточивать свое внимание на морфогенезе отдельных паттернов. В официальном этическом кодексе Американской психологической ассоциации (APA) 1959 года психолог определяется как специалист, «обязанный увеличивать понимание человека человеком». А человек, заявляю я, существует только в конкретных, специфических, уникальных формах. Если вы ответите, что каждый объект природы уникален – каждый камень, каждое дерево, каждая птица, – я останусь непреклонным. Дело в том, что индивидуальная человеческая система настолько сложна, настолько поразительно изменчива в своих взаимодействиях с миром, и настолько изощренна ее саморегуляция, что нельзя сбросить со счетов вопрос уникальности, прибегнув к аналогиям с неживой природой или низшими формами жизни.
Стоящий перед нами вопрос не нов. Он обсуждался много раз, например, Мелом [185] , Сарбином, Тэфтом и Бентли [186] , а позже Холтом [187] . Если не ошибаюсь, большинство дискуссий кончалось тщательной защитой параметрического анализа. Разными словами нам говорят, что наука не может иметь дела с уникальными структурами, или уверяют, что в конечном счете нет разницы между молекулярным (то есть параметрическим) и морфогенетическим исследованием. Каждый биолог знает разницу между молекулярной и морфогенетической биологией, но психологи не спешат увидеть аналогичное различие в своей собственной науке.
Как указал Мел, в этом споре есть два отдельных вопроса. Один касается процесса понимания. Как психолог собирает в единый образ все те фрагменты информации, которые он получает, наблюдая за человеком? Этот вопрос поднимает трудную проблему сравнения роли логического (или ассоциативного) и интуитивного (или конфигурального) знания. Здесь возникают нерешенные эпистемологические проблемы. Для психологии вопрос сформулирован в терминах относительной предсказуемости, вытекающей из следования методу статистического (или актуарного) прогноза, который базируется на поведении среднего представителя данного класса, по сравнению с успешностью предсказания на основе клинического (индивидуального) понимания. Так как мы далеки от приемлемого решения этого спора, я призываю к воображению для разработки более подходящих методов эмпирического решения этой проблемы.
Второй вопрос в дискуссии параметры – морфогенез касается типа данных , необходимых для оценки индивидуального поведения. Являются ли баллы, полученные по измерительным шкалам, по проективным тестам или по опросникам, единственными нужными нам данными? В общем-то, сейчас мы работаем именно с этим типом данных.
Очевидны теоретические ограничения этого распространенного подхода. Когда мы оцениваем индивида в измерениях опросников, или баллов по тесту Роршаха или чего-то подобного, то мы предполагаем, что строение данной личности в его основе качественно подобно строению всех других людей. Одни и те же измерения прилагаются ко всем людям. Им позволяется иметь количественные различия, но только в рамках измерений, применяемых экспериментатором. Однако что, если границы, проходящие в нашей собственной жизни, наши «личные диспозиции» не соответствуют границам, проводимым на основе «общих черт»? [188] Не понадобится ли нам тогда новая точка отсчета, новое средство для раскрытия природы этих уникальных личных диспозиций?
Рассмотрим пример. Предположим, мы хотим выделить основные интересы и ценности человека. В настоящее время у нас есть несколько заранее кодифицированных шкал, которые мы можем применить (Kuder, Strong, Allport – Vernon – Lindzey). Естественно, мы обнаруживаем именно то, что ожидаем: количественные различия по категориям, заданным экспериментатором, но совсем не обязательно заданным изучаемой нами жизнью.
Более непосредственно морфогеничным является старомодное средство – прямо расспросить испытуемого о том, чего он хочет в жизни. Можно привести много аргументов в пользу этой простой процедуры. Возражения против нее возникают потому, что Фрейд заставил нас осознать самообман, который может вмешиваться. Также верно и то, что некоторые люди оказываются не в состоянии сформулировать собственные ценности, а некоторые могут даже не знать, каковы они.
Недавно Кэнтрил и Фри [189] подошли к этой проблеме с тем воображением, которое я считаю необходимым. Испытуемых в нескольких странах (в том числе – помимо Соединенных Штатов – в Индии, Нигерии, Бразилии и Польше) просили дать определение наилучшего (насколько они могут представить) образа жизни для себя. Затем испытуемому показывают рисунок лестницы и говорят, что верхняя ступенька представляет этот образ жизни. Далее его спрашивают, на какой из этих десяти ступеней он бы поместил себя сегодня, в процессе движения к желаемому. Где он находился пять лет назад? Где он рассчитывает быть через пять лет? Таким образом получают интересное изображение морали и мировоззрения на самостоятельно установленной шкале. Испытуемого также просят описать наихудший возможный образ жизни, который он может для себя вообразить. Эта пугающая возможность размещается внизу лестницы. Довольно интересно, что самый ужасный образ жизни редко является логической противоположностью наилучшего возможного образа жизни, даже если лестница в сознании субъекта образует некоторую разновидность психологического континуума. Это ясный пример того, что логические измерения экспериментатора могут терпеть неудачу в отображении феноменологических измерений изучаемого человека.
Итак, мы можем спросить – при условии, что этот метод устанавливает уникальную линию отсчета для индивида, посредством которой мы можем обнаружить и измерить его прогресс, – что нам делать с такой массой солипсистских данных? Не доказывает ли это просто того, что каждый человек безнадежно индивидуален?
Однако анализируя тысячи случаев, Кэнтрил обнаружил, что можно сконструировать подробный список, состоящий примерно из 145 пунктов, в разных пропорциях включающий большинство аспектов желаемого образа жизни, упомянутых во всех исследованных странах. Вы можете заметить, что таким образом мы возвращаемся к схеме измерений. Да, это делается в целях сравнения, но с двумя существенными отличиями от нашей обычной схемы измерений. Во-первых, никого из индивидов не подгоняют к общим категориям, если его стремления действительно своеобразны; и, во-вторых, используемые измерения индуктивно извлечены из реально переживаемых стремлений, а не придуманы экспериментатором в лаборатории.
Я упомянул этот пример воображаемого шага, предпринятого, чтобы приблизить научную психологию к изучению морфогенетического структурирования. Этот пример связан с областью личных ценностей. Однако можно указать и другие области для исследования образования паттернов. Подобным образом Шапиро [190] продемонстрировал свое воображение при работе с психиатрическими пациентами. На основе 5-часового интенсивного интервью с поступающим пациентом он конструирует опросник, который служит с течением времени стандартом для этого конкретного пациента, хотя он не будет прямо релевантным для любого другого пациента. Используемый с интервалами в месяцы и годы, этот метод позволяет отслеживать ход улучшения или ухудшения здоровья, а также изменения установок и взглядов.
В другом месте [191] я собрал ряд других разработанных в последнее время методов, которые, по-моему, служат примером морфогенетического подхода к изучению личности, которым сейчас пренебрегают. Я не буду здесь повторять этот перечень, скажу только, что хотя такие методы отнюдь не являются общими, они показывают, что в принципе воображение возможно. Некоторые техники оказываются смесью измерительных и морфогенетических процедур, например, Q -сортировка и репертуарный тест, и они дают частичные преимущества. Но нам еще предстоит долго идти в описываемом мной направлении. Выскажусь ясно: наши привычные измерительные методы обладают определенными достоинствами. Я просто считаю, что они односторонни и нуждаются в дополнении воображением.
Другие необходимые шаги
Помимо диагностики личности требуется активизировать воображение и в других областях психологии. Я, конечно, не могу составить научную повестку дня на будущее, но отважусь вкратце привлечь внимание к некоторым особо нуждающимся в этом областям.
Редукционизм оставил нам изрядные прорехи в сведениях о человеческом обучении. Я утверждаю это несмотря на то, что научение, возможно, самая исхоженная область нашей науки. Понятия «обусловливание» и «подкрепление» лишь немного продвигают нас к пониманию тайн приобретения знаний, навыков и мотивов. Но до сих пор обусловливание и подкрепление остаются понятиями чрезвычайно популярными. С рвением истинных редукционистов их часто предлагают в качестве универсальной формулы. Я думаю, что сегодня все больше и больше психологов сознают, что прогнозировать обучение взрослых в зависимости от их прошлых подкреплений является неоправданной экстраполяцией изолированных и неадекватных экспериментов. Фактически само понятие «научения» оказывается неадекватным. Человек (по крайней мере, после завершения младенчества), поглощает, впитывает, овладевает тем, что соответствует его концепции себя. И я утверждаю, что он делает это не для снижения напряжения, как считала бы господствующая теория научения, а для поддержания напряжения, соответствующего его чувству самоидентичности. Ясно, что это очень сложный вопрос, и в будущем потребуется воображение для его переформулирования.
Возьмем более специфическую тему совести. Важное озарение Фрейда состоит в том, что в детстве интериоризируется родительский наказ в форме суперэго. Возникает вопрос, обладает ли эта «совесть-долженствование» детства вообще какой-либо функциональной связью с чувством морального обязательства зрелого взрослого человека. Не может ли быть так, что «совесть-обязательство» взрослых в нормальной жизни функционально автономна от «совести-долженствования» детства? [192] .
Мы с благодарностью признаем, что Фрейд подарил нам способность самоанализа, включая искусство взгляда назад, на детство. Но теперь, когда мы в состоянии «встать Фрейду на плечи», мы можем видеть дальше, чем он, – вперед так же, как и назад. Мы обнаруживаем, что совесть имеет более широкие горизонты, чем были известны Фрейду. То же и религия. Согласно Фрейду, религиозное чувство – это развитие наших детских представлений о земном отце. Может быть, в ограниченных пределах, так и есть. Но более подробное изучение роли религиозного чувства у нормальных взрослых несомненно покажет, насколько скудной оказывается редукционистская формула Фрейда. Можно сказать и о заслуге Фрейда в достижении свободы отношения к сексу. Но является ли секс всей целостностью сложного чувства любви? Заслуга Фромма и других в том, что этот вопрос сейчас поднимается в новом психологическом контексте.
Странно, что психологи предпочитают проведение множества исследований агрессии любым исследованиям нежности и любви. Они изучают стресс, а не релаксацию; боль, а не радость; депривацию, а не реализацию; предубеждение, а не дружбу. Я не знаю, почему до сегодняшнего дня психологов главным образом привлекали именно наиболее темные стороны жизни. Быть может, это происходит по той же самой причине, по которой молодым людям нравятся «ужастики».
Краткое перечисление дополнительных областей, которые могли бы извлечь пользу из воображения, было бы отрывочным и лишенным целостности. Вместо такого перечня-стаккато позвольте, наконец, вернуться к проблеме построения теории.
Построение теории
Мы говорили о редукционистских теориях. Теории противоположного типа можно было бы назвать плюралистичными. Плюралист в психологии – это мыслитель, который не станет исключать никаких качеств человеческой природы, которые сами по себе представляются важными. Подобно плюралисту в философии, он благоволит многообразию и различиям интерпретаций. Естественно, результатом этого является любопытная смесь теорий.
Здесь уместна аналогия с понятием «культурного плюрализма»: всякий раз, защищая культурный плюрализм, мы в сущности выступаем в пользу такой нации, в которой каждое этническое племя сохраняет свою идентичность. Конечно, в то же самое время мы надеемся на некоторую форму всеобщего национального единства, но возможное единство оказывается довольно расплывчатым и неполным, а в некотором отношении и противоречивым. Те, кто считает, что нации лучше стремиться к полной ассимиляции, подобны редукционистам. Лучше, говорят они, работа ради органического единства, чем чреватый слабостью и несвязностью плюрализм.
В построении психологической теории существует та же самая дилемма. Все постижимое в отношении человеческой природы постигается конкретными человеческими умами, а конкретные человеческие умы – ограничены. Ни один тип интеллекта не в состоянии понять истину целиком. На этом простом факте Уильям Джеймс сконструировал свою разновидность плюрализма. Ни одна отдельная формула, полагал он, не может охватить всю мыслимую истину. Достоверное знание столь многообразно, что ни один теоретик не может объять все.
В то же время наша рациональность побуждает к созданию концептуальных систем, и чем более закрытой и жесткой является система, тем более она кажется рациональной и тем более удовлетворительной. Следовательно, мы оказываемся перед дилеммой: стремясь к связным системам, мы не в состоянии включить в нашу ограниченную логическую связность все разнообразие психического функционирования, с которым встречаемся. Редукционист – это человек, который разрешает дилемму, предпочтя связность адекватности. Он готов закрыть глаза (совсем или временно) на сложность своего объекта ради получения плодов рационализма. Плюралист, напротив, готов пожертвовать рациональной связностью, чтобы сохранить многообразие и тонкие оттенки.
Наиболее очевидный способ быть плюралистом – это быть эклектиком. Эклектик выбирает доктрины и принципы из разных систем мышления и как-то их склеивает в соответствии с собственным темпераментом. Если его темперамент может выносить противоречия, в одни моменты он будет придерживаться одной теории, в другие – противоположной. При обвинении в нелогичности он может ответить вместе с Эмерсоном, что «последовательность – это страшилище маленьких умов». Ничто, кажущееся истиной в каком-либо контексте, нельзя отрицать, даже если эти частные истины не согласуются между собой.
В психологии Уильяма Джеймса мы встречаем много парадоксов такого типа [193] . Его открытый ум был способен в разных контекстах принимать детерминацию и свободу, ментализм и физикализм, параллелизм и интеракционизм. Он и утверждал и отрицал бессознательное; он выражал и надежду и разочарование в отношении будущего психологии как науки.
Конечно, Джеймс претендовал на оправдание своих парадоксов в рамках широкой доктрины прагматизма. Прагматизм утверждает, что цель мышления – создавать понятия, которые будут руководить нами в практических действиях. Если последствия такого действия плодотворны, то мы считаем, что успешно установили какой-то аспект истины.
Джеймс знал, что его позиция «несистематична и расплывчата». Но он предпочитал ее тому, что он называл «ужасным привкусом обмана», отличающим работу любого психолога, претендующего на совершенную последовательность и адекватность своей теории. Таким образом, он бы не одобрил современного редукционизма с его претензиями на достаточность психоаналитических, стимульно-реактивных, операциональных или любых других логически удовлетворительных, но частичных позиций. Плюрализм обладает тем достоинством, что он приветствует воображение. Ничто не должно исключаться из рассмотрения лишь потому, что основано на еретической гипотезе (например, телепатия) или на немодном методе (например, изучение отдельных случаев). Допускаются новые перспективы и поощряются новые исследования.
Позвольте мне повторить: плюрализм не станет отрицать полученное редукционизмом понимание. Он примет свидетельства в пользу подкрепления наряду со свидетельствами в пользу когнитивной и эго-релевантной теорий научения. Он сохранит заслуги параметрического анализа, в то же время выискивая морфогенетические процедуры анализа формирования индивидуальных паттернов. Он примет истину, содержащуюся в теориях защиты эго, одновременно предоставляя простор бесконфликтной проприативной структуре « Я ». Он допустит наличие младенческих следов в суперэго, и вместе с этим взрослое чувство морального обязательства. Он признает роль стимула, но также и роль вызова, который значительно больше, чем стимул.
Мы еще не ответили на вопрос, обречен ли плюрализм на нелогичность импульсивного эклектизма, и является ли прагматизм единственно доступным концептуальным цементом. Мой собственный ответ состоит в том, что, с учетом воображения, психология будущего может сформировать более сильную теоретическую позицию, которую можно было бы назвать систематическим плюрализмом.
Систематический плюрализм
Цель систематического плюрализма – сформировать концепцию человеческой личности, которая не будет исключать ничего действительно важного и в то же время сохранит идеал логической последовательности. Он будет допускать нервное и ментальное, сознательное и бессознательное, стабильное и изменчивое, нормальное и аномальное, общее и уникальное. Все эти и многие другие парадоксы действительно присутствуют в человеческой природе. Все они представляют собой поддающиеся проверке способности, и ни один не может быть исключен из рассмотрения при построении теории.
Сейчас, конечно, невозможно сформулировать всеохватывающую теорию человеческой личности в понятиях систематического плюрализма. Такое формулирование требует воображения и, следовательно, относится к нашей программе на будущее. В другом месте [194] я предложил возможный подход.
Думаю, исходной точкой должно быть допущение, что человек сам является первичной системой (да, уникальной, но все же системой); и это система удивительно разнообразных возможностей. Мы уже знакомы со многими видами естественных систем в диапазоне от атома до Солнечной системы, от амебы до человека, от идиота до Аристотеля. Но системы, как мы знаем, различаются по степени открытости. Неживая система (камень или мост) подчиняется главным образом второму закону термодинамики. Живая система (дерево или птица) поддерживает себя в соответствии с принципом гомеостаза. Человеческая система еще более открыта. Поддерживая себя, подобно низшим формам жизни, на основе гомеостаза, она в то же время обладает способностью к значительно большей дифференциации и неуклонно старается стать чем-то большим, чем она есть, через свое предвидение, воображение и идеалы. Человеческая система вступает в бесконечно более сложные контакты с окружающей средой и с другими человеческими системами.