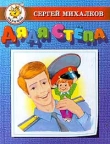Текст книги "Анискин и «Фантомас»"
Автор книги: Виль Липатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Анискин в это самое время самым внимательным образом разглядывает костюм: перевертывает, щупает, чуть ли не нюхает; постепенно на лице участкового вызревает восхищенно-благоговейное выражение.
– От такого костюма, – говорит он, – любой мужик умом тронется. Сколько стоит этот костюмчик в магазине?
– Сто восемьдесят.
– Такой бы Вере Ивановне купить. Муж-то у нее миллионщик.
– Как миллионщик?
– Вот ведь слово сказать нельзя – сразу вопросы. Ты, Евдокия, об этом никому ни слова. Слышишь? Я не говорил, ты не слышала. Вера Ивановна, она ведь и сама не знает, что муж у нее миллионщик. Учти и помалкивай.
Анискин входит в школьные ворота, на которых ветер пошевеливает плакат «С новым учебным годом, ребята!». Это происходит как раз в тот момент, когда звенит колокол – перемена… Из двухэтажного здания, словно взломав плотину, выбегают на улицу ребята; в течение двух-трех секунд они наполняют небольшой двор до отказа. Смех, крики, тоненький писк первоклашек, орет транзистор, висящий на груди верзилы-старшеклассника. Школьники радостно приветствуют Анискина; только и слышно: «Здравствуйте, дядя Анискин!», «Дяде Анискину привет!» Участковый кивает во все стороны, похлопывает ладонью по плечам мальчишек, девчонкам шутливо кланяется, а сам не отрывает глаз от школьников, которые достают из карманов и сумочек съестное, чтобы позавтракать… Какой-то мальчишка уписывает бутерброд с колбасой, девочка ест большое румяное яблоко, следующий мальчишка жует бутерброд с сыром. Все это мы видим крупно, подробно.
Участковый поднимается на второй этаж, по гулкому пустому коридору идет к дверям, на которых поблескивает табличка «Директор». Прежде чем постучать, Анискин снимает фуражку, приглаживает волосы, подтягивается.
– Войдите! – слышен голос Якова Власовича.
Они не здороваются, так как уже сегодня встречались, и Анискин без приглашения садится на диван, тяжело дыша – поднялся на второй этаж.
– Вот что, Яков Власович, – после паузы говорит он. – Смекаю так: ваше предложение надо принять… Вот я сейчас посмотрел, как школьный народ завтракает, так сам есть захотел. Правда ваша: Петька и Витька такого не вытерпят. Они товарищей в беде не оставят… Здорово вы это все придумали!
Директор радостно кивает и достает из стола лист бумаги.
– Вот список учащихся, родители которых работают на сплавном участке, – объясняет он. – Я уже распорядился, чтобы сегодня к шести их созвали на родительское собрание… Кто будет выступать? Вы или я?
– Оба! – веселеет Анискин. – А ну, дайте-ка бумаженцию, Яков Власович. Я вот что хочу сделать – выбросить из списка тех, кто слаб на язык. Нам болтунов не надо!
На ручных часах Анискина – тринадцать часов ноль-ноль минут, и на крылечке милицейского дома сидит геолог Лютиков. Это уже не тот человек, которого мы видели в первых кадрах фильма. Он как-то сузился, съежился, потускнел. Лютиков с криком бросается навстречу шагающему участковому.
– Ну, теперь вы понимаете свою ошибку, товарищ старший лейтенант! Кассиршу ограбили школьники, а вы подозреваете… Вы подозреваете меня…
Анискин, не останавливаясь, не посмотрев на геолога, поднимается на крыльцо и скрывается в доме. Растерянный Лютиков бежит за ним, тянет к себе дверную ручку, но не тут-то было: дверь изнутри закрыта.
Ссутулившись, на цыпочках Лютиков возвращается обратно, садится на нижнюю ступеньку. «Все пропало!»– написано на его конопатом лице с острым любопытным носиком. Он продолжает сидеть в горестной безнадежной позе, когда раздается мерзопакостный скрип оконной створки.
– Ответьте-ка на такой вопрос, гражданин Лютиков, – высовываясь из окна, обычным голосом говорит участковый. – С часу до двух, то есть в данный момент, у геологов обеденный перерыв?
– Перерыв, – тоскливо отвечает Лютиков;
– Так! Понятно! Значит, вы, гражданин Лютиков, еще не обедали?
– Нет. Не обедал.
Задумавшись, Анискин смотрит на легкие перистые облака, плывущие над широкой Обью, на старые осокори, на белых чаек.
– В тюрьме насчет этого строго, – продолжая любоваться знакомой картиной, мирно говорит он. – Завтрак, обед, ужин – все по часам. – Он деловито смотрит на часы – Задаю вопрос первый. Вы, гражданин Лютиков, предупредили милицию, то есть меня, о том, что геолог Морозов ограбил кассира… Теперь известно: клевета! За это вы, конечно, ответите, но вот такой вопрос: кто руководил несовершеннолетними преступниками? Ими руководил взрослый опытный человек. Повторяю: опытный! А кто в деревне прочел только за один август двенадцать книжек про жуликов и шпионов? Вот справка из библиотеки… Кто прочел эти книги?
– Я прочел, – сознается Лютиков. Анискин опять глядит в небо скучающими глазами.
– Я давно раскусил вас, гражданин Лютиков, – спокойно сообщает он. – Вы нарочно клеветали на честных людей, чтобы вам не мешали готовить ограбление сплавконторской кассирши… По этой причине вы можете быть свободны до тринадцати ноль-ноль завтрашнего дня. Интересы дела требуют, чтобы дознание пополнилось дополнительными данными. – Участковый вздыхает. – Придется вам, гражданин Лютиков, работать на голодный желудок. А вот в тюрьме все по часам: завтрак, обед, ужин… Идите, идите, Лютиков…
В доме Веры Ивановны Голиковой (прежняя фамилия Косая), как говорится, негде яблоку упасть. У одной стены – громадная деревянная кровать под цветастым пологом, возле противоположной стены стоит гигантский сундук, окованный железными полосками, – из тех купеческих сундуков, у которых замки со звоном, крышка изнутри оклеена картинками, из которых пахнет душным нафталином. Третья стена тоже занята: возле нее вплотную друг к другу установлены платяной шкаф и пузатый комод. Одним словом, вещей так много, что хозяйка видна не сразу. Однако Вера Ивановна дома. Сидя на полу, она перебирает вещи в плетеной корзине – разглядывает на просвет шелковую женскую рубашку, перекладывает с места на место чулки, платья. Лицо у нее сосредоточенное, движения вкрадчивые.
Вера Ивановна вздрагивает, когда в сенях слышатся тяжелые шаги, секунду спустя раздается стук в двери. Испуганная хозяйка быстро складывает вещи, ногой заталкивает корзину под кровать и бросается к дверям.
– Погодите минутку, – кричит она. – Я одеваюся.
Вера Ивановна врет, так как она вполне одета – на ней модные расклешенные брюки, цветная водолазка, туфли на высоком и толстом каблуке. Однако Вера Ивановна юркает в соседнюю комнату и очень быстро, буквально через полминуты возвращается, но в таком виде, что ее трудно узнать. На голову накинут старушечий полушалок, серое сиротское платье висит на плечах, как на вешалке, на ногах – разбитые туфли. Согнувшись, болезненно покашливая, Вера Ивановна идет открывать двери, в которые неторопливо входит участковый инспектор.
АНИСКИН. Фу, уморился! Жара такая, что рыбы дохнут, а ведь на улице – сентябрь… (Внимательно осматривается, без приглашения садится на гнутый стул). Ну, здравствуй, Вера Ивановна Косая-Голикова! Давненько мы с тобой не встречались.
КОСАЯ. Ты чего пришел, Анискин? Опять порочить честных людей?
АНИСКИН (смиренно). Зря ты на меня, Вера Ивановна, по сей день сердце держишь… А я к тебе по-хорошему.
КОСАЯ. Ладно уж, говори, зачем пришел?
АНИСКИН. Так, мимо шел. А не зайти ли к Вере Ивановне, думаю, может, ей впору будет тот костюм, что Дуська сегодня продавать собирается… Сузгиниха слыхала от Маренчихи, которой говорила Трандычиха, что Дуська говорила Мурзинихе, будто сегодня она будет продавать замшевый костюм…
КОСАЯ (задыхаясь от радости). Замшевый костюм! Это который в магазине сто восемьдесят рублей стоит?
АНИСКИН. Во! Он самый! Ну, я пошел… (Идет к дверям, но на полпути останавливается). Нет, молчать не буду! (Быстро возвращается к хозяйке). Не буду я молчать, Вера Ивановна! (Останавливается, машет рукой). Нет, не буду говорить! Нет, нет, в это дело я не полезу! (Быстро идет к дверям, открывает).
КОСАЯ (перехватывает его и подбоченивается). Нет, уж ты, Анискин, говори про то, что начал! Говори!
АНИСКИН. Ни слова не скажу! Прощевай, Вера Ивановна!
КОСАЯ (мгновенно запирает двери на ключ, который прячет за пазуху). До тех пор двери не отопру, покуда не скажешь.
АНИСКИН. Металлическая ты женщина, Вера Ивановна! Из тебя в кузне можно подковы ковать… (Решился). Два раза не умирать… Муж тебя обманывает, Вера Ивановна!
КОСАЯ. С кем?
АНИСКИН. Не с кем, а с чем… Он – миллионщик!
КОСАЯ (шлепнулась на стул). Миллионщик!
АНИСКИН. Миллионщик, а вся деревня говорит, что ты ему каждый день восемьдесят копеек, а то и рубль даешь… Это разве не правда?
КОСАЯ. Истинная правда! Сегодня восемьдесят дала, вчера рубль.
АНИСКИН. Во! Во! Он миллионщик, а вся деревня говорит, что вы на одной картошке сидите… (Пригорюнился). То-то я и гляжу на тебя, Вера Ивановна, и сердце от жалости ноет. Похудела, пожелтела, в чем душа держится. Оно и понятно: на одной картошке не разжиреешь!
КОСАЯ (зловещим шепотом, подбоченившись). На одной картошке? Это я-то сижу на одной картошке?! (Показывает Анискину дулю). А этого твоя деревня не видела? (Убегает в кухню и возвращается с миской, полной рыбы). Картошка? Я тебя спрашиваю, картошка?
АНИСКИН. Хороша стерлядка. Почем брала?
КОСАЯ. По два пятьдесят.
АНИСКИН (свистит). Не узнаю я тебя, Вера Ивановна! Стерлядь хорошая – никто плохого не говорит, но – два пятьдесят. Да вчера раза в два покрупнее этой Анипадист Сопрыкин по рубль восемьдесят продавал.
КОСАЯ. По рубль восемьдесят? Сопрыкин? (Разъярилась). Ну, погоди у меня, Сопрыкин! Ну, ты у меня еще напляшешься, Сопрыкин!
АНИСКИН. Правильно! Верные слова говоришь. Мы этого Сопрыкина в порошок сотрем… Ну, а теперь прощевай до завтра-послезавтра, Вера Ивановна! (Наклоняется к ней, тревожно). Ты поаккуратней с миллионщиком, неровен час – беда случится. (Уходит).
КОСАЯ. Миллионщик!
Солнце присело на западный берег широкой, как море, Оби; розоватая река течет спокойно, величаво; на плесе – лодки, катера, пыхтит мощный буксир. Жизнь в деревне по-вечернему размеренна: неспешно идут с работы мужчины, бегают ребятишки. Время как раз такое, когда до вечера остается целый час, но на дворе уже и не день; славное такое, спокойное и уютное время в деревенской жизни.
В актовом зале средней школы шумно и людно. Здесь собрались родители тех учащихся, фамилии которых были написаны участковым. Можно видеть крепких загорелых отцов – рабочих сплавного участка, чинно сидят бабушки и дедушки, весело переговариваются матери и тетушки; рядом с выходным платьем – замасленный комбинезон, с другой стороны – выходной мужской костюм. Шумно в зале потому, что родители не понимают, зачем их пригласили. Слышны реплики:
– Три дня прозанималися, и вот на тебе – собрание! – У нас собрания любят…
– Братцы, а ведь здесь все наши, сплавконторские! Что бы это могло означать?
– Крышу в школе менять будем.
Бабоньки, глядите-ка, да ведь это Анискин!
Действительно, в актовый зал, отдуваясь и на ходу вынимая из кармана несколько тетрадных листков, уверенной походкой входит участковый инспектор и директор школы, Анискин садится за стол, наливает из графина стакан воды, на виду у всех с неторопливым наслаждением выпивает. Только после этого участковый бросает взгляд в переполненный зал.
Директор школы хорошо поставленным голосом произносит:
– Слово имеет участковый инспектор райотдела милиции товарищ Анискин Федор Иванович.
– Я такое заявление сделаю, товарищи, – говорит Анискин. – Государство у нас шибко богатое – вот что! Я вчера в школу на большую перемену пришел и наблюдал такую картину. Борька Еремеев, отец которого в данный момент сидит на третьем ряду и ухмыляется, на большой перемене употреблял в пищу бутерброд с колбасой. Ленька Воронцов, у которого здесь сидит мама, в свою очередь, питался колбасой и холодной котлетой. Людмила Мурзина, родители которой сейчас находятся в заднем ряду, имела на школьный завтрак сыр и вареные яйца. Валерий Курасов… – Анискин останавливается. – Я чую, что сплавконторский народ не понимает, к чему я это все болтаю. Правильно, товарищи?
– Правильно! Не понимаем! К чему ты это, Федор Иванович? Ты попонятней объясни! – кричат из зала.
Анискин снисходительно улыбается:
– А я это к тому говорю, что наше богатое государство вам все-таки выдало аванс, хотя кассиршу ограбили. Три тысячи семьсот рублей взяли, а Борька Еремеев употребляет в пищу бутерброд с колбасой… Опять не понимаете?
Анискин выходит из-за деревянной трибуны, приблизившись к первому ряду, домашним голосом говорит:
– Я потому непонятно говорю, земляки, что хочу вашей помощи, хочу вместе с вами того взрослого преступника поймать, который ребятишек на грабеж сорганизовал. – Анискин прижимает руки к груди. – Я вам сейчас такое говорить буду, о чем, кроме вас, никто в деревне знать не должен. Поймите, друзья-товарищи, если об этом деле посторонний народ узнает, мне преступника, как своих ушей, не видать!
Солнце уже наполовину ушло за горизонт, над Обью висит золотое расплавленное облако, плывет с берега на берег; такой же красной, раскаленной кажется долбленая лодка, в которой сидит рыбак Анипадист Сопрыкин. Он скоро причалит к берегу, и участковый Анискин время от времени бросает на рыбака оценивающий насмешливый взгляд.
Анискин подходит к яру, садится на тот же пятачок свежей травы, где сидел прошлым утром; и позу он принимает вчерашнюю, и выражение лица у него прежнее, когда он наблюдает за тем, как Сопрыкин вытягивает на берег потяжелевший обласок, выложив вещи на песок, перевертывает его вверх дном. Передохнув, рыбак надевает на плечи большой туес с лямками; котелок, ружье, весло, дождевик и тулупчик берет в руки и начинает подниматься. Ноша у него тяжелая, рыбак устал – шагает тяжело, с остановками, жмурится от пота, заливающего глаза.
Выбравшись на яр, Сопрыкин кладет на землю ручную ношу, вытерев пот с лица, достает из кармана кисет, тщательными движениями сворачивает самокрутку.
– Ну, и терпенье у тебя, Федор, – прикурив, говорит он. – Ровно у кота, когда сидит у мышиной норы… Соскучился по мне?
– Спасу нет! – весело отвечает Анискин и поднимается. – А ты, Анипадист, чебачишек-то дивно напластал. Туес-то, поди, килограммов двадцать потянет?
И заглядывает в туес, где действительно полным-полно золотистых от солнца чебаков. Анискин восхищенно качает головой, затем, притронувшись пальцами к плечу Сопрыкина, просит:
– Ты сними туес-то, Анипадист, посиди, отдохни, со мной побеседовай. – Уроженец обских краев, участковый разговаривает с рыбаком на местном говоре: слова произносит протяжно, напевно, ласково. – Ты сними, сними туес-то, Анипадист. Ишь, как заморился! Весь мокрый – хоть выжимай…
Сопрыкин снимает туес, садится, повертывается лицом к реке. Закатное солнце уже потеряло яркость, на него можно смотреть, и некоторое время рыбак и участковый молча глядят на то, как западный край неба разливается золотом и голубизной.
– Знаешь, Анипадист, о чем я сейчас думаю? – негромко спрашивает участковый. – А вот о том, что ты больше моего денег имеешь. Пенсия у тебя – девяносто шесть, сторожишь в сплавучастковых мастерских – сорок пять рублей, старшой Федька тебе двадцатку каждый месяц шлет, Любка, врачиха, – десятку. Виталька, шахтер, – опять двадцатку. Баба твоя Феня по сию пору в колхозе работает, пластается почем зря… – Он замолкает, грустно глядит на закат. – Вчера я у фельдшера Якова Кирилловича был… Артемий Мурзин помирает!
Широко открытыми глазами Сопрыкин по-прежнему смотрит на бордовое солнце, в пальцах дымит забытая самокрутка, губы плотно сжаты.
– Разве о деньгах мы думали, когда под Оршей в окопах лежали? – тихо продолжает Анискин. – Неужто ради них нас пули живыми оставили? Ну, не может этого быть, Анипадист, чтобы мы для денег живыми остались! Ты не молчи, ты хоть слово вымолви, может, мне полегчает.
Сопрыкин молчит, по-прежнему дымит в пальцах забытая самокрутка.
– Не пойму я тебя, Анипадист! – тоскливо продолжает Анискин. – То ли это от стыда, то ли от того, что жадность заела… А ты на себя еще с одной стороны глянь. Спроси-ка себя ты: «А кого я, Сопрыкин, честный человек, запрещенной стерлядью кормлю?» И ты так ответишь: «Всякую сволочь кормлю!» Хороший-то человек у тебя стерлядь не покупает, Анипадист, хороший человек знает, что если сейчас лов стерляди не прекратить, то ее через пять лет в Оби-матушке ни одной не останется. Поэтому и кормишь ты стерлядью Верку Косую.
Участковый придвигается к Сопрыкину, кладет руку на плечо:
– Ты кури самокрутку, Анипадист, а то пальцы обожжет… Ты кури, а я тебе напомню, о чем мы думали, когда под Оршей в окопах лежали… Вот лежим мы с тобой под кривой березой, табак курим, на небо глядим. Ты вот так же, как сейчас, про цыгарку забыл, она тебе пальцы жжет, а потом ты говоришь: «Ничего я не хочу, Федя, кроме того, чтобы на Обишку хоть одним глазом посмотреть…» Вот что ты мне под Оршей сказал, а теперь… Сердце у тебя болеть не будет, если Обишка пуста станет, как та баба, что родить не может?
Край раскаленного солнца уткнулся в горизонт, солнце уменьшилось, точно от него откусили кусочек, разноцветные лучи затрепетали, рассыпались веером, по реке пронеслась длинная и тревожная волна ряби. Сопрыкин в последний раз затягивается самокруткой, щелчком забрасывает окурок под яр, не глядя на участкового, поднимается. Схватив туес за лямку, он опрокидывает его – сначала на землю вываливаются чебаки, потом струится тонкая, изящная живая стерлядь – царская рыба. Туес кажется бездонным, так как стерлядь все сыплется и сыплется, гора рыбы растет, а Сопрыкин с ожесточенным лицом, с лихорадочно блестящими глазами шепчет и шепчет:
– Я ее много напластал, стерляди-то, много напластал… Я ее столько много напластал, что ей конца не будет… Я ее много напластал, стерляди-то, много напластал…
Звезды горят в небе, лунная полоса призрачно перечерчивает реку, далекая крупная звезда уже превратилась в громадный, залитый праздничным светом пароход; он так близок к пристани, что уже можно прочесть на борту слово «Луначарский» и разглядеть на палубе пассажиров. Пароход начинает швартоваться к небольшому деревянному дебаркадеру. Происходит обычное: раздаются тоненькие гудки, стоит на мостике с мегафоном первый помощник капитана, слышно, как по гулкой палубе стучат твердые матросские каблуки; летит на берег тонкая веревка с легкостью. Когда пароход окончательно пришвартовывается, с конца дебаркадера, никому не видимый, на пароходную корму спрыгивает Анискин, юркает в салон третьего класса.
Из салона участковый попадает в пролет, по нему осторожненько пробирается к трапу, через который происходит посадка и высадка пассажиров. Прячась за спины матросов, участковый следит за происходящим…
Сначала толпа течет с парохода на берег, потом – в обратном направлении. Через несколько секунд трап пустеет, и Анискин удовлетворенно ухмыляется: теперь он совершает обратный путь: из пролета возвращается на корму парохода. Здесь можно видеть следующее: бухты тросов, бочки, тюки, корову, меланхолично жующую сено, заржавленный якорь. Анискин оглядывает все это насмешливым взглядом, йотом уверенно идет к бочкам.
– Ваши билетики? – обращаясь к бочкам, спрашивает он. – Про-о-о-шу предъявить билетики!
Витька и Петька встают на ноги.
– Слезай – приехали! – радушно приветствует их участковый. – Пристань «Вылезай-ка!».
Пароход издает тревожный прощальный гудок, и уже не слышно того, что говорит ребятам участковый, а он не молчит: это видно по его движущимся губам и энергичным жестам. Мальчики понуро стоят перед Анискиным.
Сентябрьское утреннее солнце щедро поливает деревню прозрачными голубоватыми лучами. Веселая, хорошо отдохнувшая деревня идет на работу; слышны утренние голоса, смех, музыка из уличного громкоговорителя, и только один грустный человек виден на деревенской улице – геолог Лютиков. Он в привычной нам позе сидит на крыльце милицейского дома…
Не очень весело и в пятистенном доме, сложенном из свежей брусчатки. В одной половине этого дома разыгрывается такая сцена: в кухне за столом сидит белоголовая девчонка в школьной форме и грустно смотрит в тарелку с молочной лапшой. За ее спиной вздыхает мать. Она гладит дочь по голове и говорит:
– Не обессудь, доченька, больше ничего нету… Кассиршу обворовали, нам деньги не выдали… И на завтрак ничего не дам… Потерпи, родная… Да ты ешь лапшу-то, она молочная!
…В другой половине этого дома посредине кухни стоит вихрастый мальчишка и недовольно кривит губы, так как держит в руке кусок черствого хлеба.
– Это что? – недоуменно спрашивает он.
– Завтрак! – отвечает мать. – Отец и без того на работу ушел… Поголодайте, голубчики, если у вас в школе грабители завелись!
Положив хлеб на стол, мальчишка уходит из дома, идет по дорожке, усеянной желтыми осенними листьями; они шуршат и лопаются под его ногами; грустно все это, печально…
А вот еще один дом, в котором царит несчастье. Здесь пожилая мамаша чуть ли не со слезами прижимает к своей пышной груди голову сына и, глядя поверх нее, говорит:
– Ни единой копеюшки в доме нету.
– Ничего, мамуха, ничего! – мужественно отвечает сын. – Перебьемся как-нибудь…
…Однако не все сыновья так великодущны и мужественны. Вот что, например, происходит в большом зажиточном доме. Здесь сын-ученик, видимо, проспал и теперь торопится. Лохматый, капризный, он врывается в кухню, где за столом в горестной позе сидит мать, с порога требовательно бросает:
– Завтрак и двадцать копеек на кино. Гони, матуха, опаздываю. Побаиваясь капризного сына; мать смущенно отводит глаза, морщится, но все-таки преодолевает жалость:
– Нет ни завтрака, ни денег, сыночек! – говорит она. – Ты уж сегодня потерпи, а я вечерком к Маринчихе сбегаю… У колхозников-то деньги есть.
Сын не понимает.
– Гони скорее – опаздываю я!
Мать в отчаянии:
– Нету, нету, сыночек!
Разноцветная толпа школьников потоком вливается в школьную ограду, шумит, буйствует… Над Обью кричат чайки, гремит металл на буровой вышке, в колхозном поле стрекочут комбайны… Недалеко от школы, в пожелтевшем, но еще густолистом скверике прячется Анискин – наблюдает. И по мере того, как мимо участкового проходит все больше и больше школьников, он все самодовольнее потирает руки. Дело в том, что дети сплавконторских рабочих заметно выделяются – они идут в одиночку, задумчивые, обособленные, тогда как дети колхозников ведут себя обычно: шалят, переполнены весельем и энергией… Вот шагает грустная белобрысая девчонка, гордо в сторонке идет великодушный сын, капризно отвертывается от товарищей сын-эгоист, вихрастый мальчишка носками ботинок разгребает сухие печальные листья… Одним словом, сплавконторских ребят можно в толпе различить с первого взгляда, и Анискин торжествует.
– То-то еще будет! – восторженно бормочет он. – Держитесь, Петька и Витька! – И опять восторженно потирает руку об руку. – Ох, и умные же люди директор школы Яков Власович и этот дядя Анискин! Головы!
В классе, где учатся Петька Опанасенко и Витька Матушкин, заканчивается урок физики. Преподаватель диктует:
– Решить задачи номер сто сорок девять и сто сорок восемь.
В классе стоит тот шум, какой бывает за несколько секунд до звонка; у многих ребят есть наручные часы, они нетерпеливо посматривают на них. Наконец раздается громкий веселый звонок – долгожданная большая перемена.
Петька и Витька сидят на задней парте. Лица у них мрачные, тоскующие; они никуда не торопятся, когда весь класс с восторженным ревом спешит к дверям. Класс пустеет. Петька и Витька продолжают сидеть неподвижно, думают свои думы. Наконец Петька поднимается, волоча ноги, идет к выходу. Витька следует за ним.
На школьном крыльце ребята останавливаются, словно не знают, куда идти, да и стоит ли идти. Мрачный взгляд Петьки рассеянно блуждает по школьному двору, наконец задерживается на деревянной скамейке, на которой сидят четверо школьников. Трое из них жадно уплетают завтраки, а четвертый – вихрастый мальчишка – смотрит на них. Что-то в этой картине привлекает внимание Петьки, хотя он еще не понимает ее значения.
Оживающие Петькины глаза останавливаются на группе ребят, сидящих на бревне; опять похожая картина: трое едят – двое жадно смотрят на них… Петька выпрямляется, сжимает губы, спускается с крыльца…
На неподвижных качелях сидят три аккуратные девочки. Одна из них нам знакома. Девочка старается не смотреть на своих завтракающих подруг. Как раз в этот момент, когда Петька замечает трех девочек, завтракающие дружным движением протягивают подружке еду.
– Ешь, Людка! – говорит первая.
– Возьми яблоко! – просит вторая.
Петька засовывает руки глубоко в карманы, повертывается на сто восемьдесят градусов – перед ним еще более душещипательная сцена. Прислонившись к забору, едят пухлые бутерброды два толстяка– обжоры, розовые, как поросята, а известный нам эгоист-мальчишка капризным голосом просит:
– Борька, оставь немного.
Борька с полным ртом отвертывается от просителя – вот какой это жадный человек!
– Алеша… – пытается обратиться ко второму толстяк избалованный сын, но и Алешка отвертывается.
На лице Петьки страдание. Он тяжелым мужским шагом возвращается к Витьке, который тоже уже понял, что произошло. Петька берет товарища за руку, ведет в класс.
Мальчишки садятся на свою парту, не глядя друг на друга, замирают. В открытые окна проникает веселый шум большой перемены; легкие занавески раздувает ветер, солнце светит во всю ивановскую.
– Ты не молчи, Петька, ты чего-нибудь говори, – жалобно просит Витька Матушкин.
– А я чего могу говорить?! – зло кричит Петька, но немедленно меняет тон. – Я ничего не знаю, Витька! – тихо говорит он. – Был Фантомас да весь вышел…
И они опять горестно замолкают.
Возле мощной буровой вышки, во время пересмены, собрались рабочие-буровики, всего человек двадцать. В опрятных синих спецовках они живописно расселись – кто устроился на пеньке, кто посиживает на штанге, кто на крыле трактора; другие сидят просто на земле. Идет шестой час вечера, и Анискин то и дело посматривает на часы – он, как всегда, торопится.
Отдельно от рабочих расположилась руководящая тройка буровой партии – начальник, секретарь партийной организации, профсоюзный руководитель.
– Слово имеет Валентин Валентинович Бережков, – объявляет начальник.
Поднимается пожилой рабочий.
– Не думал я, – наконец говорит он, – что наступит час, когда я буду стыдиться смотреть на Василия Опанасенко. Трудно мне, товарищи, муторно! Разве можно поверить: опытный механик, хороший товарищ, старательный работник гибнет из-за такого дерьма, как водка? Я бы, наверное, убежал на край света, если бы мне пришлось быть на месте Василия…
– Правильно, абсолютно правильно! – кричит с трактора геолог-азербайджанец. – Зачем пить водку, когда есть хорошие азербайджанские вина. Пришли гости, принесли в дом радость – пей хорошее вино! Хочешь, Вася, мои папа и мама пришлют тебе три ящика лучшего вина?
Геологи сдержанно посмеиваются, начальник партии поднимает руку.
– Не мешайте выступающему, товарищ Мамед-оглы, – просит он. – Продолжайте, Валентин Валентинович.
Пожилой буровик хмурится.
– Нефть – чистый продукт, – говорит он, – и добывать ее надо чистыми руками… Это все, товарищи! Я не привык стыдиться товарищей по работе.
Бережков садится в тяжелой гнетущей тишине, и теперь видно, что не только он, но и другие геологи стыдятся смотреть на сжавшегося в комок Василия Опанасенко.
– Слово имеет Игорь Юрьевич Протасов… – объявляет председательствующий.
Слышно, как на Оби тревожно гудит буксирный пароход. Наверное, испуган близким красным бакеном – в сентябре река узка.
На дворе еще светло, солнечно, когда Петька Опанасенко возвращается домой. Войдя в ограду, он видит отца, который, сгорбившись, сидит на крыльце.
Услышав шаги, Опанасенко-старший поднимает голову, ловит взгляд сына, отвертывается. Тогда Петька садится рядом с отцом, подпирает рукой подбородок. Они молчат, так как, видимо, нет слов, которые они могли бы сказать друг другу. Что делать? Как жить дальше?.. В молчании проходит много длинных секунд, затем Опанасенко-старший тяжело разжимает губы.
– Меня взяли на поруки, – еле слышно произносит он. – Прости меня, Петруха!
В тишине выходит из дома мать, немного постояв, тоже садится между мужем и сыном. Опять тянутся бесконечно томительные секунды.
– Сколько ни болела, а все равно умерла, – вдруг бодрым, веселым голосом произносит Валентина Ивановна. – Идемте, мужики, ужинать. Идемте!
Мать семейства, оказывается, накрыла ужин не в кухне, а в просторной гостиной. И какой ужин – праздничный, обильный, в лучшей посуде. Стол буквально ломится от еды – вот какой ужин!.. Увидев стол, Опанасенко-старший только тяжело вздыхает, а вот Опанасенко-младший смотрит на стол так, словно на нем не еда, а чудовищной силы бомбы. Мальчишка, как взнузданный конь, вздергивает голову, выпрямляется.
– Я не буду ужинать, – говорит он. – Я не могу есть, когда мои товарищи… Прощайте!
Уверенным шагом человека, разрешившего все важные вопросы, твердо знающего, что надо делать, Петька выходит со двора. Он так нетороплив и силен, что даже останавливается на секундочку – посмотреть, как величественно, мирно и плавно катит свои волны река, послушать, как шелестят на берегу старые осокори. Он смотрит таким взглядом, словно навечно прощается со всем этим.
Петька идет дальше – высокий, сильный, спокойный: настоящий мужчина…
…А вот Петька уже не один: рядом с ним шагает Витька Матушкин. Мимо мальчишек чередом проплывают деревенские дома, пробегают школьники, шагают взрослые, однако для мальчишек ничего этого не существует: они смотрят только вперед, только в то беспросветное будущее, которое ждет их.
Петька и Витька решительно поднимаются на крыльцо милицейского дома. Анискин тут как тут…
– Ага, голубчики! – вотирая руки, говорит он. – Пришли, а то уж я заждался.
– Мы украли деньги, – говорит Петька. – Мы знаем, где они. Пишите протокол!
– Мы все скажем! – со слезами на глазах заверяет участкового Витька Матушкин.
– Первый час ночи; в доме Веры Ивановны Косой не спят. Хозяйка сидит на сундуке, киномеханик Голиков ужинает. Суп он уже съел (пустая тарелка стоит на столе) и теперь внимательно разглядывает второе – жареную картошку.
– Что это такое? – спрашивает он.
– Картошка с мясом. Если слепой, купи очки.
– Где же мясо?
– Там же, где деньги! – отвечает жена. – Ты мне сколько денег на эту неделю выделил? Три рубля, а вся деревня говорит, что ты – миллионщик.
Киномеханик резко вскидывает голову, тупо глядит на жену, а Вера Ивановна уже почти кричит:
– Вся деревня знает, что ты – миллионщик! Говори, где деньги прячешь? Где твои миллионы?