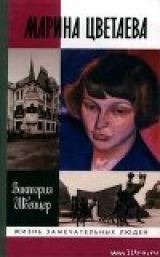
Текст книги "Марина Цветаева"
Автор книги: Виктория Швейцер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Теперь Мандельштам чувствует Россию изнутри. Он научился слушать ту «подземную музыку русской истории», о которой сказано в его «Барсучьей норе». В нем нет больше ни удивления, ни восторга чужеземца. Так просто и трезво может видеть окружающее только свой. То, что мелькает перед ним, пока сани везут его – по Москве? по Угличу? – русская повседневность, тянущаяся столетия, вне зависимости от эпох и катаклизмов, происходящих с отдельными людьми.
Комментируя эти стихи, Н. И. Харджиев в последней строфе видит связь с царевичем Алексеем, сыном Петра Великого, которого везут по приказу отца из Москвы в Петербург на казнь. Но, возможно, Мандельштам имел в виду Лжедимитрия – царевича Димитрия, сознательно стирая грань между лже и настоящим царевичем. Ведь и Цветаева в стихах «Димитрий! Марина! В мире...» вводит нас в сомнение – царевич ли Димитрий был убит в Угличе? И самозванец ли Лжедимитрий?
Взаправду ли знак родимый
На темной твоей ланите,
Димитрий, – всё та же черная
Горошинка, что у отрока
У родного, у царевича
На смуглой и круглой щечке
Смеясь целовала мать?
Воистину ли, взаправду ли...
Но Алексея или Димитрия везут в мандельштамовских санях со связанными руками и онемевшим телом – это сам поэт: божественный мальчик, отрок, прекрасный брат цветаевских стихов. «На ро́звальнях, уложенных соломой...» – ответ Цветаевой, разрешение тем, возникших в их диалоге, катарсис. Принимая из ее рук Москву, Россию, Мандельштам принимает ее всю, со всем светом и тьмою, какие в ней есть. Это отчетливо скажется в его следующем стихотворении «О этот воздух, смутой пьяный...», которое начинается «на черной площади Кремля», а кончается внутренним светом:
Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь, —
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь.
Отныне это и его огонь. Мандельштам никогда не раскается, что принял дар от Цветаевой, и никогда от него не отречется. Вобрав в себя всю Россию, став частицей ее истории, он заранее предвидит и гибель – от нее ли, с нею ли – будущее покажет. «На ро́звальнях, уложенных соломой...» – ответ на цветаевские пророчества, предчувствие и принятие гибели.
Скорее всего ни Цветаева, ни Мандельштам по-настоящему не осознавали, что значила для каждого из них эта встреча. В дни их дружбы ей было 23, ему – 25 лет. За него это осмыслила его вдова в своей «Второй книге». «Дружба с Цветаевой, – писала Надежда Мандельштам, – по-моему, сыграла огромную роль в жизни и в работе Мандельштама (для него жизнь и работа равнозначны). Это и был мост, по которому он перешел из одного периода в другой. <...>Цветаева, подарив ему свою дружбу и Москву, как-то расколдовала Мандельштама. Это был чудесный дар, потому что с одним Петербургом, без Москвы, нет вольного дыхания, нет настоящего чувства России, нет нравственной свободы...» [66]66
Мандельштам Н. Указ. изд. С. 380.
[Закрыть]
Но и для Цветаевой эта дружба не прошла бесследно. Серьезность и глубина мандельштамовских размышлений о мире, об истории и культуре и для нее открыли новый простор, и у нее появилось «вольное дыхание». Ее поэзия одновременно стала и шире, и глубже. Как Мандельштам по стихам, обращенным к Цветаевой, перешел в новый этап своего творчества, открыл ими сборник «Tristia», так и она «мандельштамовскими» стихами начала новый этап своей лирики – «Версты». Ими открылась эпоха взрослой Цветаевой. Она считала, что не испытала в творчестве никаких литературных влияний, а только человеческие. Это как нельзя более верно в отношении ее встречи с Мандельштамом. Оставшись вне его поэтического влияния, она заметно выросла под влиянием его личности, открыла в себе новые возможности. Без Мандельштама ее рост не был бы так стремителен, не устремился бы внутрь, в душевные глубины. Только после стихов к Мандельштаму могли появиться циклы стихов к Александру Блоку и Анне Ахматовой.
* * *
Этим летом Сергей Эфрон оставил военно-санитарный поезд. Его призвали в армию, и он должен был пройти курс в школе прапорщиков. До этого он успел побывать в своем любимом Коктебеле – ему необходим был отдых. «По крайней мере, он немного отдохнет до школы прапорщиков, – писала Марина Лиле Эфрон. – Я, между прочим, уверена, что его оттуда скоро выпустят, – самочувствие его отвратительно». В Коктебеле он познакомился с поэтом Владиславом Ходасевичем. Обычно не склонный к похвалам, Ходасевич писал жене, рекомендуя Эфрона: «Он очаровательный мальчик (22 года ему). Поедет в Москву, а там воевать. Студент, призван. Жаль, что уезжает». И в другом письме: «он умный и хороший мальчик» [67]67
Цитаты из писем В. Ходасевича по кн.: Ходасевич В. Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. Предисл. и коммент. Н. Богомолова; Примеч. к письмам и заключительная ст. И. Андреевой. М.: СС, 1996. С. 358–359, 422.
[Закрыть]. Сережа все еще воспринимался как мальчик, хотя давно был «отцом семейства», Але скоро должно было исполниться четыре года. Осенью начались занятия в школе прапорщиков – его не освободили. Война подходила вплотную к семье. В Александрове рядом с домом был полигон, Цветаева наблюдала за военными учениями; на станции вместе с детьми – Алей и племянником Андрюшей – провожала солдатские поезда, уходившие на фронт. «Махали, мы – платками, нам фуражками. Песенный вой с дымом паровоза ударяли в лицо, когда последний вагон давно уже скрылся из глаз...» – вспоминала она. Как и в начале войны, она не ощущала никакого патриотизма, не грезила о победе. К ее отрицанию войны прибавилось чувство ужаса от бессмыслицы происходящего, ненужности жертв. Она смотрела на войну глазами простой солдатки, без пафоса и громких слов. Собственно, она почти не пишет о войне. Ее отношение выражает строка из «Стихов к Блоку»: «И толк о немце – доколе не надоест!» Однако впечатления Александрова не могли не обернуться стихами:
Белое солнце и низкие, низкие тучи,
Вдоль огородов – за белой стеною – погост.
И на песке вереница соломенных чучел
Под перекладинами в человеческий рост.
И, перевесившись через заборные колья,
Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд.
Старая баба – посыпанный крупною солью
Черный ломоть у калитки жует и жует...
Чем прогневили тебя эти серые хаты —
Господи! – и для чего сто́льким простреливать грудь?
Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,
И запылил, запылил отступающий путь...
– Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой
О чернобровых красавицах. – Ох, и поют же
Нынче солдаты! О, Господи Боже ты мой!
Ей самой предстояло вскоре стать «солдаткой». В январе семнадцатого года Сергей Эфрон был направлен в Нижний Новгород в распределительную школу прапорщиков. Конечно, это было лучше, чем фронт, но тревога уже поселилась в душах близких. Мы узнаём об этом из письма В. Ходасевича от 26 января 1917 года к его другу, поэту и критику Борису Садовско́му – вероятно, Ходасевич пишет по просьбе Эфрона или Цветаевой: «Вчера отправлен к Вам в Нижний, в какую-то студенческую распределительную школу прапорщиков, мой добрый знакомый, умный и хороший человек, Сергей Яковлевич Эфрон, муж Марины Цветаевой... Человек он совсем больной, не очень умеющий устраивать свои дела, к тому же не имеющий в Нижнем знакомых. Я решился дать ему Ваш адрес. Так вот, если он к Вам зачем-нибудь обратится, – не откажите ему в дружеской услуге и внимании. Может быть, он воспользуется Вами для устройства хождения в отпуск или чего-нибудь в этом роде. Может быть, ему предстоят какие-нибудь комиссии и проч.: используйте же и в сем случае то влияние, которое есть у Вас и у Вашей семьи в Нижнем. Повторяю, это человек больной, как мы с Вами. Его жаль душевно. <...> Еще раз простите, – но мне Эфрона мучительно жаль. Он взят по какому-то чудовищному недоразумению».
Эфрон был оторван от семьи, оставив дома беременную Марину и маленькую Алю. Трудная беременность, непривычные бытовые заботы, вызванные войной, усугублялись разлукой с мужем и постоянным беспокойством за него. Но и это не рождало у Цветаевой ненависти к «врагу». На третий год войны у нее появилась формула, которая и потом, в годы Гражданской войны, выражала ее отношение к происходящему:
Сегодня ночью я целую в грудь
Всю круглую воюющую землю...
Для Цветаевой мир не делился на «наших» и «немцев». «Сын – раз в крови», – скажет она позже.
Глава четвертая
Революция
Ни одного крупного русского поэта современности, у которого после Революции не дрогнул и не вырос голос – нет.
Цветаева ждала ребенка. История повторялась: как когда-то ее мать, она ждала и мечтала только о сыне. Эта мечта скрашивала и тяжелую беременность, и тоску одиночества: от Сережи подолгу не бывало вестей. Отгоняя стихами страхи и тревожные мысли, Цветаева писала ночами. В эти первые месяцы семнадцатого года стихи не захлестывали ее, как прошлой весной и летом, но они являлись – и она работала.
Москва жила предчувствием и ожиданием каких-то важных событий, но Цветаева, кажется, не замечала того, что происходит вокруг, погруженная в свои собственные предчувствия и ожидания. 27 февраля в Москве узнали о государственном перевороте в Петрограде, а вечером телефонная связь со столицей прервалась. На другой день утром начали бастовать заводы, остановились трамваи, не вышли газеты. На Воскресенской площади против Государственной думы целый день продолжался многолюдный митинг. Москва всколыхнулась, но ничего чрезвычайного – стрельбы, уличных боев или беспорядков – не было. Журналисты отмечали, что «порядок все время царил образцовый» [68]68
Исторический вестник. Пг., 1917. Т. 147. С. 51.
[Закрыть]. В письме тех дней художница Юлия Оболенская сообщала подруге: «...что было курьезно, так это получение твоей посылки с сушеньем и кофе... в первый день революции, когда за окнами ликовала улица и ехала артиллерия с красными флагами. Было чувство вихря, урагана – а по отношению к собственной конуре – необитаемого острова, куда попав случайно, не можешь иметь сношений с людьми. И вдруг звонок и посылка с черной смородиной! Это чувство „острова“, конечно, гипербола первого дня, когда все еще было неизвестно – а на самом деле даже телефон не переставал работать, запасы свеч, воды, сделанные некоторыми, были излишни, т. к. все было в идеальном порядке. Эти обстоятельства прибавили еще что-то к общей стройности, сказочности происходившего...»
О М. Волошине, проводившем зиму в Москве, в этом письме говорилось, что он «носится из дома в дом и кипит и бурлит известиями, планами, проектами...»; о Магде Нахман, четыре года назад в Коктебеле писавшей портреты Марины и Сережи: «она всё носилась по улицам в первые дни...» [69]69
РГАЛИ. Фонд 2080, оп. 1, ед. хр. 5.
[Закрыть]
А по Петрограду «в расстегнутой шинели и без шапки», как мальчишка, носился Владимир Маяковский.
Он был убежден:
...днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!
Второго марта образовалось Временное правительство. Император Николай Второй отрекся от престола. Третьего марта отрекся от престола и его брат Великий князь Михаил Александрович. Подъем и ощущение «сказочности происходящего» охватили многих. Казалось, что так, почти бескровно, «совершился первый акт великой русской революции», что вот-вот, на днях начнется небывалая новая жизнь и наступит всеобщее благоденствие. В редакционной статье «Государственный переворот» «Исторический вестник» писал: «над русской землей взошло яркое солнце, живительные лучи которого должны согреть ее теплом и светом, вызвать наружу ее творческие силы, столь долго находившиеся под гнетом старой власти...» [71]71
Исторический вестник. Т. 147. С. 1, 80.
[Закрыть]
Александр Блок, бывший в армии и вернувшийся в Петроград во второй половине марта, писал матери, что «произошло чудо и, следовательно, будут еще чудеса. Никогда никто из нас не мог думать, что будет свидетелем таких простых чудес, совершающихся ежедневно...
Казалось бы, можно всего бояться, но ничего страшного нет, необыкновенно величественная вольность, военные автомобили с красными флагами, солдатские шинели с красными бантами, Зимний дворец с красным флагом на крыше...» [72]72
Блок А. Собр. соч. В 8 т. Т. 8. С. 480.
[Закрыть].
А Цветаева? Вряд ли в ее положении она могла и хотела бегать по городу. Но и она выходила на улицы, видела и возбужденные то́лпы, и солдат, и красные флаги. Слышала и крики, и шепоты. Но воспринимала все по-иному:
И проходят – цвета пепла и песка —
Ре́волюционные войска.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Нету лиц у них и нет имен, —
Песен нету!
Песня для Цветаевой – мерило правды. Не алые флаги, а отсутствие песен определило в этот момент смысл происходящего. «Песня» в данном контексте имеет не только прямой, но и внутренний смысл, близкий блоковскому понятию «музыки мира». Может быть, природная близорукость помешала Цветаевой разглядеть революцию в том «чудесном» свете, в котором поначалу увидели ее Блок, Маяковский и многие другие современники?
Заблудился ты, кремлевский звон,
В этом ветреном лесу знамен.
Помолись, Москва, ложись, Москва, на вечный сон!
Стихотворение, из которого взяты обе эти цитаты, «Над церко́вкой – голубые облака...», написано в день отречения от престола Николая Второго. Хронологически оно – первое, вошедшее потом в книгу «Лебединый Стан». Цветаева никогда до того не была монархисткой, сам факт отречения не мог вызвать у нее мысли о гибели, «вечном сне» родного города. Возможно, рационалисту повод, вызвавший эти чувства, покажется незначительным или иррациональным, но для Цветаевой безликость и беспесенность революционной массы не предвещали ничего хорошего. Образ ветра, прежде интимно связанный с ее собственными переживаниями, в этих стихах отчуждается и принимает двусмысленную и даже зловещую окраску. Словосочетание «ветреный лес знамен» воспринимается и как ветер, шевелящий (играющий, шумящий) множеством знамен, и во втором значении слова «ветреный», означающем пустой, ненадежный, несерьезный, безответственный... Революционные войска топотом и шумом заглушают звон кремлевских колоколов – в этом видит Цветаева угрозу Москве. Такой взгляд и такие стихи были диссонансом в радостном угаре революционных событий. Месяц спустя, в первый день Пасхи, она обратилась в стихах к свергнутому монарху: «Царю – на Пасху». Цветаева пришла к мысли, что и царь виноват в случившемся:
Пал без славы
Орел двуглавый.
– Царь! – Вы были неправы.
Она не обвиняет, а лишь устанавливает факт: «Вы были неправы».
Помянет потомство
Еще не раз —
Византийское вероломство
Ваших ясных глаз...
Возникает тема, ставшая постоянной в «гражданской» лирике Цветаевой, тема, которую Пушкин определил как «милость к падшим». Она жалеет вчерашнего царя и желает:
Спокойно спите
В своем Селе,
Не видьте красных
Знамен во сне...
Через день, предчувствуя страшную участь, уготованную царской семье, она просит Россию молиться и не карать бывшего Наследника, «царскосельского ягненка – Алексия», «сохранить» его. А в «Чуть светает...» «подпольная» Москва тайно молится:
За живот, за здравие
Раба Божьего – Николая...
Так, нотой жалости, до Октября и Гражданской войны начала Цветаева свою будущую книгу «Лебединый Стан». Как ни серьезно то, что происходило во внешнем мире, еще более важным было то, что происходило с ней и в ней самой. Накануне родов, отрешившись от окружающего, Цветаева создает одно из «тишайших» стихотворений:
А все же спорить и петь устанет —
И этот рот!
А все же время меня обманет
И сон – придет.
И лягу тихо, смежу ресницы,
Смежу ресницы.
И лягу тихо, и будут сниться
Деревья и птицы.
13 апреля 1917 года у нее родилась вторая дочь – Ирина. Это было разочарованием для Марины, жаждавшей сына,– не потому ли в ее писаниях это событие никак не отразилось? Впрочем, и об Але она начала писать только после года... Сразу после рождения Ирины Цветаева начала цикл о Степане Разине. «Выписаться из широт» не удавалось: тема носилась в воздухе времени. Обе русские революции поэтически олицетворились в образах Стеньки Разина и Емельяна Пугачева. Множество поэтов обратились к этим историческим личностям – в том числе такие разные, как Велимир Хлебников, Сергей Есенин, Максимилиан Волошин, Василий Каменский. Каждый по-своему трактовал их и вкладывал в эту тему собственные представления об истории и современности. Один из зачинателей русского футуризма Василий Каменский выпустил в 1918 году ставшую самым знаменитым его произведением поэму «Сердце народное – Стенька Разин». В ней много русской удали, разгула и... зверства.
Сарынь
на
кичку!
Ядреный лапоть,
Чеши затылок
У подлеца.
Зачнем
С низовья
Хватать,
Царапать
И шкуру драть —
Парчу с купца.
Сарынь
на кичку!
Кистень за пояс.
В башке зудит
Разгул до дна.
Свисти!
Глуши!
Зевай!
Раздайся!
Слепая стерва,
Не попадайся! Вва! [73]73
Каменский В. Степан Разин // Каменский В. Поэмы. М.: Худож. лит., 1961. С. 74–75. Поэма написана в основном до революции и кусками входила в прозаический роман В. Каменского «Стенька Разин» (1916).
[Закрыть]
Гибель персиянки, утопленной Разиным в угоду своей ватаге, Каменским ощущается как нечто естественное. Кстати, этот эпизод считается исторически достоверным фактом.
В конце семнадцатого года в стихах «Стенькин суд» к образу Разина обратился Максимилиан Волошин, положив в основу бытовавшие в некоторых приволжских областях легенды, что Разин жив и еще вернется восстанавливать справедливость на Руси. Такая версия соответствовала тогдашнему восприятию Волошиным революции как возмездия и очищения:
обещает волошинский Разин. Любовная история Разина Волошина не интересовала.
Цветаева, напротив, обращается не к историческому Разину, предводителю казацкого бунта, ставшему символом народного протеста, а к песенному, о котором Пушкин писал как о «единственном поэтическом лице русской истории». Как и автора народной песни, ее не интересуют ни причины, заставившие Разина поднять восстание, ни само восстание. Ее привлекает та часть легенды о Стеньке, где он влюбляется в пленную персиянку, а потом топит ее в Волге – и в подарок великой реке, приютившей его, и для того, «чтоб не было раздору между вольными людьми», как поется в песне. Это первое произведение Цветаевой, созданное на фольклорной основе и в стиле русского фольклора, здесь она впервые вводит в стих простонародный говор. Она переосмысливает народную песню – иначе ей не стоило и неинтересно было писать своего «Стеньку Разина». Двадцать лет спустя в статье «Пушкин и Пугачев» Цветаева вернулась мыслями к истории Разина и персиянки. Для Цветаевой само создание народом песни – и есть оправдание атамана. «Над Разиным товарищи – смеются, Разина бабой—дразнят, задевая его мужскую атаманову гордость... Разин сам бросает любимую в Волгу, в дар реке – как самое любимое, подняв, значит – обняв...» – говорит Цветаева, как бы проводя параллель между народной песней и своим «Стенькой Разиным». Сравнивая Разина с Пугачевым, Цветаева пересказывает приведенный Пушкиным в «Истории Пугачева» эпизод с Елизаветой Хардовой. Зверски убив ее родителей и мужа, саму Харлову и ее семилетнего брата Пугачев пощадил ради ее красоты. «Молодая Харлова имела несчастие привязать к себе самозванца», – пишет Пушкин. Однако некоторое время спустя «она встревожила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачев, уступив их требованию, предал им свою наложницу. Харлова и семилетний брат ее были расстреляны» [75]75
Пушкин А. С. Поли. собр. соч. В 10 т. Т. 8. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 186–187.
[Закрыть]. Цветаева принимает сторону Разина, резко противопоставляя его Пугачеву: «В разинском случае – беда, в пугачевском – низость. В разинском случае – слабость воина перед мнением, выливающаяся в удаль...К Разину у нас – за его Персияночку – жалость, к Пугачеву – за Харлову – содрогание и презрение». Тем не менее в цикле «Стенька Разин» она не показала удали своего героя, а, напротив, ввела мотив мести за то, что Персияночка отказала ему в любви:
– Не поладила ты с нашею постелью —
Так поладь, собака, с нашею купелью!..
Это почти так же низко, как и поступок Пугачева. Но видя в Разине, как и Пушкин, «поэтическое лицо русской истории», Цветаева оправдывает само его явление и все связанные с ним злодейства рождением песни: «И – народ лучший судия – о Разине с его Персияночкой – поют, о Пугачеве с его Хардовой – молчат.
Годность или негодность вещи для песни, может быть, единственное непогрешимое мерило ее уровня». В последней фразе выражена важнейшая для Цветаевой мысль об автономности и над-нравственности искусства.
И еще одна тема введена Цветаевой в традиционный песенный сюжет: возмездие Разину. Не он олицетворяет, как у Волошина, возмездие России за ее прошлое, а его ждет возмездие за совершенное злодейство. В последнем стихотворении цикла «Сон Разина» Персияночка является атаману во сне и упрекает его за то, что он утопил ее только в одном башмаке:
Кто красавицу захочет
В башмачке одном?
Я приду к тебе, дружочек,
За другим башмачком!
Этот сон – а он будет повторяться, ибо Персияночка обещает прийти еще, – мучит Разина, понимающего, что вместе с нею он утопил и свое счастье. Жалость к Разину, которую Цветаева услышала в народной песне, есть и в ее стихах, может быть, это жалость к стихии, не ведающей, что творит. Но мотивы, которые она привнесла в фольклорный сюжет, связаны со временем, когда писался ее цикл, с ее первым непосредственным восприятием революции. Когда полтора года спустя мелькнула надежда на реставрацию, Цветаева обратилась к Царю и Богу с просьбой не карать народ, втянутый в революцию. Народ предстал у нее в образе Разина:
Царь и Бог! Для ради празднику —
Отпустите Стеньку Разина!
В очерке «Вольный проезд» (1918) она описала свою встречу с «живым Разиным» – бойцом реквизиционного отряда, прежде царским солдатом, воевавшим, спасшим знамя, награжденным двумя солдатскими Георгиями... Этого «Разина» она наделила той песенной широтой, удалью, смелостью, которых не досталось ее стихотворному герою. Ему, случайному знакомому, она прочла свои «белые» стихи и своего «Стеньку Разина».
Весна и лето выдались тяжелые. В мае скоропостижно скончался второй муж сестры Аси – Маврикий Александрович Минц. Ася, только что уехавшая со своими мальчиками в Крым, примчалась обратно, но не успела даже на похороны. Она вернулась в Коктебель к детям, к Пра и Максу, с которыми легче было пережить горе, но горе гналось за ней по пятам. Через два месяца в Коктебеле умер ее младший сын – годовалый Алеша. Было до боли жалко сестру, страшно за нее, хотелось быть рядом, но поехать к ней сразу Цветаева не могла и поддерживала письмами. «Ты должнажить», – писала она Асе.
На Цветаеву наваливались реальные житейские заботы, необходимость думать о детях, муже, будущем семьи. В августе мы застаем Сергея Эфрона уже в Москве, он служит в 56-м пехотном запасном полку, обучает солдат. Здоровье его не улучшилось, с помощью Волошина Цветаева пыталась перевести мужа в более легкую – артиллерийскую – часть. Эфрон писал Максу: «Прошу об артиллерии... потому что пехота не по моим силам. Уже сейчас – сравнительно в хороших условиях – от одного обучения солдат устаю до тошноты и головокружения». Весь август летят в Коктебель от Цветаевой к Волошину письма и открытки с планами устройства Сергея в артиллерии: сам он хочет в тяжелую, потому что в легкой слишком безопасно. Марина мечтала, чтобы он служил на юге, может быть, в Севастополе – она боялась за его легкие. В крайнем случае, она надеялась, что он возьмет отпуск и проведет его в Коктебеле; она просила Волошина: «Убеди Сережу взять отпуск и поехать в Коктебель. Он этим бредит, но сейчас у него какое-то расслабление воли, никак не может решиться...» Ему нужна была передышка: отдых, тепло, солнце, белый хлеб. В Москве становилось голодно, поговаривали, что к зиме наступят настоящий голод и холод. Шла война, революция, страна разваливалась на глазах. Цветаева и сама хотела в Крым, казалось, что там надежнее переждать московскую смуту. Там, и правда, было спокойнее. Уехавшая на лето в Бахчисарай Магда Нахман писала в Москву: «Здесь мало что изменилось, только много лавок закрыто и дачников больше, чем прежде. Все так тихо и мирно, точно революция произошла где-то в тридесятом царстве, и бахчисарайские буржуа относятся к ней с недоверием. Когда какие-то ораторы говорили им о свободе и что каждый может делать, что хочет, то они сильно усумнились в пользе такого нововведения и старики покачивают головами. Газет почти не читают, только дороже все стало» [76]76
РГАЛИ. Фонд 2080, оп. 1, ед. хр. 45.
[Закрыть].
Еще в августе Цветаева просила сестру снять ей квартиру в Феодосии, она надеялась, что будет там через две недели. Но поездка откладывалась; ничего не устраивалось ни с переводом Сергея в другую часть, ни с его отпуском. Цветаева опасалась, что перестанут ходить поезда. Ей необходим был отдых. Впервые у нее вырываются слова об усталости: «Я страшно устала, дошла до того, что пишу открытки. Просыпаюсь с душевной тошнотой, день как гора». Типичный для нее ход мысли: невозможность писать(даже письма!) воспринимается ею как нечто противоестественное.
Может быть, самой большой радостью этого лета была для Марины статья М. Волошина в газете «Речь» – «Голоса поэтов». Он ставил Цветаеву в один ряд с любимыми ею Ахматовой и Мандельштамом и высоко отзывался о ее последних стихах – тех, которые лишь через пять лет выйдут сборником «Версты» I.
Цветаевой удалось приехать в Крым в первых числах октября, одной. В Крыму все еще можно было жить, хотя сахар и керосин давно выдавали по карточкам. Но были солнце, море, белый хлеб, виноград. Здесь были Ася и Макс с Пра – близкие и нужные ей люди. Мысль о возвращении к ним всей семьей не оставляет Цветаеву, но никаких решений она пока не принимает и выезжает из Феодосии домой в последний день октября, ничего не зная о событиях в столицах. Пребывание в Крыму дало ей новое знание о революции и «свободе»: она оказалась свидетельницей того, как революционные солдаты громили винные склады. Это была уже не безликая молчаливая масса, а потерявшая человеческий облик буйная и безудержная толпа, для которой свобода свелась к возможности бесчинствовать.
Разгромили винный склад. – Вдоль стен
По канавам – драгоценный поток,
И кровавая в нем пляшет луна.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гавань пьет, казармы пьют. Мир – наш!
Наше в княжеских подвалах вино!
Целый город, топоча как бык,
К мутной луже припадая – пьет.
Переписывая эти стихи через двадцать лет, Цветаева заметила: «Птицы были – пьяные». Кровавая луна – неслучайна. До самого конца Гражданской войны кровь, льющаяся в России и окрашивающая страну в красный цвет, будет возникать в стихах Цветаевой. Например, «Взятие Крыма» – стихотворение, написанное в ноябре двадцатого года после полного разгрома белых армий.
И страшные мне снятся сны:
Телега красная,
За ней – согбе́нные – моей страны
Идут сыны.
Золотокудрого воздев
Ребенка – матери
Вопят. На паперти
На стяг
Пурпуровый маша рукой беспалой,
Вопит калека, тряпкой алой
Горит безногого костыль,
И красная – до неба – пыль.
Колеса ржавые скрипят.
Конь пляшет, взбе́шенный.
Все окна флагами кипят.
Одно – завешено.
Цветаева воспринимала мир не зрительно, а музыкально. Но в этих стихах наряду с однообразно-страшными звуками («матери вопят», «вопит калека», «колеса ржавые скрипят») преобладают образы зрительные и необычайно для Цветаевой зримые – может быть, именно потому, что увидены во сне. Это импрессионистическая картина, окрашенная в кроваво-красное, где цвет человеческой крови перемешался с цветом нового, большевистского флага. Оттенки красного (красно-пурпурно-алый) – гибельного, убийственного – противопоставлены золоту детских волос – единственно чистому, что осталось после войн и революций. Замечу, что и Цветаева, и обе ее дочери были золотоволосы.
Тогда же в Феодосии Цветаева задумалась о себе в создавшейся ситуации и впервые самоопределилась как «одна из всех». Гордость, презрение к собственности, бесстрашие, а больше всего поэтический дар определяли ее место среди людей.
Плохо сильным и богатым,
Тяжко барскому плечу.
А вот я перед солдатом
Светлых глаз не опушу.
Город буйствует и стонет,
В винном облаке – луна.
А меня никто не тронет:
Я надменна и бедна.
По дороге в Москву в поезде Цветаева из газет узнала о революции и уличных боях в Москве. На каждой новой станции, в каждой следующей газете подробности звучали все страшнее. Пятьдесят шестой полк, где служит ее Сережа, защищает Кремль. Убитые исчисляются тысячами, в каждой новой газете все бо́льшими. Жуткие разговоры в вагоне. Цветаева молчит, она с ужасом думает только о том, что может не застать мужа в живых, и пишет в тетрадку письмо к нему – живому или мертвому. Оно звучит, как монолог человека, которого бьет лихорадка и у которого не попадает зуб на зуб. Отчаяние борется в нем с надеждой, даже подсознательной уверенностью – в Цветаевой огромный запас жизненного оптимизма – что все обойдется, что он, ее Сережа, не может погибнуть. Они вместе уже больше шести лет, и первые бури уже пронеслись над ними, но Цветаева относится к нему так же высоко, как и в дни встречи: «Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других... Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что "я" для Вас не важно, потому что я все это с первого часа знала!
Если Бог сделает это чудо – оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака...» Это была клятва верности, от которой Цветаева не отступила никогда. Прожив жизнь, собираясь вслед за мужем в Советский Союз, Цветаева приписала около последних слов: «Вот и поеду – как собака. М. Ц. Ванв, 17-го июня 1938 г. (21 год спустя)».
Она вернулась из Крыма в день, когда бои в Москве кончились. Муж был цел и невредим, дома все благополучно, если можно назвать благополучием то, что творилось тогда в России. Цветаева не ошиблась: Сергей Яковлевич был в самом пекле, в Александровском училище, принимал участие в уличных боях и покинул училище только после того, как представитель Временного правительства подписал с большевиками условия капитуляции. Большевики победили. Спрятав понадежнее свой револьвер и переодевшись в чужой рабочий полушубок, Эфрон тайком – чтобы не сдаваться – вышел из здания училища. Эти несколько дней боев за Москву Сергей Эфрон правдиво описал в рассказе «Октябрь (1917 г.)». Рассказ написан без всякой приподнятости, автор стремился воссоздать события и атмосферу исторических дней, но за строками чувствуется тот человек, каким представляла его Цветаева.
Через день, 4 ноября, Цветаева с мужем и его другом прапорщиком Гольцевым снова отправились в путь: молодые офицеры ехали с намерением пробраться на Дон, где должна была формироваться Добровольческая армия для борьбы с большевиками, и Цветаева хотела сама проводить Сергея в Крым. В темном вагоне, по дороге в неизвестность, они читали стихи, потому что ни революции, ни войны не могли убить в них любви к поэзии. Гольцев был учеником ставшей потом знаменитой Студии Евгения Вахтангова. Под стук колес он прочел стихи молодого поэта, своего друга и тоже студийца:








