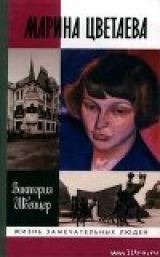
Текст книги "Марина Цветаева"
Автор книги: Виктория Швейцер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Цветаева не относилась к этой категории: ее отроческая «революционность» давно была вытеснена другими интересами. Однако среди тех, о ком говорит Н. Я. Мандельштам, было множество людей литературы, искусства, науки, в душах которых задолго до случившегося жила «революция с большой буквы, вера в ее спасительную и обновляющую силу, социальная справедливость» [87]87
Обе цитаты: Мандельштам Н. Воспоминания. М.: Книга, 1989. С. 159, 158.
[Закрыть]. Призывая революцию, мечтая о ней, они не предполагали, во что она выльется для России и чем обернется для них самих.
И. Эренбург, в пятнадцать лет ставший большевиком, в семнадцать оказавшийся политическим эмигрантом, при первом известии о Феврале ринулся из Франции в Россию. Революционная действительность его ужаснула; в 1918 году он выпустил книжку стихов «Молитва о России», состоящую из апокалиптических видений и пророчеств о гибели:
Гибель России – убийство: обезумевшие дети распинают мать-родину. Волошин восторженно приветствовал «Молитву о России» как книгу единомышленника: «поэт сумел найти слова грубые, страшные и равносильные тому, что он видел, и сплавить единым всепобеждающим чувством». Более того, он писал, что это – «книга, являющаяся первым преосуществлением в слове страшной русской разрухи, книга, на которую кровавый восемнадцатый год сможет сослаться как на единственное свое оправдание». Об оправдании можно было говорить только исходя из волошинской надежды на очищение России в огне революции. Волошин ставил «Молитву о России» в один ряд с «Двенадцатью» Блока, статья его так и называлась «Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург» [89]89
Волошин М. Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург // Камена. Харьков, 1919. № 2. С. 22, 28. Статья датирована: Коктебель, 15.Х.1918 г.
[Закрыть].
Иными глазами прочел «Молитву о России» Маяковский, стоявший «по другую сторону красных баррикад». С первого дня он сделал себя певцом «великих битв Российской Революции» и уже тогда жил по принципу, сформулированному им впоследствии:
Он отозвался о книге Эренбурга резко-пренебрежительно: «Скушная проза, печатанная под стихи. С серых страниц – подслеповатые глаза обремененного семьей и перепиской канцеляриста... Из испуганных интеллигентов». Примечательно, что слово «интеллигент» Маяковский употребляет если не как бранное, то как презрительное – так оно вошло в советский обиход. В этой же рецензии, напечатанной в «Газете футуристов» и озаглавленной «Братская могила», Маяковский задел и Цветаеву. В полемическом задоре он не дал себе труда разобрать стихи, которые упоминает, или оспорить позицию тех, с кем не согласен. Кажется, он не прочел книги, сваливаемые им в «братскую могилу», а выхватил из них подходящие ему цитаты. На сборник «Тринадцать поэтов» Маяковский потратил три строки. Обыгрывая подзаголовок этой книги «Отклики на войну и революцию», он писал: «Среди других строк – Цветаевой:
...За живот, за здравие раба божьего Николая...
Откликались бы, господа, на что-нибудь другое!» [91]91
Там же. Т. 12. С. 10.
[Закрыть]Это – о сборнике, где «среди других строк» напечатаны по крайней мере четыре замечательных поэта: Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Михаил Кузмин. Но Маяковский не интересуется стихами – он дает отпор тем, «кто поет не с нами», игнорируя даже вопрос – почему? Почему они «поют не с нами»?
Но и Мандельштам, казалось бы, более близкий и способный понять Цветаеву, тоже категорически не принял ее стихи. В 1922 году он напечатал в журнале «Россия» (номер вышел после отъезда Цветаевой за границу, и у меня нет сведений, читала ли она эту статью) обзор «Литературная Москва», где утверждал: «Худшее в литературной Москве – это женская поэзия». И – о Цветаевой: «Для Москвы самый печальный знак – богородичное рукоделие Марины Цветаевой, перекликающейся с сомнительной торжественностью петербургской поэтессы Анны Радловой». Сравнение с А. Радловой, принадлежавшей к чуждому Мандельштаму литературному кругу, звучит отрицанием Цветаевой как поэта. Но Мандельштам не останавливается на этом, в следующем абзаце он с особой нетерпимостью говорит о Цветаевой: «Адалис и Марина Цветаева пророчицы, сюда же и София Парнок. Пророчество, как домашнее рукоделие. В то время, как приподнятость тона мужской поэзии, нестерпимая трескучая риторика, уступила место нормальному использованию голосовых средств, женская поэзия продолжает вибрировать на самых высоких нотах, оскорбляя слух, историческое, поэтическое чутье. Безвкусица и историческая фальшь стихов Марины Цветаевой о России – лженародных и лжемосковских – неизмеримо ниже стихов Адалис, чей голос подчас достигает мужской силы и правды» [92]92
Мандельштам О. Указ. изд. Т. 2. С. 275–276.
[Закрыть]. Чем мог быть вызван столь резкий и недоброжелательный отзыв о стихах женщины, некогда близкой, и поэта, ему во всяком случае не враждебного? Мандельштаму действительно была чужда «вибрация на самых высоких нотах», характерная для поэзии Цветаевой, он называл себя «антицветаевистом». Можно предположить, что его раздражал голос Цветаевой, доходящий до крика:
Да, ура! – За царя! – Ура!
Восхитительные утра
Всех, с начала вселенной, въездов!..
Крик и «безвкусица», которую он у нее находит, вряд ли заслуживали той резкости, с которой пишет Мандельштам. Ключ, скорее всего, кроется в словах «историческая фальшь», «лженародных и лжемосковских» и в противопоставлении Адалис, в стихах которой Мандельштаму слышится «правда». Сам Мандельштам еще мучился философским объяснением и оправданием происходящего, пытался сквозь русскую смуту и разруху разглядеть светлую точку в конце. Он не мог согласиться с бессмысленностью случившегося, искал смысла – и надежды. Весной 1918 года он написал стихи, в первой публикации названные «Гимн».
Прославим, братья, сумерки свободы, —
Великий сумеречный год.
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенет.
Восходишь ты в глухие годы,
О солнце, судия, народ...
Как известно, сумерки бывают дважды в сутки и предшествуют дневному свету и ночной тьме. Мандельштам как будто говорит о рассвете: «Восходишь ты...» Однако повторяющееся «сумеречный», «сумрачный» однозначно и означает «темный, мрачный, отчаянный». Ощущение мира и времени, запутавшихся в сетях «сумерек», слышно совершенно отчетливо, недаром Мандельштам переименовал «Гимн» в «Сумерки свободы». И все же он обращается к надежде:
Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи...
Может быть, эксперимент, проводимый с Россией, еще удастся? Говоря о Блоке, Мандельштам примерно в это время писал о «высшем удовлетворении в служении русской культуре и революции».
Должно было пройти несколько лет, прежде чем Мандельштам определил свое отношение к русской революции и свои взаимоотношения со временем. Расставаться с надеждами не так-то просто. Отзвук стихотворения «Сумерки свободы» слышится еще и в статье 1922 года «Гуманизм и современность»: «монументальность форм надвигающейся социальной архитектуры» пугает человека, «отбрасывает на нас свою тень»; «...мы движемся в этой тени со страхом и недоумением, не зная, что́ это – крыло надвигающейся ночи или тень родного города, куда мы должны вступить» [93]93
Там же. С. 205.
[Закрыть]. Вещее в поэте заставляет его чувствовать, что «сумерки свободы» предшествуют ночи, что ночь обступила со всех сторон, но человек хочет надеяться, что все обойдется, что за «сумерками» последует рассвет и ночь окажется тенью родного города... Естественно было назвать лжепророчицей ту, которая не оставляла никаких надежд. Ведь как раз когда Мандельштам писал свой «Гимн», Цветаева творила заупокойную молитву по России:
Идет по луговинам лития.
Таинственная книга бытия
Российского – где судьбы мира скрыты —
Дочитана и наглухо закрыта.
И рыщет ветер, рыщет по степи:
– Россия! – Мученица! – С миром – спи!
Мне кажется удивительным историческое чутье Цветаевой, жившей вне политики и политикой не интересовавшейся. Возможно, такой «сторонний» взгляд и позволяет более трезво оценить реальность? С какой точностью пророчила она о будущем значении России: «где судьбы мира скрыты». Это «домашнее рукоделие», как раздраженно определил Мандельштам, сбывалось у нас на глазах.
В книге «Люди, годы, жизнь» И. Эренбург, говоря о «белых» стихах Цветаевой, почти умилялся: «никто ее не преследовал. Все было книжной выдумкой, нелепой романтикой, за которую Марина расплатилась своей искалеченной, труднейшей жизнью» [94]94
Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Кн. 1, 2. М.: Сов. писатель, 1961. С. 371.
[Закрыть]. Да, за «свои пути» приходится платить, и Цветаева заплатила по самому высокому счету. То, что Эренбург называет «романтикой», было для Цветаевой не придуманной позой, а жизненной позицией. Ее романтизм был одновременно и причиной, и следствием ее обостренного интереса к индивидуальности. Личность человека, единственность и неповторимость ценила она превыше всего. Я думаю, это лежит в основе ее категорического неприятия русской революции. Безликость революционной массы, так поразившая ее еще в марте семнадцатого года, каким-то образом приоткрыла завесу над будущим, заставила сформулировать: «Самое главное: с первой секунды Революции понять: все пропало! Тогда – все легко». Читая мемуары современников Цветаевой, думая над биографиями ее сверстников, видишь, что такая категоричность была исключением. Большинству понадобилось время, чтобы разобраться в происходящем, освободиться от «очистительных» иллюзий и определить свое место в новом мире. Даже такой умный и неромантический человек, как Владислав Ходасевич, пренебрегая житейскими тяготами, в начале 1920 года еще не думал, что произошла катастрофа; он писал Борису Садовско́му: «Быть большевиком не плохо и не стыдно. Говорю прямо: многое в большевизме мне глубоко по сердцу...» [95]95
Ходасевич В. Некрополь… С. 364.
[Закрыть]Он не стал большевиком, но в то, что большевики помогут возрождению русской культуры, еще верил. Через год в речи, посвященной Пушкину, Ходасевич скажет о «надвигающемся мраке». Еще через год он поймет: в этом мраке невозможно сохраниться как личность. Ходасевич эмигрировал почти в одно время с Цветаевой.
О тех их современниках, которые прожили жизнь в Советской России, нельзя говорить походя – по-разному страшно сложились судьбы большинства из них. Скажу лишь об одном, самом благополучном из возможных вариантов. Подводя итоги жизни, И. Эренбург писал о своих внутренних метаниях и объяснял эволюцию от «Молитвы о России» к приятию и сотрудничеству с новой властью. Его объяснения звучат полемикой с Цветаевой: «Самое главное было понять значение страстей и страданий людей в том, что мы называем „историей“, убедиться, что происходящее не страшный, кровавый бунт, не гигантская пугачевщина, а рождение нового мира с другими понятиями человеческих ценностей» [96]96
Эренбург И. Люди, годы, жизнь. С. 492.
[Закрыть]. По логике его рассказа, осознав это и приняв новые понятия человеческих ценностей, Эренбург стал советским писателем. Это был путь многих интеллигентов: надо было жить и «сожительствовать» с победителями. Эренбург умолчал о том, чем привлекли его эти «другие понятия человеческих ценностей» и что они собой представляли. Это были идеи коммунизма, даже в своем теоретическом виде означающие нивелировку и обезличивание отдельного человека, а на практике приведшие к уничтожению личности и физическому истреблению всех, кто пытался ее сохранить. Для Цветаевой это было неприемлемо.
Октябрьский «переворот» («так ведь это тогда называлось, помните?» – писала А. Эфрон в цитированном письме к П. Антокольскому) Цветаева восприняла как катастрофу, грозящую гибелью России. Это было задолго до смерти ее младшей дочери. Расстрел царской семьи, смерть Ирины, самоубийство А. А. Стаховича, расстрел Николая Гумилева, гибель Александра Блока – все эти пережитые за два послереволюционных года смерти оказались подтверждением самых худших ее предчувствий. Возможно, смерть Блока – в особенности, потому что она относила его к бессмертным.
Александр Блок
Кем ты призван
В мою молодую жизнь ?
Весть о смерти Блока ударила Цветаеву. Сразу же, в августе 1921 года, она пишет четыре стихотворения на его кончину, которые могли бы быть озаглавлены «Вознесение». Ключевое слово этого цикла – «крыло». Оно повторено шесть раз. Крыло как признак поэтического дара, нездешней – птичьей – певческой – серафической сути. То, что в поэте умирает последним:
Не проломанное ребро —
Переломленное крыло.
Не расстрельщиками навылет
Грудь простреленная. Не вынуть
Этой пули. Не чинят крыл.
Изуродованный ходил.
Цепок, цепок венец из терний!
Что усопшему – трепет черни,
Женской лести лебяжий пух...
Проходил, одинок и глух,
Замораживая закаты
Пустотою безглазых статуй.
Лишь одно еще в нем жило:
Переломленное крыло.
Крыло – как то, что давит («требует», по Пушкину) поэта – «Плечи сутулые гнулись от крыл...»; как самое ранимое у поэта – «Рваные ризы, крыло в крови...». И как то, что его возносит. Энергия этих стихов устремлена ввысь, они о душе, наконец-то вырвавшейся от «окаянной» земли и возносящейся в небо: горняя быстрина, лететь, заоблачная верста, взлет осиянный...
Праведник душу урвал – осанна!
В этом цикле нет плача по умершем, а только радость его освобождения. В эти же дни Цветаева писала Ахматовой: «Смерть Блока я чувствую как Вознесение». Это вознесение души поэта, не просто много страдавшей, но и божественной; Цветаева не обмолвилась, написав:
Было так ясно на лике его:
Царство мое не от мира сего... —
определив Блока словами, сказанными о себе Христом.
И все-таки, если бы Цветаева не увидела Блока за год до его смерти, чувства его освобождения от земных пут у нее не возникло бы. В мае двадцатого года она дважды слышала Блока на его вечерах в Москве: 9 мая в Политехническом музее и 14-го – во Дворце Искусств. На втором она была с Алей, которая записала в дневнике свои впечатления о Блоке и его стихах: «Выходим из дому еще светлым вечером. Марина объясняет мне, что Александр Блок – такой же великий поэт, как Пушкин (знающие любовь Цветаевой к Пушкину – поймут! – В. Ш.). И волнующее предчувствие чего-то прекрасного охватывает меня при каждом ее слове». Затем, удивительно близко к тексту и, главное, к смыслу Аля пересказала стихи, которые читал Блок. И дальше – о матери: «У моей Марины, сидящей в скромном углу, было грозное лицо, сжатые губы, как когда она сердилась. Иногда ее рука брала цветочки, которые я держала, и ее красивый горбатый нос вдыхал беззапахный запах листьев. И вообще в ее лице не было радости, но был восторг» [97]97
Эфрон А. О Марине Цветаевой. С. 87, 88.
[Закрыть]. Ребенок оставил нам сейсмографически-точную запись состояния Цветаевой во время чтения Блока. Радости не было и не могло быть: она видела тяжелобольного усталого человека, уже почти отсутствующего:
И вдоль виска – потерянным перстом —
Все водит, водит...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Так, узником с собой наедине,
(Или ребенок говорит во сне?)...
Перед ней почти и не человек, во всяком случае, не человек, читающий стихи с эстрады, а некий дух, серафим, явившийся, чтобы «оповестить» и готовый взлететь. «Грозное лицо, сжатые губы» передают напряжение, с каким Цветаева слушала Блока. И восторг, как при встрече с чем-то непостижимо-высоким и прекрасным. То, что Аля в семь лет могла отметить разницу между радостью и восторгом, показывает, каким душевно-тонким человеком росла дочь Цветаевой, и делает объяснимой их необычную дружбу.
Аля передала Блоку стихи, только что законченные Цветаевой, – последнее ее стихотворение, обращенное к Блоку при его жизни. В нем, единственном из всего «блоковского» цикла, есть определенные приметы места, времени и живые черты портрета Блока. В примечании Цветаева указала: «в тот день, когда взрывались пороховые погреба на Ходынке – и я впервые увидела Блока». Нет сомнения, что этот вечер был чрезвычайно значителен для Цветаевой, но стихотворение написано не столько для того, чтобы запечатлеть встречу, сколько ради последней строки:
Как слабый луч сквозь черный мо́рок адов —
Так голос твой под рокот рвущихся снарядов.
И вот, в громах, как некий серафим,
Оповещает голосом глухим
– Откуда-то из древних утр туманных —
Как нас любил, слепых и безымянных,
За синий плащ, за вероломства – грех...
И как – вернее всех – ту, глубже всех
В ночь канувшую – на дела лихие!
И как не разлюбил тебя, Россия!
И вдоль виска – потерянным перстом —
Все водит, водит... И еще о том,
Какие дни нас ждут, как Бог обманет,
Как станешь солнце звать – и как не встанет...
Так, узником с собой наедине,
(Или ребенок говорит во сне?)
Предстало нам – всей площади́ широкой! —
Святое сердце Александра Блока.
«Святое сердце» для Цветаевой в случае Блока имеет буквальное значение, оно отличает Блока от людей, отделяет от земли. Святому сердцу не место среди смертных. Цветаева уже сейчас знает это, и потому в стихах год спустя будет не горе, а светлое чувство справедливости.
Но «осанна!» Блоку началась еще весной шестнадцатого года, когда в первом цикле «Стихов к Блоку» Цветаева определила их неизбежность:
Мне – славить
Имя твое.
Она славит Блока в молитвенном преклонении и полной отрешенности от его земного человеческого облика. Она пишет своего Блока. Если поздний Пастернак связал образ поэзии Блока с ветром, то Цветаева ощущает его снежным: «снеговой певец», «снежный лебедь». Это нечто светлое, неземное, полуреальное – вот оно здесь и сейчас исчезнет, растает... В облике Блока, созданном Цветаевой, единственная реальность – страдание. Это попытка иконописи в стихах, изображение «лика» Поэта: «В руку, бледную от лобзаний, не вобью своего гвоздя...», «Восковому святому лику только издали поклонюсь...» Торжественно звучит стихотворение «Ты проходишь на Запад Солнца...», где Цветаева прямо перелагает в стихи православную молитву:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мимо окон моих – бесстрастный —
Ты пройдешь в снеговой тиши.
Божий праведник мой прекрасный,
Свете тихий моей души.
Там, где поступью величавой
Ты прошел в гробовой тиши,
Свете тихий – святыя славы —
Вседержитель моей души.
Цветаева обожествляет Блока. Святость, страдание, свет – вот понятия, связанные для нее с Блоком, и хотя слово «Бог» не названо, оно окрашивает цикл. Тогда же, в шестнадцатом году, Цветаева написала первые стихи о смерти Блока. Душевная деликатность не позволила ей поднести это стихотворение больному поэту:
Думали – человек!
И умереть заставили.
Умер теперь. Навек.
– Плачьте о мертвом ангеле!
В двадцать первом году – новый взрыв стихов к Блоку. Меньше чем в три недели она пишет десять стихотворений, связанных с ним. И странно – в них является слово «колыбель»:
Без зова, без слова, —
Как кровельщик падает с крыш.
А может быть, снова
Пришел, – в колыбели лежишь?..
В конце стихотворения колыбель оборачивается могилой, но слово возникло неслучайно. Из десяти стихотворений лишь три обращены непосредственно к Блоку, остальные составили два небольших цикла: «Подруга» и «Вифлеем». В это время Цветаева познакомилась с Надеждой Александровной Нолле-Коган и ее полуторагодовалым сыном Сашей. К ней обращена «Подруга», ему посвящен «Вифлеем»: «Сыну Блока, – Саше». Легенда о том, что сын Н. А. Нолле – сын Блока, бытовала в писательских кругах долго. Не буду обсуждать ее достоверность – важно, что Цветаева ей верила, хотя несколько лет спустя изменила мнение об отцовстве Блока. Об отношениях Н. А. Нолле с Блоком Цветаева знала от нее самой: читала письма к ней Блока и видела его подарки новорожденному мальчику. В последние годы жизни Блока Н. А. Нолле и ее муж – крупный чиновник в области культуры П. С. Коган – поддерживали поэта, посылали ему в Петроград продовольственные посылки, хлопотали по его делам в Москве. Приезжая в Москву в двадцатом и двадцать первом годах, Блок останавливался в их квартире. Рассказов Нолле оказалось достаточно для возникновения цветаевского мифа – о подруге-возлюбленной, чья миссия любить—держать—спасать Поэта:
Схватить его! Крепче!
Любить и любить его лишь!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рвануть его! Выше!
Держать! Не отдать его лишь!..
Может быть, только преданность «подруги последней» могла бы удержать его на земле? А если не удержать – то облегчить его предсмертные муки? Но и после смерти Поэта она остается Матерью Сына... Преступив всякую меру, Цветаева славит «последнюю подругу» Блока и ее сына как Богородицу и Сына Божьего.
Кем же был для Цветаевой Блок? Ни к кому другому не относилась она так отрешенно-высоко. В ее восприятии любой поэт, вне зависимости от ее личного притяжения или отталкивания, вне зависимости от эпохи, когда он жил, был еще и человеком во плоти – с характером, страстями, радостями, ошибками. Даже тот, кого она назвала Пленным Духом, – Андрей Белый – живет в ее воспоминаниях человеком: «старинный, изящный, изысканный, птичий – смесь магистра с фокусником», в одиночестве своего многолюдного окружения, непонятый и непонятный. Кажется, что Цветаева близко знала каждого настоящего поэта. Читая у нее о Пушкине или Гёте, чувствуешь, что она могла быть, была рядом с ними («Встреча с Пушкиным» называется ее юношеское стихотворение), беседовала, прогуливалась по Москве или Веймару. Она понимала их изнутри, там, где создаются стихи. К любому из собратьев по «струнному рукомеслу» она могла подойти, познакомиться, с любым нашла бы общие темы разговора. И вот она стоит на вечере Блока «с ним рядом, в толпе, плечо с плечом» – и не протягивает руки, чтобы передать ему свои стихи. Передает в первый раз через Веру Звягинцеву, второй – через Алю. Почему? Только Блок проходит по ее стихам бесплотной тенью, не человеком, а существом, обожествляемым, вдохновляющим на молитвы. Он – вне круга, даже круга поэтов.
В литературно-теоретических работах Цветаевой почти нет ни ссылок на Блока, ни анализа его стихов. Показательно, что доклад о Блоке, прочитанный в 1935 году в Париже (текст его, к сожалению, не сохранился), Цветаева назвала «Моя встреча с Блоком» – хотя в земном, житейском смысле никакой встречи не было. Их встреча в ином измерении, не физическом. Лишь однажды, в статье «Поэты с историей и поэты без истории», говоря о «чистых лириках», Цветаева более подробно рассматривает «случай» Блока. Как видно из названия, Цветаева делит поэтов на два типа. Суммируя ее рассуждения, можно сказать, что для нее поэты с историей – движущиеся, развивающиеся, открывающие себя в мире.Поэты без истории – чистые лирики – не движутся, не развиваются, они открывают мир в себе.С удивлением Цветаева обнаруживает, что Блок единственный не подпадает под эту классификацию. В ее представлении он – чистый лирик, однако у него были «и развитие, и история, и путь». Но развитие, утверждает Цветаева, «предполагает гармонию. Может ли быть развитие – катастрофическим?» – спрашивает она, имея в виду Блока. Путь Блока – внутри самого себя, «бегство по кругу от самого себя», путь, который никуда не ведет. Блок кончил тем же, с чего начал: «Не забудем, что последнее слово „Двенадцати“ – Христос, – одно из первых слов Блока», – пишет Цветаева. И – формулируя особенность этого «чистого лирика», его особость: «Блок на протяжении всего своего поэтического пути не развивался, а разрывался». Обратим внимание на последнее слово, оно многое открывает.
Я не стану полемизировать с Цветаевой, хотя думаю, что ее теоретические построения о двух типах поэтов можно подвергнуть критике и опровергнуть. Эта книга – не место для теоретических споров. Но, к слову, нужно отметить важную особенность цветаевской литературно-философской и критической прозы. Логика ее мысли так сильна и динамична, она нагнетает доказательства с такой стремительностью, что не дает читателю опомниться. То ли подавив его своей убежденностью, то ли загипнотизировав погружением в семантическую игру словами, она ведет его за собой, на все время чтения заставляя поверить в ее концепции. Только кончив читать, выйдя из-под ее магии, читатель сможет подумать о правильности утверждений Цветаевой и решиться возражать ей. Восторг, прославление – часто непомерно гиперболизированные – постоянные явления лирики Цветаевой. Но обожествление, с каким она обращается к Блоку, – уникально. Я пыталась отыскать источник его, понять, какую идею олицетворяет Блок для Цветаевой. Это неожиданно открылось в детском письме Али Эфрон. В разгар работы Цветаевой над посмертными стихами к Блоку, 8 ноября 1921 года Аля писала Е. О. Волошиной: «Мы с Мариной читаем мифологию... А Орфей похож на Блока: жалобный, камни трогающий...» [98]98
Там же. С. 245.
[Закрыть]Так вот кем был для Цветаевой Блок: современным Орфеем, воплощением идеи Певца, Поэта. Ведь и Орфей не был человеком, а существом из мифа, сыном бога и музы, хотя и смертным. Вот к чему относились – может быть, подсознательно? – давным-давно, в шестнадцатом году написанные строки:
Думали – человек!
И умереть заставили...
А теперь, в двадцать первом, параллельно стихам о кончине Блока, возникли стихи о гибели Орфея. Поначалу стихи об Орфее были без названия: образы обоих певцов сливались в сознании Цветаевой. Только для сборника, который она готовила в Москве в сороковом году, она озаглавила его – «Орфей»:
Так плыли: голова и лира,
Вниз, в отступающую даль.
И лира уверяла: мира!
А губы повторяли: жаль!
Крово-серебряный, серебро-
Кровавый след двойной лия,
Вдоль обмирающего Гебра —
Брат нежный мой! сестра моя!
Цветаева отвечает на вопрос, заданный несколькими днями раньше в «блоковском» стихотворении «Как сонный, как пьяный...»:
Не ты ли
Ее шелестящей хламиды
Не вынес —
Обратным ущельем Аида?
Не эта ль,
Серебряным звоном полна,
Вдоль сонного Гебра
Плыла голова?
Не ты ли, Блок, в незапамятные времена был Орфеем? Да, это его голова вечно плывет по Гебру... Да, это он, Блок-Орфей, пытался вывести возлюбленную из царства мертвых, его голос рассекал кромешную тьму ада:
Как слабый луч сквозь черный морок адов —
Так голос твой...
Образный строй «Орфея» и «Стихов к Блоку» идентичен. «Орфей» мог быть включен в блоковский цикл, так естественно вплетается он в венок памяти Поэта. Но ни в «Орфее», ни в «Стихах к Блоку» нет лаврового венка, а есть мученический венец. В «Стихах к Блоку» он назван прямо:
Не лавром – а терном
Чепца острозубая тень...
( «Без зова, без слова...»)
Цепок, цепок венец из терний!..
( «Не проломанное ребро...»)
В «Орфее» – мерещится в убегающих речных волнах:
Вдаль-зыблющимся изголовьем
Сдвигаемые как венцом —
Не лира ль истекает кровью?
Не волосы ли – серебром?..
Что до Эвридики, то однажды Цветаева сказала, что в обороте головы Орфея, когда, выводя Эвридику из царства мертвых, он нарушил условие бога Аида и обернулся, чтобы взглянуть на шедшую сзади Эвридику, – вина Эвридики. Будь она, Цветаева, на месте Эвридики, она сумела бы внушить Орфею не оглядываться. Тем самым были бы спасены и Эвридика, и Орфей. Не так ли надо понимать и слова Цветаевой о ее невстрече с Блоком: «встретились бы – не умер»? В стихотворении «Без слова, без зова...» и в цикле «Подруга» она воспевает идеальную Эвридику, сумевшую бы удержать Орфея от гибели. Реальная Н. А. Нолле – лишь повод для воплощения цветаевского понятия подруги-возлюбленной Поэта. Но идея Цветаевой разрастается в мифологическую бесконечность: Орфей возвращается на землю. В наш век он вернулся в облике Александра Блока – и это тоже еще не конец.
А может быть, снова
Пришел, – в колыбели лежишь?
Блоковская колыбель – могила и одновременно колыбель его новорожденного сына. В «Вифлееме» Цветаева славит не столь Сашу – сына Н. А. Нолле, сколько наследника Певца, будущее воплощение Орфея-Блока...
Необходимо еще раз подчеркнуть: Блок – по Цветаевой – Орфей современный. Орфей без орфеевской гармонии, но с современным гипертрофированным чувством катастрофы в душе. И если Орфея в конце пути разорвали вакханки, то Блок всю жизнь сам разрывался. И в конце концов – разорвался... «Удивительно не то, что он умер, – писала Цветаева Ахматовой, – а то, что он жил. Мало земных примет, мало платья... Ничего не оборвалось, – отделилось. Весь он – такое явное торжество духа, такой воочию – дух, что удивительно, как жизнь вообще – допустила?»
* * *
В одной из записей Цветаева, говоря о коммунистах, призналась: «не их я ненавижу, а коммунизм». И в скобках: «Вот уж два года, как со всех сторон слышу: „Коммунизм прекрасен, коммунисты – ужасны!“». Снова она противостоит большинству, но разве это бравада или эпатаж? Она отвергала коммунизм как идею. Людей – в том числе и коммунистов – она оценивала каждого в отдельности. В годы Гражданской войны главным ее чувством по отношению к людям была жалость.
Она сама нуждалась в жалости и участии. Жизнь принимала все более фантастические очертания, и дом Цветаевой рухнул одним из первых. Как позже определила ее старшая дочь, их дом настиг «кораблекрушительный беспорядок»: комнаты потеряли жилой вид, вещи – свой смысл и назначение. Первые постепенно переходили к чужим людям, вторые – на Сухаревку. Из большой и уютной двухэтажной квартиры в распоряжении Цветаевой остались ее маленькая комната, кухня, детская и наверху – бывшая Сережина, за это особенно любимая, называвшаяся «чердак»:
Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!
Взойдите. Гора рукописных бумаг...
Так. – Руку! – Держитесь направо, —
Здесь лужа от крыши дырявой...
Князь Сергей Михайлович Волконский, внук декабриста и женщины, некогда воспетой Пушкиным, писатель, театральный деятель, бывший директор Императорских театров, посвящая Цветаевой свою книгу «Быт и Бытие», вспоминал о ее тогдашней жизни: «В Борисоглебском переулке, в нетопленом доме, иногда без света, в голой квартире; за перегородкой Ваша маленькая Аля спала, окруженная своими рисунками, – белые лебеди и Георгий Победоносец, – прообразы освобождения... Печурка не топится, электричество тухнет. Лестница темная, холодная, перила донизу не доходят, и внизу предательские три ступеньки. С улицы темь и холод входят беспрепятственно, как законные хозяева». Звонок не работал, входная дверь не запиралась – всякий мог войти в эту квартиру так же беспрепятственно, как тьма и холод. «Грабитель входит без ключа», – сказано в стихотворении Цветаевой – и это не поэтическая фантазия. Действительно, к ней однажды вошел грабитель. Вошел – «и ужаснулся перед бедностью». Волконский писал: «Вы его пригласили посидеть, говорили с ним, и он, уходя, предложил Вам взять от него денег. Пришел, чтобы взять,а перед уходом захотел дать.Его приход был быт,его уход был бытие» [99]99
Волконский С. Быт и Бытие. Из прошлого. Настоящего. Вечного. Берлин: Медный Всадник, 1924. С. XIII.
[Закрыть] .По этому эпизоду можно представить, в какой бедности и разрухе жила Цветаева с детьми.
Внешне она сильно изменилась. Пропал ее замечательный румянец, от которого она так страдала в юности, появились землисто-смуглый цвет лица и первые морщины; юношеская стройность соединилась с худобой. От прежней Марины оставались ее золотистые волосы, зеленые глаза и летящая походка. «Пшеничная голова, которую Марина постоянно мыла, приходя к нам, в ванной... Волосы были очень красивые, пышные. Одутловатое бледное лицо, потому что на голой мерзлой картошке в основном; глаза зеленые, „соленые крестьянские глаза“, как она писала, – так вспоминала Цветаеву девятнадцатого-двадцатого года Вера Звягинцева. – ...Всегда перетянутая поясом, за что я ее прозвала „джигит“. Она носила корсет для ощущения крепости...» [100]100
Russian Literature. Amsterdam, 1981. IX. С. 340.
[Закрыть]Одета Цветаева была соответственно своей бедности, своему пренебрежению какой бы то ни было модой и своему пониманию чувства долга. Ради последнего она подпоясывалась «не офицерским даже, – как она сама пишет, – а юнкерским, 1-ой Петергофской школы прапорщиков, ремнем. Через плечо, офицерская уже, сумка... снять которую сочла бы изменой». Зимой обувалась в валенки, в другое время года в башмаки, часто без шнурков. Платья донашивались старые или перешивались из портьер, бывших пальто – из чего придется, а потому выглядели, по словам Звягинцевой, «несусветными». Теперь Цветаевой и в голову не пришло бы нарядиться в одно из своих прежних «необыкновенных, восхитительных» платьев. Их время для нее миновало, и два из них, уцелевшие от Сухаревки, перешли к Сонечке Голлидэй вместе с замечательным коралловым ожерельем. Цветаевой не было еще и тридцати, а она уже навсегда прощалась с молодостью:








