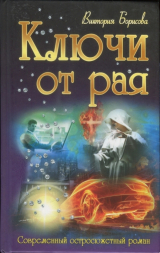
Текст книги "Ключи от рая"
Автор книги: Виктория Борисова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Вот горе-то! Навязалась ты на мою голову, – вздохнула она. – Ладно, пойдем отсюда на воздух!
В скверике Зойка почувствовала себя намного лучше. Она рассказала все – и про Костика, и про маму, и даже про эту противную тетку в женской консультации.
Девушка отреагировала странно – несколько секунд она испытующе смотрела в распухшее, зареванное Зойкино лицо, потом, словно приняв какое-то решение, сказала:
– Дура ты, дура и есть. Ну кто ж так делает? Ладно, пошли со мной. Одно место еще осталось.
Это было так странно, так неожиданно, что Зойка покорно утерла слезы и пошла вслед за незнакомкой, даже не спрашивая, куда и зачем.
А место оказалось – на тот свет…
Зойка всхлипнула и тряхнула головой, отгоняя неприятные воспоминания. Что уж там, теперь все равно! Завтра для нее все кончится. Девушка вырвала из тетради чистую страницу, задумалась на мгновение и быстро написала:
«Мамочка, прости меня, пожалуйста! Ухожу, потому что не могу иначе. Костик меня бросил, а я беременна. Не хочу больше жить. Прости и пойми, если сможешь.
Твоя дочь Зоя».
Вот и все. Письмо получилось кратким и не таким трогательным, как в кино, но сойдет и так. Надо положить куда-нибудь на видное место…
Зойка прошлепала босыми ногами на кухню. На расписанной под гжель тарелке лежали два блинчика с мясом, аккуратно прикрытые бумажной салфеткой. Наверное, мама оставила, уходя на работу… Запах от них шел такой аппетитный, что рука сама потянулась было к еде.
«Нашла время! – одернула себя Зойка. – Сейчас о другом надо думать!»
Она аккуратно сложила записку и положила ее на стол. Мама придет, развернет, прочитает – а ее уже не будет на свете… И ей будет все равно.
Девушка утерла слезы, вернулась в комнату и снова юркнула под одеяло. Она еще долго лежала, глядя в темноту за окном, и до самого утра так и не смогла заснуть.
Глава 5
Глеб
Долгой же кажется ненастная осенняя ночь, почти нескончаемой… Ветер завывает, словно брошенный пес, и тяжелые капли дождя стучат в окно. По квартире, заставленной старой мебелью, гуляют сквозняки, так что колышутся пыльные портьеры на окнах. Кругом громоздятся стопки книг, валяются какие-то бумаги, из крана на кухне монотонно капает вода… Но горит настольная лампа под старомодным зеленым абажуром, очерчивая светлый круг, и молодому человеку, что сидит у стола, явно будет не до сна в эту ночь.
Глеб рассеянно листал толстую тетрадь в коричневом кожаном переплете. Там почти не осталось места… Страницы, густо исписанные мелким, убористым, почти бисерным почерком, шелестят под руками, как будто разговаривают с ним.
Вдруг он тряхнул головой, улыбнулся, словно его неожиданно осенила очень важная мысль, и, склонившись над тетрадью, начал что-то быстро-быстро писать. Перо не поспевает за мыслью, и строчки бегут по странице, обгоняя друг друга.
Мудрецы, поэты, пророки
Говорили, что жизнь – петля,
И что мы темны и убоги.
Это правда. Только не вся.
Стихи вторгаются в этот мир, словно трава, что пробивается к солнцу через асфальт, или ребенок, рвущийся наружу из материнского чрева. Когда новая мысль требует воплощения, он забывает обо всем – даже о том, что предстоит совершить уже совсем скоро.
Пусть завтрашний день станет для него последним, но сейчас он торопится записать это стихотворение, ухватить вдохновение, пока оно не исчезло, и выложить на бумагу новые строчки…
Мы сегодня живем, чтоб выжить,
Завтра срежут нас, как траву,
Но иным удается видеть
Золотые сны наяву…
Это те, кто словами, кистью
Или звуком выразить смог,
Что поведал, роняя мысли,
Замечтавшийся добрый Бог.
«Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Ну, не Пушкин, конечно, но все же… Глебу казалось иногда, что каждое стихотворение не пишется пером по бумаге, не сочиняется по воле своего создателя, а появляется из какого-то параллельного мира и его задача – уловить, записать и сохранить.
И несут они это людям,
Только здесь никого не ждут.
А появится – так осудят,
Аккуратно к кресту прибьют.
Предадут его в руки смерти,
И душа взлетит к небесам,
Но останется звездный ветер,
Утешающий души нам…
Все так, но чего-то не хватает. Нужен последний, завершающий аккорд! На мгновение Глеб почувствовал на лице холодное дуновение. Будто на кладбище оказался… И в самом деле – люди, отмеченные печатью таланта, особенной божьей благодати, оставили миру свои творения, но сами зачастую оказывались непонятыми и гонимыми при жизни! И посмертное признание вряд ли сможет что-то изменить.
Он сжал губы и быстро дописал:
Никого не поднять из праха,
Это только песня без слов —
Колыбельная песня страха
Над могилой забытых снов.
Кажется, теперь все. Глеб еще раз перечитал написанное – и улыбнулся радостно и светло. Да, да, все правильно. Можно сказать, вполне достойное завершение.
Остро и больно кольнула мысль: а для кого все это останется? Скорее всего, скоро сюда придут чужие люди и все вещи, знакомые и памятные с детства – и заветную тетрадь в том числе! – просто выкинут, как ненужный хлам на помойку.
Нет, этого допустить нельзя! Уж бог с ней, с рухлядью, даже книги не так жалко, но стихи надо сохранить. Пожалуй, стоило бы отдать кому-то из друзей, но теперь уже поздно… Разве что по почте отправить. Да, да, это, пожалуй, лучший вариант. Только вот кому?
Перед внутренним взором на мгновение предстало лицо Тимура: широкие скулы, раскосые глаза, неизменная улыбка… Весельчак и балагур с неразлучной спутницей – гитарой. Только если повнимательнее приглядеться, в глубине его глаз всегда прячется грусть. Недаром же далась ему афганская служба! Зато стихи останутся в хороших руках. Некоторые, наверное, станут песнями, как уже не раз бывало раньше, и после какого-нибудь Яблоневского фестиваля пойдут гулять по студенческим компаниям и кухонным посиделкам, будут звучать у костра в лесу или даже из киоска пиратских звукозаписей. Вряд ли кто-нибудь будет знать автора, ну да пусть их. Главное – песни заживут собственной жизнью!
Даже когда его самого уже не будет.
Подумав так, Глеб аккуратно закрыл тетрадь, отложил ее в сторону и слегка погладил шершавую обложку, словно хотел сказать: не бойся, мол, на произвол судьбы я тебя не брошу!
Кажется, все. Он обвел взглядом комнату. Так человек, отправляясь в далекое путешествие, оглядывается в последний раз по сторонам, словно проверяя, не забыл ли чего.
От пола до потолка громоздятся книжные полки, уставленные многотомными собраниями сочинений классиков марксизма-ленинизма. Если открыть любую книгу – найдешь на полях многочисленные пометки, сделанные рукой отца. И твердый росчерк на первой странице: «Из собрания Николая Ставровского». Отец почему-то имел привычку подписывать свои книги…
Он всю жизнь преподавал теорию научного коммунизма, читал лекции в университете и еще нескольких вузах попроще, а потому очень добросовестно работал с первоисточниками, чтобы, по собственному выражению, «владеть вопросом».
Наверное, отец был хорошим преподавателем – вдумчивым, очень эрудированным, в меру строгим… В быту же он был сущим ребенком – большим, неприспособленным и наивным… В доме хозяйничала бабушка Антонина Сергеевна – высокая суровая старуха. Сына она опекала, словно младенца, просто пылинки с него сдувала – готовила особенные паровые котлеты, гладила рубашки, до зеркального блеска начищала ботинки, любовно и старательно оборудовала ему рабочий кабинет, чтобы ничто не отвлекало от научных занятий, и ходила на цыпочках мимо двери…
А еще ревниво пресекала все посягательства на свое сокровище. Наверное, поэтому отец почти до сорока лет проходил в холостяках, являя собой образ классического чудака не от мира сего. Именно таким он выглядит на всех фотографиях – длинная нескладная фигура, добрые и беспомощные глаза за толстыми стеклами очков и неизменное мечтательно-отрешенное выражение лица…
– Настоящий ученый не должен отвлекаться на мелочи! – наставительно говорила Антонина Сергеевна, подняв указательный палец. – Наука не терпит суеты!
И все-таки не углядела. Когда в аудиторию впервые вошла молоденькая студентка Наташа Ершова, доцент Ставровский покраснел и даже уронил очки от смущения. Девушка и в самом деле была хороша, как майская роза…
В общем, диплом мама так и не получила, зато через девять месяцев после их знакомства на свет появился Глеб.
Антонина Сергеевна пробовала было воспротивиться этому скоропалительному браку, но тут отец впервые проявил характер, даже стукнул кулаком по столу и решительно заявил: «Как честный человек, я обязан…»
И твердокаменная старуха сдалась. Молодая женщина поселилась в огромной, но неуютной квартире в сталинском доме на Ленинградском проспекте на правах законной супруги. Правда, в присутствии свекрови она все время чувствовала себя задавленной и даже по дому ходила с оглядкой…
Историю их с отцом знакомства мама рассказывала Глебу много раз, словно сказку, а он все никак не мог понять, почему на старых фотографиях она такая молодая и цветущая, а в жизни выглядит совсем по-другому. Она словно растворилась в семье, смотрела на отца с обожанием и не переставала считать его гением.
Глеб начал сочинять стихи, наверное, с тех пор, как себя помнил. Музыка слов завораживала его… Еще совсем маленьким он чувствовал, как самые обычные слова, расставленные в определенном порядке, превращаются в нечто новое, необычное и неожиданное.
В этом загадочном процессе было нечто сродни магии, и Глеб иногда представлял себя волшебником, который, читая заклинания, может менять мир по своему усмотрению, устанавливать свой порядок вещей…
Много позже, уже став взрослым, он наткнулся на стихотворение Гумилева и подивился схожести своих детских представлений с видением великого поэта:
В оный день, когда над миром новым
Бог явил лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом воздвигали города…
Читал Глеб много и неразборчиво. Едва научившись складывать буквы в слова, он начал мести с полок все подряд. Кроме сочинений классиков марксизма-ленинизма, в доме было немало книг…
Отец всю жизнь собирал библиотеку и очень гордился ею. Маленькому Глебушке (так его называла бабушка Антонина Сергеевна) многое было непонятно, и, если книга казалась скучной, он сразу откладывал ее в сторону. Зато порой повествование захватывало его настолько, что он забывал обо всем на свете. Читать приходилось украдкой, чтобы взрослые не заметили и не отобрали книгу «не по возрасту», но Глеб научился, дождавшись, пока все в доме улягутся спать, прятаться в кладовке. Он принес туда фонарик – и блаженствовал. Возвращаться в обыденный мир совсем не хотелось…
Казалось, что дома всегда было холодно. Не было ни криков, ни скандалов, и посуда на кухне не билась… В семье вообще не принято было повышать голос друг на друга.
Зато у бабушки все время были поджаты губы и на лице застыло выражение бесконечной скорби. Мама тихо прошмыгивала из угла в угол испуганной мышкой, и вид у нее вечно был какой-то виноватый. Что происходит между ними, Глеб по малолетству не понимал, но не спрашивал и на всякий случай старался держаться подальше.
Отец в его мире появлялся редко – большую часть времени он проводил либо вне дома, либо в своем рабочем кабинете. Глебу иногда казалось, что он просто прячется там от бабушки и мамы, как и он в кладовке.
Учился Глеб неровно – то сплошные пятерки, то двойки, прогулы и вызовы родителей в школу. «Трудный ребенок, одаренный, но трудный!» – вздыхали учителя, а он смотрел на них со смешанным чувством недоумения и жалости. Неужели эти пожилые, ограниченные и словно чем-то навсегда испуганные люди всерьез думают, что могут его чему-то научить? Иногда он начинал спорить, но чаще просто сидел в классе с таким отстраненным видом, словно все происходящее здесь его вовсе не касается.
Лет в четырнадцать у Глеба наступил период богоискательства и богоборчества. Он упорно искал ответа на вечный вопрос: есть ли какая-то высшая сила, которая призвана воздать «каждому по делам его» или человек совершенно свободен и отвечает за свои поступки только перед собственной совестью?
Глеб прилежно читал и Библию, и Коран, и «Историю религий», но долгожданной ясности это не принесло. С одной стороны, усердно насаждаемый безусловный атеизм стал казаться тупой казенщиной, а с другой – искренне уверовать в Бога Глеб не мог. Слишком уж темна и запутанна история… И кровавых страниц в ней тоже немало!
Он долго размышлял о том, почему христианство, пришедшее в мир как благая весть, успело превратиться в полную свою противоположность. Как можно учить людей любви друг к другу, насаждая новую религию огнем и мечом?
Как получилось, что сначала были христианские мученики, а потом – инквизиция, Крестовые походы, безжалостное преследование еретиков и иноверцев? На какое-то время его настольной книгой стал «Тиль Уленшпигель» Шарля де Костера. «Пепел Клааса стучит в мое сердце…» Жестокие и прекрасные слова преследовали его.
Перед глазами вставали картины средневекового города с мощеными узкими улочками и остроконечными крышами из красной черепицы.
Красивый такой городок, будто пряничный! Только дела в нем творятся страшные. И зеваки на площади собрались не затем, чтобы поглазеть на жонглера или трубадура…
Нет – сложены вязанки дров у столба, и совсем скоро здесь сожгут живого человека. В небе горит закат, но никому нет дела до его вечной и равнодушной ко всему красоты, скоро предстоит зрелище поинтереснее!
И в тот час, когда на стене
Догорает последний блик,
Шел принять свою смерть в огне
Нераскаявшийся еретик.
Дальше было о том, как улюлюкает толпа и как осужденный старается идти быстрее навстречу смерти, торопит ее, как милосердную избавительницу от страданий…
И о том, как, незримый для всех, перед ним предстал сам Иисус Христос в терновом венце и окровавленной одежде, чтобы попросить прощения у человека, замученного во имя Его:
Ты пойми, я совсем другой,
Я учил любить и прощать,
Пожалей меня, успокой,
Не за то я шел умирать!
Стихи получились длинные, местами чересчур книжные, но Глеб был доволен собой. Он даже отправил их в популярный журнал «Наша молодость» и с трепетом в душе ждал, что вот-вот увидит свое произведение напечатанным…
Месяца через два пришел ответ.
Некая О. Самоварова сообщала, что стихи для журнала не подходят, советовала обратиться к современной жизни и написать что-нибудь о буднях комсомольской организации. Было очень обидно, но Глеб старался не подавать вида. Конечно, сам виноват! Глупо было надеяться.
В тот день он записал в своем дневнике: «Сегодня мир впервые сказал: “Ты мне не нужен”. Если так, то и мир не нужен мне!»
Глеб еще долго переживал эту неудачу, даже стихов не писал почти два года. К тому же в семье случилась беда… В марте восемьдесят шестого года скоропостижно скончался отец.
Странное это было время: вроде бы огромная страна, тогда еще именуемая Советским Союзом, стояла твердо и нерушимо, а новый генсек, прозванный в народе Меченым за большое родимое пятно на лысине, то шумно боролся с алкоголизмом, то призывал с телеэкрана «нАчать» и «углУбить» перестройку и ускорение, но предчувствие близких перемен буквально витало в воздухе.
Стали появляться публикации опальных прежде писателей, начали выпускать диссидентов из тюрем и психушек… Так через плотину просачиваются первые ручейки, которым совсем скоро предстоит превратиться в мощный поток, чтобы снести обветшавшее сооружение.
В промозглый и ветреный день отец вернулся с работы раньше обычного. Он пожаловался на усталость, отказался от ужина, выпил стакан крепкого чаю и прилег на диванчике у себя в кабинете. Мама никогда не решалась потревожить его там, но в тот вечер почему-то заглянула – и выскочила бледная, с трясущимися губами.
– Антонина Сергеевна! Вызывайте «скорую»!
– Что случилось?
Бабушка горделиво выплыла из своей спальни, как всегда, величественная – седые волосы убраны в высокую прическу, губы поджаты, одна бровь чуть приподнята. Весь ее вид будто говорил: «Ну, что еще натворила эта дурочка?»
– Что ты кричишь, Наташа? Уже поздно, – она устало и снисходительно отчитывала невестку, – и Николаша устал, отдыхает. Людям нужен покой!
– Там Коле… плохо, – выдохнула мать и вдруг как-то странно сползла по стене, опустилась на корточки и горько заплакала, закрыв лицо руками.
В доме началась суета, пришли люди в белых халатах и увезли отца. В воздухе прозвучало слово «инсульт», словно пуля просвистела…
На носилках он лежал беспомощный, непохожий на себя: широко раскрытые невидящие глаза, на лице – гримаса страдания и рот как-то странно кривился на сторону.
И до самого утра в окнах их квартиры горел свет… В кухне пахло валерьянкой и валокордином и две женщины сидели рядом, утешая и поддерживая друг друга – впервые, наверное, за все годы, что им довелось прожить бок о бок.
Потом они по очереди ходили в больницу, подолгу просиживали у постели отца и возвращались, то вспыхивая радостной надеждой, то как будто в воду опущенные. За то недолгое время, что отец провел между жизнью и смертью, они стали очень близки, жили одними радостями и печалями.
Глеб не переставал удивляться: почему надо было случиться большому несчастью, чтобы родные, в сущности, люди поняли, наконец, что им нечего делить?
Отец скончался через неделю. Врачи оказались бессильны… Глеба в больницу так и не пустили. Мама с бабушкой были совершенно единодушны в этом вопросе: «Не надо травмировать ребенка!» Потом Глеб очень жалел об этом, хотя и знал, что отец так и не пришел в сознание.
Были похороны, и квартира впервые в жизни показалась тесной – так много людей пришли проводить отца в последний путь. Седые профессора и юные розовощекие студенты, аспиранты, бывшие ученики… Все они говорили о покойном много хороших слов, и по всему выходило, что они знали и любили его много лет. Среди них Глеб чувствовал себя просто неприкаянным! Особенного чувства потери он почему-то не испытывал, но было странное, почти абсурдное ощущение собственной вины за то, что почти не знал отца, ни разу не поговорил с ним по душам и даже проститься по-человечески не смог…
Много позже Глеб иногда думал: «Интересно, как бы отец смог принять перемены, что произошли всего через несколько лет? Он всю жизнь не только объяснял студентам преимущества социалистического строя и неизбежное наступление коммунизма, но и сам искренне верил в это, а тут – распад Советского Союза, крах системы, дикий капитализм начала девяностых, расстрел Белого дома, война на Кавказе… Всего за несколько лет устоявшаяся жизнь перевернулась с ног на голову! Может, и к лучшему, что не дожил».
Бабушка пережила его ненадолго. После похорон она несколько дней бродила по квартире, словно искала что-то важное и никак не могла найти. Она стала рассеянной, порой говорила сама с собой и не отзывалась, когда домашние обращались к ней, а потом слегла – и больше не встала.
После свалившегося несчастья мать совершенно растерялась. Она выглядела как человек, который пробудился внезапно от долгого сна и теперь не понимает, где находится. Друзья покойного отца устроили ее работать на кафедру – пусть всего лишь лаборанткой, но ведь жить как-то надо! Деньги совсем небольшие, но это все-таки лучше, чем ничего. Глебу было жаль ее – такую беспомощную, неприспособленную…
– Я работать пойду! – заявил он.
Но мама решительно воспротивилась.
– Ни в коем случае! – строго сказала она. – Ты должен учиться. Проживем как-нибудь.
И в самом деле – жизнь постепенно наладилась. Удивительно, но спустя недолгое время мама повеселела и даже расцвела! Глеб вдруг с удивлением обнаружил, что его тихая мама-мышка, оказывается, еще вполне молодая и привлекательная женщина.
Она старалась принарядиться, уходя на работу по утрам, делала прическу и подкрашивала губы и ресницы, от нее теперь пахло духами…
А на него свалилась любовь – первая юношеская любовь, нежная, беспощадная и безнадежная. Как там у классика? «Так поражает молния, так поражает финский нож».
Ему как раз исполнилось шестнадцать, и большую часть времени Глеб проводил в мастерской художника Павла Кудрина – большой, пыльной, заставленной холстами и подрамниками, но почему-то очень уютной. Сигаретный дым стоял столбом, хоть топор вешай, по стаканам разливают дешевый портвейн, именуемый в просторечии «Три топора», зато люди собирались порой очень интересные.
Здесь пели, играли на гитарах, разговаривали… Лишь иногда сам хозяин – большой, лохматый, заросший бородой и немножко похожий на лешего – выставлял всю компанию со словами: «Посидели – и идите себе! Мне работать надо». На него никто не обижался, и назавтра все начиналось снова.
Глеба сюда привел Володя Старков – один из студентов, слушавших отцовские лекции. Он пришел на похороны и всячески старался помочь – то стол передвинуть, то посуду принести… И после еще звонил, наведывался, вроде как взял над ним шефство. Глеб очень дорожил этой дружбой. Такого светлого, солнечного человека ему встречать раньше не доводилось! С ним можно было поговорить, он хорошо играл на гитаре…
А еще – замечательно умел слушать стихи. Только ему Глеб сумел рассказать о своей неудаче с журнальной публикацией, об унизительном отказе…
И только с ним снова начал верить, что его стихи приходят в мир не напрасно и не стоит бросать дело своей жизни из-за какой-то там Самоваровой.
Обидно было лишь то, что они почти ровесники, но Володя уже студент, взрослый, самостоятельный человек, а Глеб все еще пребывал в унизительном статусе школьника и очень этим тяготился. Он просил не говорить об этом в компании… «Да ладно, вот ерунда какая! Молодость – единственный недостаток, который проходит с годами!» – беззаботно отмахивался Володя, но слово держал.
В один из жарких дней середины июля, когда пыльное московское лето висит над городом в облаке тополиного пуха и бензиновых выхлопов, на пороге мастерской вдруг появилась девушка. Да такая, что все присутствующие просто рты открыли… Смолкли разговоры, Володины пальцы застыли над гитарными струнами, и песня про глухарей на токовище оборвалась на полуслове.
– Привет! Меня зовут Янка, – сказала она.
В ушах Глеба ее голос прозвучал как музыка… Он не сразу заметил, как смотрит на нее Володя – так, словно весь мир перестал существовать для него в это мгновение.
Янка оказалась начинающей художницей. В этой лохматой, курящей, не очень трезвой компании она выглядела как пришелица из другого мира. Стройная, гибкая фигурка, огромные синие глаза, точеная головка в ореоле кудрей светло-медового цвета… То ли эльф, то ли ангел, то ли просто инопланетянка.
Почему-то в ее присутствии стихали громкие споры и никто не смел вставить крепкое словцо. Хотелось читать хорошие стихи и думать о высоком.
Словно само собой получилось так, что они стали все чаще общаться втроем: ходили в кино, выезжали на природу или просто гуляли по городу… И Глебу казалось, что именно ему Янка отдает явное предпочтение! Каждое его стихотворение было подарком для нее, новым признанием в любви. Он читал их друзьям, и Володя одобрительно качал головой, а Янка просто слушала, и синие глаза становились такими глубокими, задумчивыми…
Сказал Господь: «Бери что хочешь, но плати.
Деньгами, хлебом, потом, жизнью, кровью…
Но ничего дороже не найти,
Чем то, что называем мы любовью!
Живи как хочешь. Выбирай – о да! —
Страну, жену, и друга, и работу,
Но не забудь: приходится всегда
За все, за все, за все платить по счету!
И может быть, наступит миг в судьбе,
Когда играет ветер парусами,
Когда заглянет жизнь в лицо тебе
Зелеными и нежными глазами…»
А что любовь? Дрожит рука в руке,
И сердце бьется раненою птицей,
И за волшебный замок на песке
Не хватит жизни, чтобы расплатиться.
Лето кончилось. С Янкой и Володей удавалось видеться все реже: впереди был последний школьный год, а там – выпускные экзамены, поступление в институт… И все равно Глеб чувствовал тонкую, незримую нить, связывающую его с любимой и лучшим другом. Хотелось верить, что их волшебное «втроем» продлится как можно дольше.
И тут, словно гром с ясного неба, новость: Володя уходит в армию!
– Вот, повестку получил, – смущенно улыбнулся он. – Десятого октября – в военкомат с вещами. Теперь долго не увидимся…
– Как – в армию? А институт? – удивился Глеб.
– Теперь всех берут, – Володя пожал плечами, – так что готовься, через пару лет и тебе придется!
На «отвальную» напросилась большая компания. Решили махнуть за город, устроить нечто вроде пикника, благо погода позволяла.
– Тесновато у нас дома! К тому же родители пожилые уже, не надо их пугать, – объяснил Володя.
Тот вечер остался у Глеба в памяти навсегда. Погода выдалась сухая, теплая, прямо как по заказу… В темноте горел костер, и пляшущее пламя бросало отблески на лица, делая их такими незнакомыми и таинственными.
Володя был весел, словно отправлялся в увлекательное путешествие, много шутил, смеялся и почти не выпускал из рук свою гитару. Лишь однажды, когда на несколько минут он задумался о чем-то, Глеб увидел в его глазах тоску и обреченность.
Янка не отходила от него. Глеб еще надеялся, что это просто из-за того, что друг уходит, а они остаются. Но когда девушка вдруг положила Володе голову на плечо удивительно нежным, женственным движением, Глеб понял все. Между ними появилась новая связь, и теперь он здесь лишний.
Улучив минуту, Глеб все же решился поговорить с Янкой. Не стоило, конечно, этого делать! Зачем слова, когда все и так понятно?
– Такие вот дела… – протянул он, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно и беззаботно. – Даже не верится, что Володька завтра уедет…
Янка вздохнула.
– Да. И мне тоже не верится. Я его ждать буду! – светло улыбнулась девушка. – Уже календарь завела. Буду каждый день отмечать, начиная с завтрашнего.
– Так вы теперь… – он замялся, подыскивая подходящее слово. – Вы теперь вместе?
Она кивнула. А Глеб почувствовал, как сердце проваливается куда-то вниз… Самому бы так провалиться, чтобы не стоять здесь перед ней и не слышать, как она говорит о своей любви к другому!
Наверное, это было заметно. Янка словно опомнилась и заговорила быстро-быстро, да еще таким тоном, как будто хотела утешить:
– Ты не подумай… Я к тебе очень хорошо отношусь. Ты для меня самый лучший друг!
В переводе на нормальный, человеческий язык это может означать только одно: «Я тебя не люблю». Конечно, надо было просто встать и уйти, может быть, еще улыбнуться на прощание… Как у Гумилева:
И когда женщина
С единственно прекрасным лицом,
Самым дорогим во Вселенной,
скажет: «Я не люблю вас»,
Я учу их, как улыбнуться и уйти
И не возвращаться больше…
Но Глеб уйти не смог.
Весь вечер он сидел и смотрел на Янку с Володей, словно хотел причинить себе как можно больше боли, растравляя свою рану. Видел, как бережно он накинул ей на плечи свой пиджак, как она благодарно улыбнулась в ответ, и ее точеная белокурая головка в свете костра казалась озаренной совсем другим, внутренним сиянием… На пальце поблескивал серебряный перстенек с бирюзой (раньше его не было!), и Янка нет-нет да поворачивала руку так и эдак, любуясь.
И пела гитара, словно хотела обрести голос человеческого сердца. Печальная красивая мелодия хватала за душу так, что в груди что-то сжималось сладко и больно. Тяжело, невыносимо расставаться с тем, кого любишь, и горек на губах вкус разлуки…
Для них двоих – временной, а для него – вечной.
Глеб смотрел на огонь и чувствовал, как глаза начинают предательски слезиться. Наверное, это дым от костра виноват! А в голове сами собой складывались слова:
Эти струны во мне
Будут вечно звучать,
Вечно петь о любви и разлуке,
Жаль, что даже во сне
Не дано целовать
Твои тонкие смуглые руки!
Весь последний школьный год Глеб провел будто в полусне. От Володи сначала приходили письма – нечасто, но все-таки… А потом он совсем перестал писать. Глеб немного обиделся, но теперь было все равно. Ну, почти.
Янку он тоже не видел и был даже рад этому. Зачем терзать душу безнадежной любовью? Разве недостаточно каждый день и каждую ночь ощущать пустоту около сердца? Разве мало услышать от любимой: «Ты мне не нужен»? Да, конечно, она не сказала этого вслух, не оттолкнула, не обидела… Но «Ты мой самый лучший друг» прозвучало примерно так же.
Глеб почти перестал выходить из дома по вечерам и все свободное время проводил за книгами. Мама радовалась (мальчик занимается!) и ходила по квартире на цыпочках, не решаясь лишний раз заглянуть в его комнату, как когда-то в кабинет отца.
Как-то незаметно подошли выпускные экзамены, потом – вступительные… Глеб подал документы на философский факультет. Не то чтобы он так уж хотел продолжить дело отца, но философия ведь – вечная наука! Начиная с мудрецов Античности, люди, наделенные особым складом ума, стремились осмыслить реальность и упорядочить все знания о мире. Как когда-то говаривал отец, «ими и расцветает жизнь!»
Глеб поступил на удивление легко. Еще бы – в приемной комиссии сидели люди, которые хорошо знали покойного отца, сочувствовали маме… Он даже немного стыдился того, что оказался на особом положении, и старался отвечать как можно лучше, чтобы совесть была спокойна.
Университет оказался сплошным разочарованием. Почему-то здесь совершенно не чувствовалось ни духа исканий пытливого ума, ни извечного студенческого вольнодумства. Сокурсниками оказались очень разные люди: комсомольские активисты с оловянными глазами, точно знающие, что почем и как образование должно помочь в карьере, парочка перепуганных ребят из Средней Азии, обалдевших от шума и суеты большого города, да несколько не в меру начитанных мальчиков и девочек из интеллигентных московских семей. Елена Андреевна, доцент кафедры научного коммунизма, ласково называла их «головастиками».
На занятия Глеб ходил в основном для того, чтобы блистать эрудицией. Он частенько спорил с преподавателями, и бывало, что седовласый профессор краснел и терялся, уличенный в незнании исторического факта или неправильном цитировании кого-нибудь из великих. Но скоро и это надоело. Глеб все чаще закрывался у себя в комнате и писал, писал…
Одиночество стало для него насущной необходимостью, хотя в универе он пользовался популярностью среди сокурсников и девушки поглядывали на него с интересом. Но все это было не то. В мыслях у Глеба была только Янка. Он хотел забыть ее – и не мог.
Глеб увидел ее вновь только два года спустя – просто случайно встретил на улице. В теплый весенний вечер он шел по Арбату, не так давно переделанному в пешеходную зону. Почему-то ему нравилось это место… Несмотря на общую атмосферу кича и безвкусицы, вычурные бронзовые фонари, торговцев с матрешками и шапками-ушанками, готовых заполонить любой пятачок, здесь чувствовалась новая, незнакомая прежде атмосфера свободы. И для творческих людей это была первая возможность предъявить себя миру. Можно сидеть с мольбертом, рисуя портреты прохожих, можно петь под гитару, читать стихи или хоть анекдоты рассказывать… Почти Монмартр посреди Москвы!








