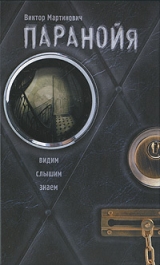
Текст книги "Паранойя"
Автор книги: Виктор Мартинович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Каждый раз накануне генеральной репетиции я старался уехать из города, происходящее казалось мне чудовищным обманом, но сейчас, толкаясь в толпе по направлению к нашему горькому парку, я видел вокруг лишь счастливые лица. И понимал, что Муравьев и здесь все сделал правильно, что этим людям нужен именно такой праздник. А большая компания молодежи рядом пила водку, передавая бутылку из рук в руки на ходу, и куталась, куталась в государственный красно-зеленый флаг, и за одним из его складчатых изгибов кто-то целовался, валясь прямо на землю, под ноги, и ничуть не смущаясь, и через них, уже полуобнаженных, пьяных, переступали, не обращая внимания, потому что мало ли что еще можно увидеть в вечер генеральной репетиции, когда водка в любом магазине стоит в два раза дешевле, а милиции запрещено трогать пьяных и дерущихся. Меня вдруг подхватили за руку и потянули куда-то вбок, в противоположном нужному мне направлении, и оказалось, что я попал в змейку – людскую цепочку, петлявшую среди людских масс, поющую что-то патриотическое, и к моей свободной руке уже прилипла облаченная в коротенькое, обтягивающее платьице с блестками рыжая бестия, улыбающаяся мне во весь рот, и – Боже, почему я не могу быть таким же простым, как они? Я соединил ее руку с той, что тянула меня в людской змейке, и послал ей воздушный поцелуй, хотя она даже не обернулась. Под ногами хрустел мусор, впереди была массовая драка – кто-то что-то не так сказал или, скорее, не так понял. Девушки визжали, а в общей свалке и пыли бросались в глаза только яркие пятна крови, так героически смотревшиеся на белых рубашках; милицейский патруль, стоявший в двухстах метрах, не ввязывался, конечно. У каждого из них, может, есть приглашения на завтрашний настоящий праздник, кому ж охота приходить в синяках из-за того, что переусердствовал, охраняя порядок на репетиции. Людская толпа изменила проспект, я потерял ориентацию – то тут, то там стояли сцены, на которых двигались чуть более равнодушные к происходящему, чем это можно на концерте, певцы. Но зритель – раскрасневшийся, пошатывающийся, с текущими по подбородку соплями – все прощал. Здесь, в самом центре, уже не сидели – не было места, – здесь стояли, шли, танцевали, здесь пили на ходу и что-то говорили случайным прохожим – как этот мужчина в каске из черных башкирских волос, постриженных так, что они напоминали головной убор, – он, сбиваясь на какой-то восточный язык, говорил мне про наш город-герой и называл меня Андреем, но потом на секунду замер, всмотрелся в меня и спросил, где Андрей, и убежал назад, искать своего Андрея, а мне хотелось вынырнуть отсюда, просто вынырнуть вверх. Сменить среду обитания, переплыть из соленых вод этой толпы в пресные наши воды, и декоративная речушка с утками была прямо передо мной, и мостик, с которого ты умилялась, глядя на уток, и все это было усеяно телами, которые чокались, чокали и гэкали. Утки, обескураженные происходящим, улетели в теплые края либо нажрались вспотевшей от долгого лежания в целлофане колбасы до того, что не могли больше плавать и камнем пошли на дно. Я выглядел недостаточно чужеродным этой среде, недостаточно инопланетянином или белым медведем, потому что ко мне постоянно обращались, и я делал все для того, чтобы они поняли, что обращаются по ошибке, что я пришел не на генеральную репетицию, не на их генеральную репетицию, а этот мужчина в усах и – о чудо! – не в белой рубашке с коротким рукавом, а в самой настоящей тельняшке, еще пару минут назад сомнамбулически танцевавший прямо посреди декоративного пруда, держа в одной вытянутой руке бутылку водки, во второй – ломаный кусок хлеба, – танцевавший в позе, делавшей его похожим на «Девочку на шаре» Пикассо, так вот, этот мужчина спросил у меня: «Где будет салют?» И прежде, чем я понял, что не отвечать вообще – некрасиво, что ответить надо, – его приятель, только что шаривший руками по дну прудика, пытаясь изловить декоративных золотых рыбок (хотел закусить водку?), ответил за меня: «Везде!»
Здесь было все: восьмилетний ребенок, которого папа поил пивом из бутылки, нарядно одетая бабуля с мопсом на поводке, три старшеклассницы, позировавшие перед четвертой, подняв майки и обнажив грудь, – здесь было все, кроме нее, хотя прошло полчаса, час, час с четвертью после назначенного времени, и – я ведь уже усомнился в этом «с-утки», ведь уже думал, что действительно «сутки», и никакие наши утки тут ни при чем… И еще спустя несколько мгновений сзади на глаза – две юркие ладошки. Ты без своего плаща, без сапожек на каблуке, в маечке и джинсах, выглядела миниатюрной, куда миниатюрней, чем я тебя помнил, но это была особая крохотность – все важное в тебе, например, мои любимые кисти, или брови, или губы, – все было нужных размеров. Чуть вытянутое лицо и ямочки на щеках… Мои руки сомкнулись на твоих сложенных крыльях, и мы стояли, покачиваясь, и золотых рыбок, которых уже проткнули самодельными шампурами из отточенных веток, уже несли к миниатюрному костру, было совсем не жаль. Я тысячу раз за эти восемь недель выдумывал первую фразу, которую скажу тебе при встрече, да и ты тоже, я уверен в этом, готовила что-нибудь изящное, но, уж извини, я не был бы белым медведем, не начав с импровизации:
– Ты опоздала. Сейчас уже шесть.
И ты, нарочито грубо:
– Мне заранее нужно было прийти, да? Юрту тебе здесь построить? Северное сияние на деревьях нарисовать?
И я, подчеркнуто дуясь:
– Написано ведь было: без пятнадцати пять!
И ты, снова прильнув, уже нежно, уже – не имитируя пререканий:
– Написано было, медведь, восемнадцать ноль-ноль. И подсказка про уток.
И еще несколько секунд судорожных объятий, прежде чем до меня дошло. Ай да «комхозец»! Хорошо «кого надо» обманул! И ты почувствовала, как меня сотрясает смех, и отстранилась, и спросила, в чем дело, и я объяснил:
– Дядька, который надпись твою закрашивал, успел время замалевать, я ему намекнул, что я, типа, из органов, и спросил, что за время там было, а он мне выдал, что «без пятнадцати пять». Золотой человек! Странно, что еще на свободе! Может, ты его и наняла граффити намалевать? Я, между прочим, сомневаться уже начал, правильно ли понял сигнал.
– И поделом тебе! Нечего было с опозданием приходить! Раньше бы под мост пришел, время бы никто не затер!
– Но как я мог узнать? Счастье еще, что, в принципе, там оказался, ждала бы сейчас в этой милой компании, кушала бы вон жареных золотых рыбок с теми милыми джентльменами в тельняшках.
И ты очень серьезно:
– Неужели ты думаешь, что ты оказался под мостом случайно?
И я:
– Не понимаю, что ты имеешь в виду. Вроде каждый вечер под мост заглядывать не договаривались. Или я упустил какую-то подсказку?
И ты, – положив ухо мне на грудь:
– Дурак. Я написала и сказала тебе: приди! И ты меня услышал, пошел туда и прочел все, что надо. Если б еще медведи косолапые бегали немножко быстрей, – она укоризненно закрутила мне ухо, а я удовлетворенно зарычал.
И мы двинулись, и мы тронулись – мы оба с тобой были двинутые и тронутые, тронутые и растроганные, растроганные – руками друг друга. Я увлекал тебя в сторону гражданских, тихих, обойденных репетицией улиц, а ты волокла меня в самую гущу, прямо по увенчанной плакатами «Отрепетируем всей страной!» аллее – к проспекту Победителей, где у стелы героев было сейчас гуще и пьяней всего. Все мои вопросы забылись, запутались в твоих волосах, да и как бы я спросил? Вокруг было слишком громко, а твои уши не предназначались для крика, я был готов в них только шептать. И толпа прижимала нас друг к другу, и если в горьком парке мы еще шли, трогая ладонь ладонью, то к началу Победителей вышли уже вжатые, переплетенные – чтобы нас не разбила толпа. Мне больше не хотелось вынырнуть – обретя пару, я удостоверился, что наш вид приспособлен к их соленой воде, мы даже в пиве с тобой смогли бы дышать, если вдвоем, если путаясь плавниками и двигая жабрами одновременно.
У гостиницы «Юбилейная», в единственном месте, где позволено размещать иностранцев, гостинице, окна которой были распахнуты, и в каждом – по заморскому гостю, слишком перепуганному, чтобы спускаться вниз, но и чересчур ошеломленному, чтобы сидеть в баре и пережидать нашествие марсиан, – у этой гостиницы, рядом с обезображенной автостоянкой с развороченными и подожженными урнами, на нас двоих что-то нахлынуло, и мы попытались остановиться и обняться, но – не смогли, в спины уже давили, подталкивая дальше, то есть – ближе к стеле, которая, подсвеченная инфернальным алым, уже показывала свой штык из-за голов. И на секунду стало страшно, что это людское движение с его размеренной механистичностью вообще не выпустит нас, мы, в медленном (один удар сердца – один шаг) ритме, дойдем до трибун, посмотрим вечерний парад и ночной концерт, а потом будем развернуты и, ощущая такие же толчки в спину, препровождены на вокзал, вместе со всеми, так же медленно и неотвратимо, подведены к поезду – какому-нибудь одному длинному поезду, в котором все эти люди уедут к себе в микрорайоны моего города, к себе в маленькие сонные города, как будто страдающие головой с похмелья, и нас вытолкнут, нет – скорее, выжмут на каком-нибудь полустанке «806-й километр», и мы поймем, что теперь нам предназначено – вот тут, самим народом предназначено! И я сооружу избенку, а ты займешься корнишонами. И мы будем счастливы, как кролики, как капустный лист, как дрожжевое тесто, и ты, видно, подумала то же самое либо услышала, что подумал я, – потому что улыбнулась настойчивости, с которой людская масса выдавливала нас вперед, как фарш из мясорубки. Воздух сотрясало буханье военных маршей, голос ведущего, взятый из советской официальной хроники времен застоя, голос, многократно усиленный и присутствовавший, кажется, повсюду – сзади, спереди, по бокам, глушащий самого же себя своим блуждающим эхом, – сообщал нам о «времени развертывания» (и я представлял себе ракету, многократно завернутую в целлофан, и суетящихся людей, пытающихся ее как можно скорее развернуть), о «радиусе поражения», об «установках залпового огня», и все это невозможно было впускать в наш мир, оно рвалось в нем термоядерными бомбами, а идти уже было некуда – впереди тюремной стеной стояли люди, упершиеся в тюремные стены передних рядов, сплошные спины и затылки, монолит из затылков, запеканка из спин, – мы елозили по этой запеканке, как ложка варенья, пытающаяся пробиться внутрь пирога. И вокруг уже сгущалась темнота, как будто специально для торжественности парада стемнело раньше, – ты потянула меня в сторону, на горку, где было тише, и чище, и жиже. Мы бухнулись на землю, и я достал из спины не сильно царапнувший по ней обломок пивной бутылки и сказал: «Осколочное ранение», – и ты – о чудо! – меня услышала! Здесь можно было говорить! Ты выдала длинную тираду по поводу ползущих по проспекту машин, раздавленных двадцатиметровыми стратегическими ракетами, и снабжала этот парад альтернативными комментариями – про «колонну молодых патриотов, в головы которых еще недостаточно надежно вросли фуражки, а потому давайте, уважаемые товарищи, поблагодарим тихую, безветренную погоду этой ночи!», про гордость наших ПВО, установки «Шилка» и их модернизированный вариант «Шилка-в-жопке», сокращенно – «Шилка-ВЖ», про установки «Град обреченный», про главное наше стратегическое оружие – голос ведущего, способный превращать ржавую советскую технику в грозный ответ потенциальному агрессору. И только когда на проезжую часть выползли танки, уродуя асфальт гусеницами, когда они остановились перед трибунами и вдруг шарахнули из пушек холостыми так, что ты, взвизгнув, вжалась в меня, – тебе, как и мне, стало не смешно, а страшно. А толпа, на которую плыли облака пороховой гари, уже ревела сотнями тысяч глоток, готовая ко всему, готовая черной лавиной разлиться и душить, рвать, насиловать, толпа была сейчас как война, они почувствовали пороховую гарь, а танки двинулись дальше, и от скрежета их гусениц по асфальту на нашей горе, прямо под нами, ознобом трясло землю – земле было страшно, мы не могли ее успокоить нашими телами, и мне подумалось: как хорошо, что мы отошли в сторону, иначе в нас неминуемо почувствовали бы врагов, гадов, шпионов – распознали бы по тому, что наши глаза не светятся, наши глотки не орут, наши руки не сжаты в кулаки и не вознесены над головами – нас растерзали бы. И в этих танках в ночном городе, без всякого сомнения, было что-то мистическое, что-то большее, чем просто праздник для народа, как будто над каждым из них летало по валькирии, по демону крови, и я уже пытался схватить эту мысль словами:
– Прекратите дрожать, товарищ главнокомандующий! Вы пугаете землю, которая теперь из-за вас тоже дрожит! Уж лучше это ваше нервное зубоскальство, чем эта вот трусливая дрожь! Знаешь, я впервые почувствовал вот эту энергетику, ее нет, когда смотришь трансляцию по телику. Ты почувствовала, да?
Она кивала, спрятавшись мне в плечо, а я продолжал:
– Как будто в этой бронетехнике заключен ответ на вопрос о том, что такое наша чудесная страна, как она до сих пор так хорошо себя чувствует. Ответ – в танках, а не в экономике. У нас же – ни нефти, ни газа, ни нормального производства – сплошная имитация, попытка слепить микроволновку по чертежам, украденным у Samsung. А ВВП растет, инфляцией не пахнет, зарплаты – как в Европе, пенсии – выше, чем в России, где есть и нефть, и газ, и какое-то производство, в основном, конечно, нефтегазовое. И вот смотришь на все эти ракеты и солдат, слышишь советские военные марши и чувствуешь – так явно, да? До дрожи чувствуешь! Что жизнь государства не исчерпывается экономикой. Что все определяется на тонких уровнях – вот на уровне рева толпы, танков в городе. Ну что может объяснить экономика о курсах валют, например? На поверхностном уровне – да, что-то может, но если копнуть все эти соотношения глубже – разведет руками. «Цена на нефть, ВВП, золотовалютный запас». А как определяется цена на нефть? Почему она то взлетает, то падает? Что с ней будет через месяц? Сплошные тонкие материи! Ни фига ни один экономист не может предсказать. Вон про нас говорили, что здесь еще десять лет назад все ляснуться должно было, и что? Только крепнет!
Какая, в конечном итоге, разница, сколько телевизоров производится и продается, если цены на водку все равно устанавливает Муравьев? И где-нибудь в Штатах его бы ослушались, выставили какую угодно другую цену, но – не здесь, не здесь. И водки-то при таких парадах всегда будет производиться сколько надо, потому что работают все как заведенные – загреметь на нары боятся. И как это в «Экономикс» вместить? Или даже в «Капитал»? Государство больше, чем деньги… Государство – как энергия. Правитель может выбрать мягкую энергию – права человека там, демократия, – тогда и деньги будут одни, и законы, по которым инфляция вступает, – одни. А может слепить диктатуру, и тогда и деньги, и инфляция будут другими. Есть, конечно, африканские диктатуры, где за бакс по три миллиарда их тугриков дают, так это – от недоумия. И даже не так – от неумения распоряжаться энергиями. Совок ведь из-за чего развалился? Там были парады, все кричали дружно, ракеты делали. И все было хорошо. И колбасы хватало, и черно-белых телевизоров. А потом вдруг на этом фоне – бах! – и о правах человека заикнулись, и диссидентов возвращать стали, и репрессии сталинские осудили. На которых как раз и держалось все! Ну, у духов, которые над танками сейчас летают, натурально мозг сломался. И плюнули они, да улетели куда-то (к нам, к нам на самом деле они улетели!). И пошатнулось. Потому что невозможно такие вот парады с демократией совмещать. Потому что эти вот конкретно танки, да по цитадели демократии, да фугасными… А здесь – именно эта, монолитная, гусеничная, танковая стабильность. Гэбэ, диссиденты – ну весь советский набор. В этом плане исчезнувшие так же важны, как беспроцентные кредиты или инвестиции в инновационное производство. Духам нужны жертвы, людские жертвы, – вот вам и пожалуйста. И мелодии этих советских маршей важны – они, похоже, как раз этих духов и вызывают. Может, эти марши на самом деле куда древней, чем мы думаем, – слышишь, какое первобытное буханье – как будто шаман в барабан бьет, – никакого ритма, просто бух, бух…
Но ты не слушала – я опять заговорил о политике, и ты сначала ерзала головой по моей груди, укладывая свой миниатюрный профиль поудобнее на медвежье брюхо, затем повернулась лицом к ритуалам там, у стелы, и я видел лишь затылок, непослушный затылок выросшей вредной девчонки, и невозможно было понять, как ты относишься к тому, что слышишь. Постоянно мы напарываемся на эту политику, не говорить о ней, не говорить, но – глядя, как вздымалась и опускалась твоя голова вместе с моим дыханием, как поворачивалась чуть-чуть каждый раз, поворачивалась, намекая на какую-то точку там, впереди, точку, к которой намертво прикован взгляд, я почувствовал что-то, что что-то…
– Что-то случилось?
– Смотри, – ты говорила тихо и как-то интимно, совсем не той дикторской интонацией, с которой я только что рассуждал о духах. – Вон того, в гавайской рубашке, видишь?
И я – увидел – крупный мужчина сидел вполоборота перед нами, метрах в двадцати ниже по склону, и все пытался своим затылком, своими ушами ощупать нас, повернуться, и то и дело действительно поворачивался, бросая на нас быстрый взгляд. И эти короткие светлые волосы, почти не скрывавшие розовое мясо головы, эта невозможная рубашка, будто пытавшаяся заретушировать его деловитость, будто… И рядом, свернутая в трубочку, – газета, – ну кому здесь, на генеральной репетиции, может понадобиться газета?
– Так, – сказал я, не меняя позы. – Вижу. Ой, вижу!
– Ты ненароком не тайный заговорщик? Не подпольный террорист? За тобой никогда не ходили топтуны?
– Нет! Да нет же!
– Так вот можешь праздновать. Уже ходят. Я этого кабанчика еще в парке заметила. Не так часто видишь, как человек разговаривает со своей газетой. Что натворил, признавайся?
– Да послушай! За мной им совершенно незачем ходить.
– Да ну?
– А ты не допускаешь, что он – за тобой?
– Это легко проверить. Но мы – не будем. Он… – Ты вдруг приподняла голову и повернулась ко мне – я не мог понять выражения твоих глаз – они горели азартом или яростью, тебе как будто нравилось, что нас «пасут». – Он, он обещал мне, – ты выделила слово «обещал», – он обещал, что за мной никто и никогда ходить не будет. И здесь я ему верю. Если бы мы разошлись сейчас в стороны, этот бобик потопал бы за тобой, но. Но мы не станем разбегаться из-за каких-то шестерок в майорском звании. Ты готов?
– К чему?
– Готов?
– Готов, наверное.
– Тогда на счет три резко поднимаемся и бежим. За мной. Не отставая. Ты назначаешься замом по тылу. Будешь смотреть назад, двинул ли он за нами. Раз, два.
Не дождавшись «три», ты вскочила, мягко – я особенно восхитился этой твоей способности двигаться быстро, но очень плавно, как кошка, ты из кошачьих, это точно, и – пока я резко, дергано вставал, уже припустила, вырвавшись метров на десять вперед, и мне пришлось рвануть до хруста в сухожилиях, чтобы успеть за тобой. Ты бежала куда-то во дворы одинаковых кирпичных многоэтажек – тех самых, на которых Муравьев смотрел, по легенде, свое французское кино, и, нагнав тебя, я оглянулся и увидел, что альбинос встал и быстрым шагом идет за нами, идет и действительно разговаривает со свернутой в трубочку газетой, и ему нас не догнать при такой расторопности, и – этот хруст издает мой локоть, и ребра, и – как же больно – головой о тротуар – это бордюр – я налетел на него, разогнавшись, заглядевшись, и в глазах – темно, я ничего не вижу, и по виску течет теплое, – по мне что, стреляли? И ты уже тянешь меня вверх, и подставляешь плечо, и мы так, раненым четырехногим, ковыляем вперед, и зрение – как в кинозале, когда зажигают после фильма свет, – вернулось, я могу бежать дальше сам, только резко болит в боку, а эта рыжая, стриженая жопа невероятно разогналась для своих ста килограммов. До него уже меньше ста метров, а ведь казался жирным увальнем, карикатурой на американца, приехавшего на Гавайи в плановый отпуск, а там, под рубашкой, – наверняка сплошные мышцы, и он реально бежит прямо к нам, я пытаюсь сказать об этом тебе, но мы слишком разогнались, у меня уже вообще нет дыхания, и ты впереди метра на три, мне же больно, у меня же кровь на виске, а он – чешет, чешет, как танк, кажется, даже земля под ним трясется, он же, если честно, если без обиняков, – убьет меня голыми руками, сломает шею одним поворотом, этот бизон, и что ему от нас надо? Может быть, остановиться, вот как я, сейчас, сейчас, сейчас, – остановиться, развернуться к нему и, согнувшись, чтобы быстрей вернулось дыхание, пойти к нему, спросить – что надо, но ты уже вернулась ко мне, ты – лицо, нет, уже не горящее азартом, уже не яростное – испуганное, и крик, простой, на один выдох:
– Бляяааа!
И короткий удар себе по плечу – и я сразу все понимаю, понимаю, что нужно бежать дальше, а до него уже пятьдесят метров, я вижу, что значит этот удар по плечу, – ты показываешь, что у него явственно топорщится под рубашкой, от плеча и ниже, это закрывалось свободной, чересчур свободной рубашкой, но сейчас, когда этот танк разогнался, рубашка облепила его тело, и да – кобура, и черт знает что он собирается делать с пистолетом в ней, и твое «Бляяааа!» значит, что нужно бежать, что мы не знаем его намерений, а поэтому – руки в ноги, и, судя по интонации этого «Бляяааа!» – осталось уже немного – немного до чего-то, чего-то спасительного, и – снова на подкашивающиеся распорки ног, на эти негнущиеся ходули, и – со всех сил за тобой, и заносит – ноги уже устали, и все лицо в слюне – я очень давно не бегал, а ты уже очень далеко, ты – я знаю, меня не оставишь, но все равно – так далеко! Я рванул из последних сил, уже – признаюсь тебе честно – сдаваясь, уже готовый, ладно, черт с ним, получить пулю, вступить в убийственную для меня драку, я уже даже темп сбавлял, когда в глубине двора мелькнула двумя багровыми огнями какая-то громада – черная, как сама темень двора, и я услышал мощное чваканье открывшейся двери – там машина, и так быстро и неожиданно оказался рядом, а ты уже крутила ключ в зажигании, колотя, истерично колотя еще неживой педалью газа по полу, и джип – чернющий, еще более громадный, чем тот снежно-белый Lexus Rx 470, рванул вперед, и моя незакрытая дверь с грохотом танкового выстрела саданула по пискнувшей дворовой машине, и смяла ее, кажется, от задницы до капота, и закрылась, едва не оттяпав мне руку.
Мы набирали скорость – вела ты очень небрежно, но очень быстро, – подцепили боком мусорные баки, сгребли чересчур высунувший задницу в проезд мотоцикл, протянули за собой и саданули его об еще одну машину-дворнягу, и вокруг был рев потревоженных сигнализаций, а на спидометре было восемьдесят, а ехали мы по узенькому, заставленному машинами двору, и нас подбросило – ты цапнула колесом бордюр, и кинуло обратно вниз, с легким заносом, и двор, длинный, как коридор в морге, закончился прямо в перекресток, и, обращенный к нам, явственно и безапелляционно горел красный свет, и в трехстах метрах ниже по проспекту переливался салатовым жилетом гаишник, которых всегда выставляли в немереных количествах охранять репетицию. И ты выскочила на красный прямо под колеса – даже не одной машины, а целого потока, и нажала что-то под рулем, и джип издал рев сирены, и гаишник должен был припухнуть с такой наглости – ты летела прямо на него, ему пришлось даже отступить на тротуар, и его рука с палочкой пошла вверх – он сейчас махнет нам и, когда ты не остановишься, – прыгнет в машину и понесется нам вслед с красным проблесковым, а если мы не остановимся (а мы не остановимся!) – применит табельное оружие по колесам, что, с учетом нашей скорости, введет нас в ступор, завалит машину на бок, и что же, черт побери, он делает?
Его рука продолжала ползти вверх и уже достигла груди, и дальше, на уровне плеча, палочка выпадает из его руки и повисает на шнурочке, а рука – рука продолжает подниматься, подниматься вверх, и – ну ничего себе! – она прикладывается к фуражке в вытянутом виде – он отдает тебе, он отдает нам честь – нам, только что проехавшим на красный. Ты ехала посреди двух полос, ехала сто сорок по городу и нагло мигала дальним светом добропорядочным машинкам, ползущим по своим детским дорожкам, раздвигая, разгребая их, – и они жались к бордюрам с двух сторон, давая дорогу черненому, тонированному, ревущему, и мы – мы были в этой машине. Проспект Победителей закончился, ты, почти не сбавляя скорости, вывернула на кольцевую и дальше, на гродненскую трассу. Мы бежали из города? Мы решили умчаться за границу – до Евросоюза сто двадцать километров, и паспорт у меня с собой, и первый страх от твоей езды у меня прошел, и нужно было спросить что-нибудь ироничное, и я изобразил что-то вроде:
– Бежим по льду Финского в Германию? Вернувшись, сделаем революцию?
Но ты не настроена была шутить. Ты, беспомощно виляя по полосам, вздрагивая, когда дорога делала очередной изгиб, вся прикованная к дороге, хрипло сказала:
– Мы едем в Тарасово. Там у меня дом. За нами никто не гонится.
Проверить это было просто, достаточно одного взгляда в зеркало заднего вида: ни одна из машин жиденького потока гродненской трассы не пыталась выжать такую бешеную скорость. А ты небрежным движением коснулась какой-то кнопки, и динамики взвизгнули запредельными, зверскими звуками, где-то под ногами, разнося вибрации по всей поверхности железа так, что слушать можно было, даже зажав уши – собственной диафрагмой, – задышал исполинский сабвуфер, и нереальная, потусторонняя мелодия, будто на небесной терке натирают субстанцию, из которой делают взрывы снарядов или грохот грома, – оглушила. Chemical Brothers. Лучшая музыка для ночи и беспредельной езды. Мы неслись по крайней левой, и ни одна тварь этого мира не могла угнаться за нами, и доносящийся как будто из моей, из твоей глотки голос пел – нет, кричал, кричал на пределе: I need to believe, – и пока эта мелодия будет прокачивать звуки, пока Chemicals будут дышать сабвуфером в этой грозной машине, нам ничего не грозит, и мы никогда не умрем. I need to believe! Громче, еще громче, и педаль газа до упора, не слышно даже рева огромного, в пять литров, двигателя – только два пятна света впереди, и огни встречных, и быстрое мелькание фар заднего света обычных смертных, и мы – два бога, под этот мощный, волнующий, грохочущий, как на небесной колеснице, – I need to believe!
Машина Зевса, музыка Зевса, у меня в руках молнии, в твоих глазах отражается свет фар, и мы танцуем, прыгая на сиденьях, мы только что ушли от погони, от смертельной опасности, да что там – давай честно, нас чуть не постреляли, причем непонятно, за что и кто, – какой-то рыжий мудак, боров, оказавшийся таким пугающе быстрым бегуном! Но вот теперь мы рвем через ночь, двигатель – на четырех с половиной тысячах, и наверняка работает турбина, эти полторы тонны металла рассекают ночь как пуля, и нам никто не страшен, и нас никогда и никто не посмеет догнать, пока звучит эта мелодия, и, если вдруг нам случится умереть сейчас – это будет совсем не страшно, главное, чтобы грохотал этот I need to believe! I need to believe! И непонятно: эта ночь такая потому, что грохочут Chemicals, или Chemicals вставляют так потому, что ночь, и дорога, и скорость; но вот эта мелодия – как боевой клич, как заклинание берсерка, эта мелодия и есть мы, наша уверенность, никто и ничего с нами не сделает – у нас номера «КЕ», и менты отдают нам честь, а если вдруг сверху сейчас появится вертушка со снайперами, мы просто сделаем громче звук, и вся эта мразь ссыплется с небес одним усилием нашей воли. I need to believe! Я тоже хочу поверить, поверить – тебе, поверить – себе, и я – верю! Все по-настоящему. Я не представляю, кто ты, что ты, но я не могу оторвать глаз от того, как ритмично двигаются твои плечи в полумраке нашего ревущего тигра. Из-за тебя за нами гнались, но мы сбежали от погони и несемся сейчас куда-то в Тарасово, а Тарасово, как известно, – местная Рублевка, оно даже круче Рублевки, ведь на Рублевке живут олигархи, а не те, кто их доит, у тех, кто их доит, – спецдачи в неприметных местах, названий которых никто не знает; а в Тарасово живут именно те, кто доят, те, кому все можно, те, у кого спецномера: партия и правительство, – любого бизнесмена за такой вот четырехэтажный дворец моментально раскулачили бы в диссиденты.
Я очень давно здесь не был: деревенька стала еще больше походить на Швейцарию, с той лишь оговоркой, что в домах, предназначенных для пяти-семи швейцарских семей, здесь жил всего один какой-нибудь скромняга уровня заместителя начальника управления МГБ. Все постройки были строго ранжированы – видно, кто был начальником, кто подчиненным, – крыши везде более или менее плоские, чтобы обозначать перспективы для служебного роста, а свежедостроенные этажи демонстрировали недавние продвижения вверх по служебной лестнице. И свет в окнах был таким уютным, таким добрым, что я бы даже и не подумал… Но думал я сейчас, конечно, о том, какой из этих дворцов принадлежит тебе, в каком из них ты живешь и на каких ролях.
Но Тарасово закончилось, и я вопросительно повернулся к тебе, но ты лишь двинула щекой, предложив набраться терпения, и мне представилось, что ты сейчас отъедешь метров на пятьсот, развернешься и, набрав скорость, влепишься в ворота вот того, самого последнего в деревеньке, дома, раскрошив их и сразу оказавшись на лужайке. Это, уж извини, целиком соответствовало бы твоему стилю вождения, но мы углублялись все дальше в лес, и справа потянулся сплошной забор, сделанный из пятиметровых железобетонных блоков, – скорее всего, какая-то военная часть исполинских размеров, ибо ехали мы уже – с твоей-то скоростью! – минут десять, и я только сейчас вот заметил интересную особенность: на заборе через каждый десяток метров – фонарь, а под ним – камера, а у камеры, в самом низу – зеркало «рыбий глаз», улучшающее обзор и исключающее мертвые углы, и на самом верху забора – несколько рядов колючей проволоки. Охрана почище, чем в тюрьме, – что же это за место? А впереди уже горело несколько одиноких фонарей, и на обочине стояло сразу два знака «кирпич», справа и слева, но ты, конечно, ускорилась (лишение прав управления на два с половиной года и штраф в девятьсот долларов, между прочим). И дорога – хорошая, широкая дорога с идеальным покрытием и разметкой – так странно для таких глухих мест! – окончилась аккуратным тупиком, здесь ты повернула и уперлась в глухие ворота, на которых, усугубляя сходство с военной базой, были зачем-то намалеваны две огромные красные звезды. Никаких вывесок, никаких вывесок.








